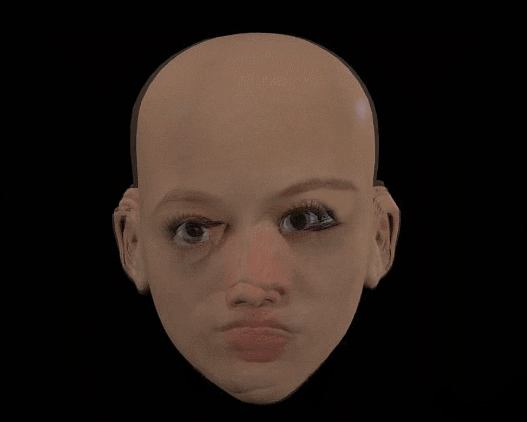Р.О. Якобсон
Будетлянин науки*
I

чебные годы двенадцатый-тринадцатый и тринадцатый-четырнадцатый (о тех временах я привык мыслить именно в рамках учебных годов) были временем литературного и научного созревания. В те годы казалось несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке — вернее, в науках — эпоху катаклизмов. Тогда я заслушивался лекциями молодого физика, вернувшегося из Германии, который рассказывал о первой работе Эйнштейна по теории относительности — это было ещё до общей теории относительности, — а с другой стороны чередовались впечатления от французских художников и нарождающейся русской живописи, уже наполовину беспредметной, а затем и полностью беспредметной.
После французского пролога, который для меня связан в первую голову с Малларме — хотя я тогда же освоился и с Рембо, и с некоторыми другими, более поздними поэтами — пришли, наконец, откровения новейшей русской поэзии, начиная с «Пощёчины общественному вкусу», — это были незабываемые переживания. И ясно рисовался единый фронт науки, искусства, литературы, жизни, богатый новыми, ещё неизведанными ценностями будущего. Казалось, творятся новые законы науки, науки как таковой, открывающей бездонные перспективы и вводящей в обиход новые понятия — понятия, о которых тогда говорилось, что они не укладываются в привычные рамки здравого смысла. Так нас учили физики Умов и Хвольсон, которых я слушал и читал.
1
То же оказалось во всех других областях. Открывалась неведомая, головокружительная тематика времени и пространства. Для нас не было границы между Хлебниковым-поэтом и Хлебниковым-математическим мистиком. К слову сказать, когда я пришёл к Хлебникову — обновителю поэтического языка, он мне тут же начал рассказывать о своих математических разысканьях и раздумьях.
Эти же годы, незадолго до первой мировой войны, принесли увлечение всякими лекционными и дискуссионными вечерами. Спорили о т.н. кризисе театра, о проблемах театрального новаторства: горячо обсуждались опыты Крэга и Вахтангова, Таирова, Евреинова, Мейерхольда. Каждая постановка — и московская, и петербургская — вызывала волнение и споры. Были, конечно, также лекции и дискуссии на литературные, философские и социолого-публицистические темы.
Вечера футуристов собирали невероятное количество публики — Большой зал Политехнического музея был набит битком! Относились к ним так: многие приходили ради скандала, но широкая студенческая публика ждала нового искусства, хотела нового слова — причём — заметьте — прозой мало интересовались. Это было время, когда читатели тяготели почти исключительно к поэзии. Если бы спросить тогда кого угодно из нашего круга, что происходит в русской литературе, — в ответ последовала бы ссылка на символистов, особенно на Блока и Белого, отчасти, быть может, Анненского, или же на тех поэтов, кто пришёл после символистов. Но едва ли кто бы вспомнил о Горьком: нам казалось, он исписался ещё до 1905 года. Позднюю прозу Сологуба очень не любили, и единственное, что из его прозы признавали — это тоже была третьегодняшняя литература — «Мелкого беса» и мелкие рассказы. Читали Ремизова, но как-то между прочим, а в общем считалось, что главное — стихи, что поэзии дано сказать воистину новое слово. Кроме таких больших публичных вечеров было много замкнутых групп, кружков и частных сходок, где новому слову причиталось главное место.
* * *
Маяковского я увидел впервые в 1911 году. Как ни странно, эти ранние случайные снимки памяти часто совпадают с вехами его биографии.
Лично я в то время был куда более связан с художниками, чем с кругом писателей и поэтов. И у меня было два друга. Один из них был моим сотоварищем по Лазаревскому институту — Исаак Кан,2 очень рано начавший искания новых форм в живописи. Эпоха абстрактного искусства ещё только мерещилась — но уже решались проблемы освобождённого света и освобождённых объёмов. Обольщали французы. Уже склонялись имена Матисса и Сезанна. Хотя полотна Пикассо уже красовались в Щукинском особняке, мы туда не были вхожи и узнали о Пикассо чуть-чуть позднее. Но были другие. В Третьяковской галерее висело несколько очень больших художников, новых, французских — то есть новых для того времени — художников-постимпрессионистов. И мы переходили от увлечения импрессионистами именно к этому постимпрессионизму, который, собственно, уже нёс в себе отрицание импрессионизма. Мы увлекались Сезанном и Ван Гогом, а также — но меньше, чем Ван Гогом — мы увлекались Гогеном и рядом иных новаторов.
очень рано начавший искания новых форм в живописи. Эпоха абстрактного искусства ещё только мерещилась — но уже решались проблемы освобождённого света и освобождённых объёмов. Обольщали французы. Уже склонялись имена Матисса и Сезанна. Хотя полотна Пикассо уже красовались в Щукинском особняке, мы туда не были вхожи и узнали о Пикассо чуть-чуть позднее. Но были другие. В Третьяковской галерее висело несколько очень больших художников, новых, французских — то есть новых для того времени — художников-постимпрессионистов. И мы переходили от увлечения импрессионистами именно к этому постимпрессионизму, который, собственно, уже нёс в себе отрицание импрессионизма. Мы увлекались Сезанном и Ван Гогом, а также — но меньше, чем Ван Гогом — мы увлекались Гогеном и рядом иных новаторов.
Другой друг был Сергей Байдин,3 человек, вошедший в тесные ряды поклонников и учеников Михаила Ларионова. (В последние годы жизни Ларионова, когда я с ним встретился в Париже, он подробно вспоминал — у Ларионова была феноменальная память, — в частности, этого Байдина как одного из первых абстрактных художников, который уже в тринадцатом году — в эпоху выставок «Мишень» и «№ 4»4
человек, вошедший в тесные ряды поклонников и учеников Михаила Ларионова. (В последние годы жизни Ларионова, когда я с ним встретился в Париже, он подробно вспоминал — у Ларионова была феноменальная память, — в частности, этого Байдина как одного из первых абстрактных художников, который уже в тринадцатом году — в эпоху выставок «Мишень» и «№ 4»4 — был воистину даровитым беспредметником).
— был воистину даровитым беспредметником).
Вот вместе с ними, с Байдиным и Каном, я пошёл на похороны Серова.5 А Серова мы всё ещё по-прежнему любили, при всём нашем неуклонном охлаждении и к «Миру искусства», и к «Союзу русских художников». Мы были на вернисаже «Мира искусства», в январе одиннадцатого года, и там две картины Серова своими новыми исканиями вызывали среди публики и восторг, и недоумение. Одна была «Похищение Европы», а другая — портрет обнажённой Иды Рубинштейн.6
А Серова мы всё ещё по-прежнему любили, при всём нашем неуклонном охлаждении и к «Миру искусства», и к «Союзу русских художников». Мы были на вернисаже «Мира искусства», в январе одиннадцатого года, и там две картины Серова своими новыми исканиями вызывали среди публики и восторг, и недоумение. Одна была «Похищение Европы», а другая — портрет обнажённой Иды Рубинштейн.6 Стояли мы перед этими полотнами среди рассуждавших и большей частью осуждавших посетителей. В числе их — дородная барынька, жена грузинского князя Гугунавы, художника, которого я знал, — он был не то в родстве, не то в свойстве с моими близкими друзьями, семьёй Жебровских.7
Стояли мы перед этими полотнами среди рассуждавших и большей частью осуждавших посетителей. В числе их — дородная барынька, жена грузинского князя Гугунавы, художника, которого я знал, — он был не то в родстве, не то в свойстве с моими близкими друзьями, семьёй Жебровских.7 Никогда не забуду громкого ропота княгини: „Бесстыдница! Хоть было бы ей что показывать, а то ведь кошка драная!”
Никогда не забуду громкого ропота княгини: „Бесстыдница! Хоть было бы ей что показывать, а то ведь кошка драная!”
Похороны — как тогда бывало на русских похоронах — с громадными толпами студентов, которые шли до самого кладбища. Мы были в доме Серова. Он лежал в гробу. Очень запомнился его необыкновенно красивый профиль в гробу. Мы двинулись, и когда дошли до кладбища, вдруг послышался свежий, зычный голос. Мы стояли довольно далеко и от гроба, и от семьи художника. Спрашивали, кто это, — говорят: один из лучших учеников Серова. Это был Маяковский; он взволнованно и ярко вспоминал Серова и торжественно обещал, что то, чего не успел сделать Серов, будет осуществлено молодым поколением.8 До тех пор я о Маяковском не слыхал.
До тех пор я о Маяковском не слыхал.
В следующий раз я видел Маяковского на выставке “Бубнового валета”, в начале двенадцатого года.9 Помню, что я не опознал серовского ученика — вышел взлохмаченный парень, в потёртой бархатной кофте, и сразу началась у него перебранка с устроителями выставки. Его буквально выталкивали оттуда. Боялись какого-то скандала. Эти устроители выставки меня ошеломили и покоробили: всё-таки, казалось бы, художники-новаторы: чего они струсили? Из этих художников я ближе всего знал Адольфа Мильмана, был он старшим братом моего тех времён большого приятеля Семёна Мильмана. Я спросил его, в чём дело. „А это — дескать — просто хулиганы”. Адольф Мильман был пейзажист, я сказал бы, чуть дерэновского толка. Он принадлежал к «Бубновому валету», сам к кубизму относился скептически, но перезнакомил меня со всеми, кто был тогда в «Бубновом валете», — Машков, Кончаловский, Лентулов, Якулов и другие — впрочем, это было знакомство на первых порах поверхностное.10
Помню, что я не опознал серовского ученика — вышел взлохмаченный парень, в потёртой бархатной кофте, и сразу началась у него перебранка с устроителями выставки. Его буквально выталкивали оттуда. Боялись какого-то скандала. Эти устроители выставки меня ошеломили и покоробили: всё-таки, казалось бы, художники-новаторы: чего они струсили? Из этих художников я ближе всего знал Адольфа Мильмана, был он старшим братом моего тех времён большого приятеля Семёна Мильмана. Я спросил его, в чём дело. „А это — дескать — просто хулиганы”. Адольф Мильман был пейзажист, я сказал бы, чуть дерэновского толка. Он принадлежал к «Бубновому валету», сам к кубизму относился скептически, но перезнакомил меня со всеми, кто был тогда в «Бубновом валете», — Машков, Кончаловский, Лентулов, Якулов и другие — впрочем, это было знакомство на первых порах поверхностное.10
Через некоторое время я увидал Маяковского вместе с каким-то толстым человеком. Толстый человек с лорнетом оказался Бурлюком. Я их видел на том самом концерте Рахманинова, о котором в своей автобиографии рассказывает Маяковский.11 Помню, как стоял он у стены с откровенной, тоскливой скукой на лице; на этот раз я опознал его. Его лицо удивило, и я в него упорно всматривался.
Помню, как стоял он у стены с откровенной, тоскливой скукой на лице; на этот раз я опознал его. Его лицо удивило, и я в него упорно всматривался.
Вскоре после этого «Бубновый валет» устроил диспут, на котором был Маяковский: 25 февраля двенадцатого года. Это было, кажется, его первое публичное, дискуссионное выступление.12 На меня диспут произвёл большое впечатление, потому что там впервые я цепко учуял всё то брожение, все те новые вопросы искусства, назревшие и ставшие ребром, близёхонько и неотступно.
На меня диспут произвёл большое впечатление, потому что там впервые я цепко учуял всё то брожение, все те новые вопросы искусства, назревшие и ставшие ребром, близёхонько и неотступно.
А потом, поздним летом, вышла «Игра в аду»; я эту поэму-брошюру раздобыл и вчитался.13 Она меня поразила — поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих — это было в значительной степени пародийной версификацией, пародией на пушкинский стих. Меня это тут же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Кручёных. И в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма.
Она меня поразила — поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих — это было в значительной степени пародийной версификацией, пародией на пушкинский стих. Меня это тут же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Кручёных. И в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма.
Об итальянских футуристах я уже был достаточно осведомлён, потому что мой преподаватель французского языка в Лазаревском институте был Генрих Эдмундович Тастевен.14 У меня с ним были очень дружеские отношения; разучивать французский язык у него мне не приходилось. Я говорил по-французски с раннего детства, и вместо тех домашних работ, которые писали мои школьные товарищи, он мне давал специальные темы, сообразно с моими увлечениями. Собственно, таким путём возник мой, смело скажу, научный интерес к литературе.
У меня с ним были очень дружеские отношения; разучивать французский язык у него мне не приходилось. Я говорил по-французски с раннего детства, и вместо тех домашних работ, которые писали мои школьные товарищи, он мне давал специальные темы, сообразно с моими увлечениями. Собственно, таким путём возник мой, смело скажу, научный интерес к литературе.
Первая тема, которую он мне дал, это было «L’azur» Малларме. Только что вышла и только что попала в Москву книга Тибоде о Малларме.15 Она на меня произвела большое впечатление своим разбором стихов, своими попытками войти вовнутрь строя стихотворений. К этому я совершенно не привык. Вообще я должен сказать, что я в начале своей учёбы в Лазаревском институте (который, собственно, был средним училищем при высшем учебном заведении для востоковедов) думал, что займусь не то естествознанием — отец был инженер-химик и настраивал меня в этом направлении — займусь, мол, не то астрономией, не то геологией. Я всё время колебался — но никогда не допускал возможности заниматься чем-либо другим, кроме науки. Ещё в детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорил: „Изобретателем, а если не выйдет, то писателем”. Стать писателем мне казалось легко. Я в третьем классе редактировал литографированный журнал, писал стихи и прозу,16
Она на меня произвела большое впечатление своим разбором стихов, своими попытками войти вовнутрь строя стихотворений. К этому я совершенно не привык. Вообще я должен сказать, что я в начале своей учёбы в Лазаревском институте (который, собственно, был средним училищем при высшем учебном заведении для востоковедов) думал, что займусь не то естествознанием — отец был инженер-химик и настраивал меня в этом направлении — займусь, мол, не то астрономией, не то геологией. Я всё время колебался — но никогда не допускал возможности заниматься чем-либо другим, кроме науки. Ещё в детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорил: „Изобретателем, а если не выйдет, то писателем”. Стать писателем мне казалось легко. Я в третьем классе редактировал литографированный журнал, писал стихи и прозу,16 но стать изобретателем — вот что меня куда больше манило. От естественных наук, примерно в четвёртом классе, я перешёл к увлечению литературой, особенно поэзией, и решил: быть мне литературоведом. Но всё то, что я встречал в работах о литературе, мне сразу показалось глубоко недостаточным и совсем не тем, что надо. И особенно мне показалось необходимым для изучения литературы в первую очередь погрузиться в дебри языка.
но стать изобретателем — вот что меня куда больше манило. От естественных наук, примерно в четвёртом классе, я перешёл к увлечению литературой, особенно поэзией, и решил: быть мне литературоведом. Но всё то, что я встречал в работах о литературе, мне сразу показалось глубоко недостаточным и совсем не тем, что надо. И особенно мне показалось необходимым для изучения литературы в первую очередь погрузиться в дебри языка.
Так я решил сделаться языковедом; было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Заняв у дяди, я купил и читал без отрыва толковый словарь Даля, приобрёл «Записки по русской грамматике» и «Мысль и язык» Потебни и вообще всё больше клонился в сторону лингвистики.
Тастевен был очаровательный человек и очень тепло ко мне относился. Он был секретарём журнала символистов «Золотое руно», культурным деятелем богемно-интеллигентского типа, нисколько не учитель-педант того времени; я помню, как мы однажды шли с ним по коридору — пора была реакционная, с суровым нажимом на гимназистов и студентов, с целым рядом казённых запретов для нас. В то время, как мы разговаривали о символистах, подошёл воспитатель и сказал: „Разве Вы не знаете, что ученикам по этому коридору ходить запрещено?” Тастевен умолк. Меня это донельзя оскорбило.
После работы над стихотворением «L’azur» мне захотелось писать о том сонете, который, кажется, Тибоде считал самым трудным: «Une dentelle s’abolit». И я первым делом принёс Тастевену свой перевод в стихах этого сонета, умышленно поступаясь классическим стихосложением подлинника, и написал длинный разбор этого стихотворения.17 Это было в самом начале тринадцатого года, уже после моей первой работы о Тредиаковском.
Это было в самом начале тринадцатого года, уже после моей первой работы о Тредиаковском.
Дело в том, что в десятом году вышел «Символизм» Андрея Белого, с несколькими статьями о стихе — одна статья, где разбирались пушкинские строфы «Не пой, красавица, при мне», и одна по истории русского четырёхстопного ямба. Не на шутку увлекли меня эти опыты. Я в то время заболел, у меня была желтуха, и вот, лёжа в жару, я решил, под влиянием этих опытов, набросать разбор стихов Тредиаковского. Совершенно случайно у меня эта работа сохранилась.18 Это был статистический разбор поэм Тредиаковского по образцу исследований Белого и с ответом на тезис, что у русских поэтов восемнадцатого века главные уклонения от ударения — главные, как их Белый окрестил, „полуударения” — то есть главные безударные слоги на сильных долях стиха приходятся на его четвёртый слог, а в девятнадцатом веке главные уклонения приходятся на второй слог. Я показывал в дополнение к Белому, что у Тредиаковского и тот, и другой тип „полуударений” в крайней степени развит, то есть, как мне тогда казалось, началу организации определённого метрического типа предшествовал хаотический период совмещения обоих типов.19
Это был статистический разбор поэм Тредиаковского по образцу исследований Белого и с ответом на тезис, что у русских поэтов восемнадцатого века главные уклонения от ударения — главные, как их Белый окрестил, „полуударения” — то есть главные безударные слоги на сильных долях стиха приходятся на его четвёртый слог, а в девятнадцатом веке главные уклонения приходятся на второй слог. Я показывал в дополнение к Белому, что у Тредиаковского и тот, и другой тип „полуударений” в крайней степени развит, то есть, как мне тогда казалось, началу организации определённого метрического типа предшествовал хаотический период совмещения обоих типов.19
В самом конце двенадцатого года появилась «Пощёчина общественному вкусу», и в один из первых же дней я обзавёлся этим сборником.20 Это было одно из моих самых сильных художественных переживаний. Начиналось со стихов Хлебникова, и это то, что меня по-настоящему увлекло. Всё, что там было, я знал наизусть — «Змей поезда», «И и Э», затем «На острове Эзеле» и все эти маленькие стихи — то, что называли «Конём Пржевальского», ещё и пьеса «Девий бог».21
Это было одно из моих самых сильных художественных переживаний. Начиналось со стихов Хлебникова, и это то, что меня по-настоящему увлекло. Всё, что там было, я знал наизусть — «Змей поезда», «И и Э», затем «На острове Эзеле» и все эти маленькие стихи — то, что называли «Конём Пржевальского», ещё и пьеса «Девий бог».21 Всё это произвело просто потрясающее впечатление: его понимание слова, словесное мастерство — всё соответствовало тому, о чём я в то время мечтал. В этот момент я уже знал Пикассо. Его я в первый раз увидел, когда на диспуте «Бубнового валета» Бурлюк показывал на экране снимки его картин.22
Всё это произвело просто потрясающее впечатление: его понимание слова, словесное мастерство — всё соответствовало тому, о чём я в то время мечтал. В этот момент я уже знал Пикассо. Его я в первый раз увидел, когда на диспуте «Бубнового валета» Бурлюк показывал на экране снимки его картин.22 Все кричали, большинство либо возмущалось, либо потешалось. Ещё более овладели мной эти картины, когда, при участии Мильмана, я попал в галерею Щукина, где они висели в особой комнате, окружённые африканскими скульптурами, которые, говорят, выбирал сам Пикассо.
Все кричали, большинство либо возмущалось, либо потешалось. Ещё более овладели мной эти картины, когда, при участии Мильмана, я попал в галерею Щукина, где они висели в особой комнате, окружённые африканскими скульптурами, которые, говорят, выбирал сам Пикассо.
В январе тринадцатого года был скандал, когда какой-то сумасшедший Балашов ножом или бритвой порезал в Третьяковской галерее картину Репина «Иван Грозный и его сын» (в сталинские времена она в шутку называлась «Иван Грозный оказывает первую помощь своему сыну») — тогда было много шума по этому поводу. Обвиняли футуристов и очень этим пользовались для борьбы против них. Футуристы, разумеется, не имели к выходке никакого отношения. Тогда «Бубновый валет» устроил диспут.23 На этом диспуте встал и выступил сам Репин, который говорил: „Безобразно — бороться с художником!” и привлёк к себе большую симпатию публики. Он умел говорить. Главным докладчиком был поэт Максимилиан Волошин. И вдруг выступил Маяковский, очень резко — у него всегда был очень резкий тон по отношению к “бубнововалетчикам”, которых он считал завзятыми соглашателями между кубизмом и куда более консервативным искусством. По поводу того, что они позвали Волошина, он сказал: „Есть об этом в стихе Пруткова”. (Он вообще очень любил цитировать Пруткова.) И он прочёл стихотворение о попадье, которая позвала лакея, потому что попал червяк:
На этом диспуте встал и выступил сам Репин, который говорил: „Безобразно — бороться с художником!” и привлёк к себе большую симпатию публики. Он умел говорить. Главным докладчиком был поэт Максимилиан Волошин. И вдруг выступил Маяковский, очень резко — у него всегда был очень резкий тон по отношению к “бубнововалетчикам”, которых он считал завзятыми соглашателями между кубизмом и куда более консервативным искусством. По поводу того, что они позвали Волошина, он сказал: „Есть об этом в стихе Пруткова”. (Он вообще очень любил цитировать Пруткова.) И он прочёл стихотворение о попадье, которая позвала лакея, потому что попал червяк:
Ах, если уж заполз тебе червяк за шею,
Сама его дави, а не давай лакею.
Выразительно прочтя эти двусмысленные строки, под гром аплодисментов, он сравнивал «Бубновый валет» с теми, кто живёт сомнениями и, будучи не в состоянии разрешить их, зовёт на помощь подставное лицо, лишённое всякого касательства к новой живописи.24
Это было горячее время. Был второй диспут: 24 февраля тринадцатого года. Это я очень хорошо помню: как Маяковскому не хотели давать слово. Публика принимала самое деятельное — и за, и против — участие, но кто-то его не пускал, кто-то лишил его слова за то, что он слишком резко выступил. И тогда он появился из каких-то других дверей Политехнического музея и всех перекричал. У него был потрясающе зычный и при этом необычайно симпатичный голос, гипнотически к себе располагающий, голос колоссального диапазона. И тогда он очень горячо выступал, за новую поэзию, за Хлебникова.25
В «Пощёчине…», я помню, Кана поразили в то время два стихотворения Маяковского, «Ночь» и «Утро». Он с успехом читал их девушкам, выдавая за свои. А меня они мало трогали. Я кричал ему, что поэт будущего, настоящий футурист — это Хлебников. Остальные на меня произвели куда меньшее впечатление. Но я знал наизусть напечатанное там стихотворение Бенедикта Лившица. Кандинский мне совсем не нравился (он потом протестовал против того, что его включили, заявив, что он за новаторство, но против скандалов26 ). Я знал уже его книгу «Das Geistige in der Kunst», казавшуюся мне слишком связанной с немецким искусством недавнего прошлого и его туманными, отвлечёнными лозунгами. «Пощёчиной…» я страшно гордился. И в дальнейшем упорно ориентировался на всё, что выходило из-под хлебниковского пера.
). Я знал уже его книгу «Das Geistige in der Kunst», казавшуюся мне слишком связанной с немецким искусством недавнего прошлого и его туманными, отвлечёнными лозунгами. «Пощёчиной…» я страшно гордился. И в дальнейшем упорно ориентировался на всё, что выходило из-под хлебниковского пера.
Каждые рождественские каникулы я ездил в Петербург. Я пошёл на выставку «Союза молодёжи» — там почти каждый год была выставка. Помню, как я стоял на лестнице, и перед самым входом на выставку стояли несколько художников. Из молодых был Школьник, была Розанова, была и Богуславская, с которой я потом был очень дружен, с ней и с её мужем Пуни. Она была в то время очень красива, по-своему элегантна. Кто-то сказал:
— А интересно, с кем был бы теперь Пушкин, если бы он был жив?
А она отвечала уверенным, задорным голосом:
— С нами, конечно!
Это было время яростных стычек и вызовов, но для молодёжи они как-то отождествлялись не столько с реакционными художниками, сколько с полицией, потому что полиция всё время вмешивалась. Но хотя полиция вмешивалась, ей не всегда нравились те, за кого она вмешивалась. Когда приехал Бальмонт из-за границы,27 мы пошли небольшой группой слушать его вечер стихов. Он декламировал непростительно вяло и нудно:
мы пошли небольшой группой слушать его вечер стихов. Он декламировал непростительно вяло и нудно:
Тринадцать лет! Тринадцать лет!
Да разве это много?
и так далее. Семён Мильман засвистел, и его задержал полицейский. Хотел составить протокол, что было бы опасно, потому что Мильман был ещё гимназистом и ему, по тогдашнему уставу, вообще не полагалось выходить по вечерам из дому. Мы с Каном его всячески отстаивали перед полицейским. Устраивало этот вечер Женское общество. Мы говорили:
— Ну почему? Вот аплодируют, выражают своё отношение. Можно аплодировать? А свистеть — нельзя?
И тут полицейский, пригрозивший Мильману, вдруг высказался:
— Да вы поймите, если бы я не был в форме, я бы сам свистел. Уж очень мне противны эти члены без членов и те, кто им аплодирует!
Очень хорошо мне запомнился вечер, устроенный 7 мая тринадцатого года Обществом свободной эстетики в здании Московского литературного кружка в честь вернувшегося из-за границы Бальмонта . Мне непременно хотелось попасть на это собрание, но ходить на такие заседания учащимся в форме воспрещалось. Вообще учащимся в форме грозил целый ряд запретов. По этому поводу ходила шутка. Был такой лектор Ермилов, который читал на всякие освободительные темы. В частности, у него была лекция «Когда же придёт настоящий день?» — заглавие добролюбовской статьи — и на плакатах красовалось предупреждение, что учащимся вход воспрещается. А кто-то саркастически приписал: „Когда же придёт настоящий день, учащимся в форме вход воспрещается”. И мы действительно снимали форму. Я взял у кузена штатский пиджак — у меня такового ещё не было — и пошёл на собрание в честь Бальмонта.
Кто-то мне заранее сообщил, что на этом собрании будет выступать Маяковский.28 Заговорил он возбуждённо и очень эффектно, с выразительной расстановкой слов:
Заговорил он возбуждённо и очень эффектно, с выразительной расстановкой слов:
— Константин Дмитриевич, Вы слушали приветствия от имени своих друзей, теперь послушайте приветствие Ваших врагов. Было время, мы все вторили „Качайтесь, качели” и так далее, все мы жили этой усадебной поэзией, но её время кончилось, а теперь… — и он стал читать отрывки из своих городских, урбанических стихов, если не изменяет память — «Шумики, шумы». — У вас, — продолжал он, — была скука повторений: „Любите, любите, любите, любите, любите любовь”, а у нас… — и он процитировал Хлебникова, кажется, «Любхо», с его уймой однокоренных словоновшеств.
В ответ на его нападки последовала отповедь председательствующего Брюсова:
— Мы пришли, чтобы приветствовать Константина Дмитриевича, а не чтобы его судить.
А Бальмонт тут же ответил примирительно стихами (которые он, между прочим, подарил и надписал Маяковскому) о том, что „мы оба в лазури”, оба, так сказать, сыны поэзии. Когда говорил Маяковский, очень шикали. Двое из яростно шикавших потом вошли в узкий круг Маяковского. Я их лично знал, и вовсю рукоплескал назло.29
* * *
С Хлебниковым я познакомился в конце декабря тринадцатого года. Я решил, что необходимо встретиться и побеседовать. У меня перед ним было восхищение, не поддающееся никаким сравнениям.
Уже вышел второй альманах «Садок судей». В то время я нашёл у знакомых и чуть не зачитал уже раритетный первый «Садок»30 — я считал, что владельцам он ни к чему, но они потребовали его обратно, — пришлось вернуть. Первый «Садок судей» меня ошеломил, а когда я прочёл в рецензии Городецкого на второй «Садок», что в «Студии импрессионистов», в том же десятом году, были напечатаны стихи Хлебникова «Заклятие смехом», они меня просто потрясли.31
— я считал, что владельцам он ни к чему, но они потребовали его обратно, — пришлось вернуть. Первый «Садок судей» меня ошеломил, а когда я прочёл в рецензии Городецкого на второй «Садок», что в «Студии импрессионистов», в том же десятом году, были напечатаны стихи Хлебникова «Заклятие смехом», они меня просто потрясли.31
Хлебников снимал комнату где-то у чёрта на куличках, именовавшихся чем-то вроде каменноостровских Песков. Я помню, как искал его жилище, помню, что был пронзительный и для москвича необыкновенно сырой холод, так что всё время приходилось закрывать нос платком. У автора «Смехачей» телефона не оказалось, и я пришёл не предупредив. Его не было дома, я просил передать, что зайду завтра утром, и на следующий день, тридцатого декабря тринадцатого года, с утра заявился к нему и принёс с собой для него специально заготовленное собрание выписок, сделанных мною в библиотеке Румянцевского музея, из разных сборников заклинаний — заумные и полузаумные. Часть была извлечена из сборника Сахарова — бесовские песни, заговоры и вдобавок детские считалки и присказки. Хлебников с пристальным вниманием стал немедленно всё это рассматривать и вскоре использовал эти выписки в поэме «Ночь в Галиции», где русалки читают Сахарова.32
Между тем вошёл Кручёных. Он принёс из типографии первые, только что отпечатанные экземпляры «Рява».33 Автор вручил мне один из них, надписав: В. Хлебников Установившему родство с Солнцевыми девами и Лысой горой Роману О. Якобсону в знак будущих Сеч. Это относилось, объяснял он, и к словесным сечам будетлянским, и к кровавым боям ратным. Таково было его посвящение.
Автор вручил мне один из них, надписав: В. Хлебников Установившему родство с Солнцевыми девами и Лысой горой Роману О. Якобсону в знак будущих Сеч. Это относилось, объяснял он, и к словесным сечам будетлянским, и к кровавым боям ратным. Таково было его посвящение.
Я спешил поделиться с Хлебниковым своими скороспелыми размышлениями о слове как таковом и о звуке речи как таковом, то есть основе заумной поэзии. Откликом на эти беседы с ним, а вскоре и с Кручёных, был их совместный манифест «Буква как таковая».34
На вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал:
— Грибоедова и Алексея Толстого.
Оно и понятно, если вспомнить такие стихи, как «Маркиза Дезес» и «Семеро». На вопрос о Тютчеве последовал похвальный, но без энтузиазма, отзыв.
Я спросил, был ли Хлебников живописцем, и он показал мне свои ранние дневники, примерно семилетней давности. Там были цветными карандашами нарисованы различные сигналы.
— Опыты цветной речи, — пояснил он мимоходом.
С Алексеем Елисеевичем Кручёных у нас сразу завязалась большая дружба и оживлённая переписка. К сожалению, много писем погибло, в том числе все его ко мне письма. Часто писали мы друг другу на теоретические темы. Помню, что раз он написал мне насчёт заумной поэзии: „Заумная поэзия — хорошая вещь, но это как горчица: одной горчицей сыт не будешь”.35 По-настоящему он ценил только поэзию Хлебникова, но не всё. Маяковским он не интересовался.36
По-настоящему он ценил только поэзию Хлебникова, но не всё. Маяковским он не интересовался.36
Кручёных ко мне приезжал в Москву. Снимал он в то время комнатёнку где-то в Петербурге, и как-то меня пригласил. Жил он бедно, хозяйка принесла два блина. И он отрезал половинку для меня:
— Попробуйте, кажись, не вредно? Знаете, как говорят, баба не вредная.
Потом мы с Кручёных выпустили вместе «Заумную гнигу» (гнигу — он обижался, когда её честили книгой). Впрочем, неверно, что она вышла в шестнадцатом году. Кручёных поставил шестнадцатый год, чтобы это была гнига будущего. А вышла она раньше, во всяком случае, в работу всё было сдано в четырнадцатом году, и писал я это до войны.37
У Кручёных бывали очень неожиданные мысли, неожиданные, озорные сопоставления и колоссальное чувство юмора. Он замечательно декламировал и пародировал. Когда я был у него в Москве, незадолго до его смерти, когда ему было уже под восемьдесят, он всё ещё превосходно разыгрывал свои ненапечатанные произведения, манипулируя стулом, меняя интонацию, меняя произношение, громоздя забавные словесные игры. Он очень радовался нашим встречам; видно было, что он дорожил своим будетлянским прошлым и его соучастниками.38
В то утро я спросил у Хлебникова, свободен ли он для встречи Нового года:
— Можно ли вас пригласить?
Он охотно согласился. Вот мы и пошли втроём — Хлебников, Кан и я — в «Бродячую собаку».
Было много народу. Меня поразило, что это вовсе не был тип московских кабачков — было что-то петербургское, что-то немножко более манерное, немножко более отёсанное, чуточку прилизанное. Я пошёл вымыть руки, и тут же молодой человек заговаривает с фатовской предупредительностью:
— Не хотите ли попудриться?
А у него книжечка с отрывными пудреными листками.
— Знаете, жарко ведь, неприятно, когда рожа лоснится. Возьмите, попробуйте!
И все мы для смеху напудрились книжными страничками.
Мы сидели втроём за столиком и разговаривали. Хлебников хотел нам вписать какой-то адрес и по просьбе Кана написал ему в записную книжку четверостишие, которое тут же вычеркнул. Это было описание «Бродячей собаки», где стены были расписаны Судейкиным и другими. Запомнилась строчка:
Судейкина высятся своды.
Это снова тот же мотив, который вошёл в «Игру в аду», а потом есть у Маяковского в «Гимне судье» — свод законов.
39
Словесная перекличка Судейкина и судьи дала тут повод для каламбура. Мне он написал какой-то вариант двух-трёх строк из «Заклятия смехом».
Подошла к нам молодая, элегантная дама и спросила:
— Виктор Владимирович, говорят про вас разное: одни, что Вы — гений, а другие — что безумец. Что же правда?
Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил:
— Думаю, ни то, ни другое.
Принесла его книжку, кажется, «Ряв!», и попросила надписать. Он сразу посерьёзнел, задумался и старательно начертал: „Не знаю кому, не знаю для чего”.
Его очень вызывали выступить — всех зазывали. Он сперва отнекивался, но мы его уговорили, и он прочёл «Кузнечика», совсем тихо и в то же время очень слышно.
Было очень тесно. Наседали и стены, и люди. Мы выпили несколько бутылок крепкого, приторно-сладкого барзака. Пришли мы туда очень рано, когда всё ещё было мало народу, а ушли оттуда под утро.
Мною овладело и росло невероятное увлечение Хлебниковым. Это было одно из самых порывистых в моей жизни впечатлений от человека, одно из трёх поглощающих ощущений внезапно уловленной гениальности. Сперва Хлебников, через год — Николай Сергеевич Трубецкой, а спустя ещё чуть ли не три десятка лет — Клод Леви-Стросс. В отношении последних двоих это была первая встреча с незнакомцами, несколько почти случайно оброненных и услышанных слов, а Хлебниковым я уже давно зачитывался и изумлялся прочитанным, но вдруг в тиши новогодней пирушки я его увидел совсем другим и немыслимо, безраздельно связанным со всем тем, что я из него вычитал. Был он, короче говоря, наибольшим мировым поэтом нынешнего века.
* * *
Те мои товарищи по Лазаревскому институту, которые увлекались литературой и культурой, тогда очень интересовались манифестами Маринетти. С ними мы были знакомы через Тастевена и через газеты, вопреки их ругани по адресу футуристов — мы считали, что это газетный консерватизм, а футуризм увлекал как живое движение. И в это время Тастевен выпустил книгу о футуризме, с переводами манифестов Маринетти, и договорился с ним о его приезде в Россию.
40

Приехал Маринетти, в конце января четырнадцатого года. И мы уже были готовы если не „закидать тухлыми яйцами”, как предложил Ларионов,
41
то, во всяком случае, очень враждебно к нему относиться.
Маринетти был большой дипломат и умел себя поставить в известных кругах публики. Он говорил по-французски с сильным итальянским акцентом, но очень хорошо. Я Маринетти раза два-три слушал. Он был ограниченный человек, с большим темпераментом, с умением внешне эффектно читать. Но всё это нас не прельщало. Он совершенно не понимал русских футуристов.
Хлебников был страшно против — так же, как и Ларионов вначале. Потом Ларионов и Маринетти начали вместе выпивать. Они пили, потому что понимать друг друга они не понимали — Ларионов ему только показывал свои картины и рисунки — свои и приятелей. Никогда не забуду одно из выступлений Маринетти. Дискуссия шла по-французски, довольно вяло. Разговор шёл исключительно на тему о итальянском футуризме, о его отношении к итальянской литературной традиции, к французам. Всё это как-то тянулось. Маринетти был очень вежлив, продолжал дискуссию. А Ларионову надоело это слушать, тем более что он ничего не понимал, и он ему сказал: „Пойдём выпьем!” А тот не понимал. Тогда Ларионову пришла в голову блестящая идея, и он похлопал себя пальцем по шее — что называется, предложил залить за воротник — но Маринетти, конечно, этого не понял. Тогда Ларионов сказал: „Какой дурак! И этого не понимает!” Ему казалось, что такие жесты общеприняты.
42
После этого мы все пошли выпить в «Альпийскую розу» — немецко-русский ресторан недалеко от Кузнецкого моста. Там мы сидели, пили водку. А я им был нужен, потому что почти никто из наших не говорил по-французски, и я служил как бы переводчиком.43 Маринетти заговорил со мной и сказал:
Маринетти заговорил со мной и сказал:
— Ecoutez, ne pensez pas — j’aime la Russie, j’aime les russes, je pense que les femmes russes sent les plus belles du monde, par exemple, — и он назвал Наталью Крандиевскую, жену Алексея Толстого, и ещё кого-то „et je me comprends dans les femmes. Mais je dois dire que les poètes russes ne sont pas des futuristes et qu’il n’y a pas de futurisme en eux”.
Он меня спросил, кого я считаю футуристом. Я ответил — Хлебникова, на что Маринетти сказал, что это поэт каменного века, не знает современности. Я ответил со всей дерзостью, которая у меня была, во-первых, ещё мальчишеская, во-вторых, уже футуристическая:
— Vous le dites, parce que vous vous comprenez dans les femmes mais pas dans les poèmes.
Он очень сердечно на это реагировал и послал мне потом из Италии свою книгу «Zang-Tumb-Tuum», с очень сердечной надписью. Так как я тогда писал стихи, и писал под псевдонимом — Алягров44 — он мне на это имя и послал свою книгу.
— он мне на это имя и послал свою книгу.
Затем вошёл Маяковский. Около меня было свободное место, и он сел на него. Он меня спросил: „Вы строгановец?” (то есть из Строгановского училища живописи), потому что у нас, лазаревцев, были несколько похожие формы, с золотыми пуговицами и так далее. Как-то зашёл разговор о Ларионове, и он мне сказал: „Все мы прошли школу Ларионова. Это важно, но школу проходят только раз”. Так что он себя немножко от этого отгораживал.
Маяковский предложил мне папиросу, а я каким-то неловким движением задел коробку, и папиросы посыпались на пол. Я стал их подбирать. Он сказал:
— Бросьте, бросьте, деточка, другие купим.
Это был мой первый короткий разговор с Маяковским. Но мы как-то уже — и он, и я — считали себя знакомыми.
Атмосфера в «Альпийской розе» была очень дружественная. Когда прощались, был как бы прощальный тост, и кто-то спросил:
— Вы скоро опять к нам приедете?
Маринетти ответил:
— Нет, будет большая война. Мы будем вместе с вами против Германии.
И я помню, как Гончарова, очень эффектно, протянула бокал и сказала:
— За встречу в Берлине!
* * *
В 1913 году мне нанёс визит Малевич. Что его побудило прийти, где мы с ним успели познакомиться, слышал ли он о моих взглядах и ученических исканиях от кого-то, или мы где-то столкнулись, — уже не помню. Но я помню, как он пришёл в комнату, которую наша прислуга по старой памяти называла “детской”. Был я — лазаревец, шестнадцати-семнадцати лет — и мой брат, тоже лазаревец, но пятью годами моложе меня.
Малевич говорил со мной о своём постепенном отходе от искусства предметного к беспредметному. Между этими двумя понятиями не было пропасти. Тут стоял вопрос беспредметного отношения к предметности и опредмеченного отношения к беспредметной тематике — к тематике плоскостей, красок, пространства. И это глубоко совпадало — это он знал, в общих чертах, уже обо мне — с теми моими мыслями, которые касались, главным образом, языка, поэзии и поэтического языка.
Мы вкратце обменялись мнениями, и он мне сказал:
— У меня будут новые картины, беспредметные, летом мы с Вами поедем в Париж, и вы будете на выставке моих картин читать лекции и объяснять эти картины.45
Отчасти он предложил это потому, что не говорил по-французски; кроме того, он больше верил мне как теоретику, чем самому себе, при всей моей тогдашней наивности.
Я жил в Лубянском проезде, в том самом доме, где потом жил Маяковский.46 Совсем близко Политехнический музей, где была самая большая аудитория для публичных лекций. Там я впервые слушал футуристов, там же я слушал целый ряд иностранцев, которые приезжали в Москву. Обычно я ходил вокруг Политехнического музея и обдумывал свои, сугубо личные, декларации и манифесты — декларации освобождённого слова и затем — следующий шаг — освобождённого словесного звука. (Мои большие тетради с тезисами и декларациями все пропали, когда немцы вошли в Чехословакию). Тематика была такова: возможно, у словесного звука больше общего с беспредметной живописью, чем с музыкой. Именно этот вопрос меня живо интересовал и тогда, и много позже: отношение слова и звука, в какой степени звук сохраняет родство со словом, и в какой степени слово для нас разлагается на звуки — а далее, вопрос об отношении между поэтическими звуками и нотами этих звуков, то есть буквами. В дальнейшем, когда за «Словом как таковым» последовала «Буква как таковая», я не соглашался с этим: для меня был звук как таковой.
Совсем близко Политехнический музей, где была самая большая аудитория для публичных лекций. Там я впервые слушал футуристов, там же я слушал целый ряд иностранцев, которые приезжали в Москву. Обычно я ходил вокруг Политехнического музея и обдумывал свои, сугубо личные, декларации и манифесты — декларации освобождённого слова и затем — следующий шаг — освобождённого словесного звука. (Мои большие тетради с тезисами и декларациями все пропали, когда немцы вошли в Чехословакию). Тематика была такова: возможно, у словесного звука больше общего с беспредметной живописью, чем с музыкой. Именно этот вопрос меня живо интересовал и тогда, и много позже: отношение слова и звука, в какой степени звук сохраняет родство со словом, и в какой степени слово для нас разлагается на звуки — а далее, вопрос об отношении между поэтическими звуками и нотами этих звуков, то есть буквами. В дальнейшем, когда за «Словом как таковым» последовала «Буква как таковая», я не соглашался с этим: для меня был звук как таковой.
Это нас сблизило с Малевичем, который в одном из писем, напечатанных в «Ежегоднике Пушкинского дома», прямо говорит о том же самом.47 Это следствие не только самых ранних наших бесед, но и моего приезда к нему в Кунцево летом пятнадцатого года, когда я был уже студентом.48
Это следствие не только самых ранних наших бесед, но и моего приезда к нему в Кунцево летом пятнадцатого года, когда я был уже студентом.48 В Кунцеве он жил со своим приятелем, художником Моргуновым.
В Кунцеве он жил со своим приятелем, художником Моргуновым.
Поехал я к Малевичу — по приглашению Малевича — вместе с Кручёных. Мы обедали, а потом произошла сцена, которая меня удивила: Малевич страшно боялся, что узнают, что он делает нового. Он мне многое рассказывал, но показывать свои новые вещи не решался. Кручёных тогда пустил шутку, что Малевич и Моргунов так боятся огласки, так боятся, что их изобретательские тайны будут украдены, что пишут в полной темноте — а на самом деле только шторы были опущены.
Была ещё одна встреча с Малевичем — на квартире у Матюшина, в Петрограде, по всей вероятности, в конце пятнадцатого года. Речь шла тогда о каком-то недовольстве, о каком-то расколе в кругах авангарда, причём это и терминологически проявилось, но терминологический вопрос меня не занимал — хотелось, чтобы не было компромиссов. О Маяковском на этот раз говорилось как о большом поэте, но поэте компромисса, балансирующем на грани импрессионизма и футуризма. Маяковский казался неприемлемым всей этой группе. Бурлюк, Маяковский и Лившиц представлялись каким-то правым крылом.49 Кроме Матюшина и Малевича, на этом собрании присутствовал Филонов — хотя и не беспредметный, но в нём находили значительную структурную близость, — я, может быть, Кручёных. Меня заставили тогда читать мои заумные стихи, и художники — и Филонов, и Малевич — очень одобряли их, одобряли именно за то, что они куда больше отступают от обычной речи, чем дыр бул щыл Кручёных.50
Кроме Матюшина и Малевича, на этом собрании присутствовал Филонов — хотя и не беспредметный, но в нём находили значительную структурную близость, — я, может быть, Кручёных. Меня заставили тогда читать мои заумные стихи, и художники — и Филонов, и Малевич — очень одобряли их, одобряли именно за то, что они куда больше отступают от обычной речи, чем дыр бул щыл Кручёных.50
С этим моментом связано одно моё письмо к Кручёных со стихотворением, которое является скрытой сатирой на Маяковского.51 У Кручёных было довольно много моих стихов, которые были большей частью заумные. Два напечатаны в «Заумной гниге», и одно было напечатано несколько лет спустя, в сборнике «Заумники».52
У Кручёных было довольно много моих стихов, которые были большей частью заумные. Два напечатаны в «Заумной гниге», и одно было напечатано несколько лет спустя, в сборнике «Заумники».52 Это были стихи почти пропагандистского, рекламного свойства. Но были и места на грани зауми, и я помню, как Кручёных их критиковал. Была строка: „Тень бледнотелого телефона”, и он сказал: „Нет, нет, только не бледнотелого, это — прошлое”. Я тотчас же переделал в „тень мелотелого телефона”.53
Это были стихи почти пропагандистского, рекламного свойства. Но были и места на грани зауми, и я помню, как Кручёных их критиковал. Была строка: „Тень бледнотелого телефона”, и он сказал: „Нет, нет, только не бледнотелого, это — прошлое”. Я тотчас же переделал в „тень мелотелого телефона”.53
Матюшину я очень пришёлся по душе, и мы с ним подружились. Хорошо помню его большую квартиру, где на шкафах и комодах стояли его скульптуры — из корней, из полуокаменевших ветвей, которые он находил на берегу — заумные скульптуры, почти не обработанные. Он был такой мечтатель-организатор и весьма предприимчивый человек, с множеством различных планов.
Меня очень увлекала тематика совершенно преобразованной перспективы, преобразованной трактовки частей изображаемых предметов, и проблема, которая тогда очень остро стояла в русском искусстве: коллаж. Очень трудно сказать, что в данном случае следствие западного влияния, а что возникло независимо — или даже воспринято Западом из русского искусства. Многое, несомненно, заимствовано: конструктивной архитектуры, например, почти не было в виде зданий, но вся тематика и проблематика, все модели и эскизы уже существовали.
Это была эпоха из ряда вон, с массой даровитейших людей — и тон, по разным причинам, задавала молодёжь. Мы не чувствовали себя начинающими. Казалось совершенно естественным, что мальчишки в Московском лингвистическом кружке ставят перед собой вопрос: „А как надо преобразовать лингвистику?” То же самое было во всех других областях.
Для меня страшно важной была связь с искусством, к которому я действенного отношения вовсе не имею, где я только зритель. И вообще в моей жизни играет определяющую роль то, что мудрёно называется interdisciplinary cooperation. Меня всегда тянуло и с этой точки зрения посмотреть: а что в языке иначе? Что в поэзии этому не соответствует? Как я теперь думаю, именно это влекло ко мне художников, особенно Малевича. Читая его заметки, я вижу, как напряжённо переосмысливал он наши разговоры, и со своей, художнической, стороны вникал в то, что живописью не является — но несравненно ближе к живописи, чем музыка.54
В двадцать третьем году вышла моя книжка о чешском стихе, где, собственно, впервые появилась фонология в новом смысле слова — фонология как наука о структуре и функции звуков (то, что я подцепил из одного примечания у Сеше55 ). Это на Малевича должно было подействовать, и в ГИНХУКе, руководимом им в 1923–26 годах, был организован Отдел фонологии для изучения поэтического творчества.56
). Это на Малевича должно было подействовать, и в ГИНХУКе, руководимом им в 1923–26 годах, был организован Отдел фонологии для изучения поэтического творчества.56
Весьма любопытно, что всегда складывалось тесное сотрудничество с людьми относительно далёких областей. Меня поразило, когда в Париже мне прочли отрывок из дневника выдающегося чешского художника Йозефа Шимы, где он рассказывает о том, какое значение для его живописи имели разговоры со мной в Праге в двадцать пятом году, до создания Пражского лингвистического кружка, по поводу двоичных отношений, по поводу бинаризма, по поводу различительных черт.57
Таких случаев тесного сотрудничества именно с художниками и теоретиками искусства в моей жизни множество. Из последних мне ближе всех чешский теоретик изобразительных искусств и архитектуры Карел Тейге,58 с которым мы часто и подолгу общались.
с которым мы часто и подолгу общались.
Была, для всего нашего поколения, теснейшая связь между поэзией и изобразительными искусствами. Были проблемы очень, очень схожих основных моментов, касающихся времени в поэзии и пространства в живописи, а также всевозможных промежуточных форм типа коллажа. Именно этот переход от линейности к одновременности меня очень увлекал, как это видно из моего письма к Хлебникову,59 например.
например.
* * *
С Ларионовым меня познакомил Сергей Байдин. Ларионов очень хорошо ко мне отнёсся, но — как всегда — отчасти вульгарно; в нём было что-то от коломенского мещанина.
Ларионов был очень умён и остроумен. Его статьи замечательны как в смысле тонкости теоретической, так и понимания взаимосвязи искусства и литературы. Он очень хорошо знал, чего хочет. Он прошёл через нарочитый примитивизм, затем пришла пора парикмахеров и Венер. Следом начался лучизм, который был уже переходом к беспредметной живописи, но тут он попал в Париж, где занялся декоративным искусством, для Дягилева. Кроме того, он был русский с головы до ног: так и не выучился говорить по-французски, например. Всё ему здесь было чуждо, и он не вырос в того тем, кем вполне мог стать— одним из мэтров нашего времени.
Лучизм его мне казался не более чем экспериментом. После кубизма — и вдруг игра независимых плоскостей и красок.
Гончарова была под сильным влиянием Ларионова. Она была образованная женщина и тонкий художник, прекрасно понимала цвет.
Очень хорошие отношения у меня сложились с Родченко и с его женой Варварой Степановой. Родченко был рубаха-парень. У него была колоссальная выдержка, он замечательно всё схватывал. Он был чудный фотограф — как он понял «Про это», семантику «Про это», это удивительно.60 Я ценил его главным образом как фотографа, не как живописца.
Я ценил его главным образом как фотографа, не как живописца.
Давид Бурлюк превосходно разбирался в живописи. Я провёл с ним несколько часов в Эрмитаже. То, что он показывал мне на картинах — например, шершавую фактуру или светотень — выходило за рамки привычного. Кроме того, он забавлялся:
— К каким картинам это относится? — и объяснял:
— Вот вы, Ромочка, могли бы оказаться в такой-то картине.
Меня он относил к этюдам Рубенса.
Для него живопись сливалась с жизнью в одно прекрасное целое. Совершенно так же соотносились с жизнью оценки молодых учёных Бриком. Он говорил, что все имеют какую-то профессию, и зачастую это дело случая — „но какая же профессия подходит его характеру?” Он говорил, например:
— Витя (Шкловский) — это фельдфебель, из солдат. Он так: „Мне вся эта словесность без надобности, мне подавай, чтобы каждый молодцом смотрел!”
И действительно, Шкловский потом превратился в партизана, он был именно такого склада человек.
Или он говорил о Богатырёве:
— Богатырёв — это такого рода птица, которая зёрнышко к зёрнышку кладёт и рада-радёхонька, что набралась куча. Когда он собирает фольклор, его так увлекает обмен песен на платки, воротнички, фартучки и тому подобные вещи, что его главным занятием оказывается скупка старья, а не фольклористика.
И мне потом Богатырёв признавался, что когда он в подкарпатской Руси работал, у него было такое чувство: „Эвона барыша за эти платки!”
Обо мне Брик говорил:
— Рома — это дипломат. Вот-вот война, уже подвозят пушки, а он едет справляться во дворец о здоровье Её Величества.
А ведь и речи о том, чтобы я оказался на дипломатической работе, не было.
* * *
Круг общения моих родителей в разной степени, но весь был связан со всякого рода буржуазными занятиями. У отца были дела и очень приятельские отношения с одним купцом из старообрядцев по фамилии Прозоров. Раз этот Прозоров и говорит:
— С вашим сыном мы дела иметь не будем, купца из него не выйдет.
Отец спрашивает, почему.
— Он же мальчонка (мне было тогда лет семь-восемь) — я прихожу, вас пока нет, он старается развлечь меня и говорит: „Вот что мне в голову пришло. Почему продают за деньги? Почему не даром? Если бы все даром торговали, как бы это хорошо”.
Зачисление на историко-филологический факультет Московского университета было для меня громадным событием. Сомнений не было, и быть не могло: идти только на лингвистику. Конечно, лингвистика, связанная с фольклором и литературой, но, прежде всего лингвистика — и общее языкознание, и славянская филология, особенно русистика. Увлечён я был этим страшно — настолько претил мне спёртый воздух тогдашней высшей школы с её излишней строгостью и рутиной.
Однажды я зашёл в университетскую журнальню. И на что я сразу натолкнулся? На «Известия Академии наук» (не отделение русского языка, а общее), со статьёй математика Маркова: цепной анализ «Евгения Онегина», попытка приложить математику к исследованию текста.61 Понять было трудно, но я немедленно увлёкся.
Понять было трудно, но я немедленно увлёкся.
Вдруг ко мне подходит старик, Павел Дмитриевич Первов, известный преподаватель, который писал статьи по грамматике латинского и русского языка; у нас он преподавал латинский и греческий.62 Он увидал меня и спросил:
Он увидал меня и спросил:
— Ах, ты тоже здесь? Ты что — студент?
— Да, филологического факультета.
— Ну, а что — историей занимаешься или философией?
— Нет, лингвистикой.
— Слушай, да из тебя толк будет, я так всегда думал, но в последние годы все вы таким болваньём стали, что и ты мне болваном показался. Я сейчас же тебе пошлю свои работы.
И он действительно послал мне свои оттиски.
Так всё шло замечательно. Я сразу попал в подлинно научную среду. Сразу сблизился с Богатырёвым — с ним в конце августа четырнадцатого года мы вместе стояли в очереди в канцелярию университета. Мы почти одновременно постановили учредить Московский лингвистический кружок, и отправиться в первую экспедицию, в которой нас чуть не убили.63
Богатырёв меня ввёл в Комиссию по народной словесности, где я потом прочёл свой первый доклад, и в Диалектологическую комиссию. Казалось, вот совсем другая атмосфера.
Подружился я тогда и с Буслаевым, у которого был знаменитый дед,64 академическая складка, исключительная память и талантливость. Он на меня сердился:
академическая складка, исключительная память и талантливость. Он на меня сердился:
— Ты начинаешь как чернорабочий. Ты работаешь как мастеровой, ты задвинул все общие вопросы.
Я ему резонно отвечаю, что к общим вопросам подойти без знаний, как это постоянно делается, мало того, что не следует, а прямо невозможно.
Я больше занимался тогда семинариями, докладами, дискуссиями и меньше сдавал экзамены, так что накопилась много хвостов. Но было ясно, что я останусь при науке. Как, в каком виде, кто это знал? Была война, и, кроме того, было ясно, что после неё будет уже всё по-другому.
Тут несколько моментов сыграли решающую роль: то, что у меня оставалась связь с художниками; то, что у меня начиналась связь с поэтами; то, что между поэзией и лингвистикой для меня всегда была очень чёткая связь — всё это предрешало дальнейшее. Как это будет, я совершенно не представлял. Буду ли я преподавать — не очень об этом думал.
Всё шло шаг за шагом. Были моменты новых знакомств — знакомство с лингвистикой московской школы, с наследием Фортунатова, когда я был на первом курсе, затем знакомство с традицией фольклорной работы, с полевой работой на местах. Затем попытки увязать все эти моменты с новым подходом к поэтике, очень раннее увлечение вопросом “Зачем?”, вопросом телеологического характера: для чего всё это делается? — в конце концов, вопросом структуры. Влияние феноменологии Гуссерля — всё это вместе взятое подготовило меня к будущей работе.65
* * *
С Маяковским я сошёлся ближе только во время войны. В конце лета шестнадцатого года он приехал в Москву. Это было время большой, горячей дружбы между Эльзой и мной. Однажды она позвала обоих, Маяковского и меня, в кафе «Трамблэ» на Кузнецком,
66
такое кафе европейского типа. Мы там сидели, и Маяковский мне предложил играть, — на пальцах, если не ошибаюсь. А Эльза меня раньше предостерегала, чтобы я этого не делал: „Ни в коем случае, я тебе запрещаю”. Потом он стал меня испытывать (как испытывают новичков), всячески дразнить, задавать каверзные вопросы. Но я умел ответить, и Эльза была довольна результатом.
По-моему, в тот же приезд — во всяком случае, это было в последние месяцы до февральской революции — мы однажды сидели все у неё. Кроме Маяковского и меня был там Мара Левенталь, который в своё время был знаменит тем, что выиграл колоссальную сумму в государственном займе. О нём пишет Эльза в «Земляничке»: „Не человек, а самому себе памятник”.67 Там была ещё какая-то девушка, армянка, кажется Беглярова.68
Там была ещё какая-то девушка, армянка, кажется Беглярова.68 Куда пойти? Тогда Левенталь предложил:
Куда пойти? Тогда Левенталь предложил:
— Девушки ещё не слыхали Вертинского? Пойдёмте на Вертинского!
И мы все пошли на Вертинского. Сидели в первом ряду. Когда вышел Вертинский в своём костюме паяца и увидал Маяковского, то едва не упал в обморок. Он испугался и растерялся, и убежал за кулисы. Потом он вернулся, пел, и после выступления Маяковский к нему очень любезно отнёсся, его позвали, и мы все пошли ужинать в Литературно-художественном кружке.69 Надо было быть членом кружка, но у них всех были знакомые. Был там один буржуа, Янов, и я к нему подошёл и говорю: „Могу ли я на ваше имя записаться?” А он: „Что вы с такими холуями ходите?!” Но разрешил, и мы сидели, мирно разговаривали, Маяковский, конечно, опять подкалывал, как он это любил.
Надо было быть членом кружка, но у них всех были знакомые. Был там один буржуа, Янов, и я к нему подошёл и говорю: „Могу ли я на ваше имя записаться?” А он: „Что вы с такими холуями ходите?!” Но разрешил, и мы сидели, мирно разговаривали, Маяковский, конечно, опять подкалывал, как он это любил.
Однажды, в самом начале семнадцатого года, я предложил Эльзе пойти в театр Комиссаржевской. Играли «Ванька-ключник и паж Жеан» Сологуба.70 Она сказала: „Хорошо, но надо переодеться. А ты тут пока почитай”. И мне попали в руки две книжки, которые обе меня потрясли. Одна была — первый «Сборник по теории поэтического языка», который самым разительным образом перекликался с тем, что я делал и писал в то время, не печатая.71
Она сказала: „Хорошо, но надо переодеться. А ты тут пока почитай”. И мне попали в руки две книжки, которые обе меня потрясли. Одна была — первый «Сборник по теории поэтического языка», который самым разительным образом перекликался с тем, что я делал и писал в то время, не печатая.71 У меня была статья прямо о заумном языке. Я уже читал «Воскрешение слова» Шкловского,72
У меня была статья прямо о заумном языке. Я уже читал «Воскрешение слова» Шкловского,72 и оно мне не понравилось. А этих я совсем не знал — что у них такие сборники и что к этому имеет отношение Ося Брик, с которым я был едва знаком. Лиля была старшей сестрой Эльзы — когда я был лазаревцем, она была уже слишком стара для меня и, кроме того, мои родители этой Лилей меня попрекали: „Вот как замечательно пишет сочинения Лиля, какие восторженные отзывы!” А я потом Лиле рассказал об этом; она рассмеялась и сказала: „Этот учитель был в меня влюблён и помогал писать”.
и оно мне не понравилось. А этих я совсем не знал — что у них такие сборники и что к этому имеет отношение Ося Брик, с которым я был едва знаком. Лиля была старшей сестрой Эльзы — когда я был лазаревцем, она была уже слишком стара для меня и, кроме того, мои родители этой Лилей меня попрекали: „Вот как замечательно пишет сочинения Лиля, какие восторженные отзывы!” А я потом Лиле рассказал об этом; она рассмеялась и сказала: „Этот учитель был в меня влюблён и помогал писать”.
Вторая книжка была первое, цензурное издание «Флейты-позвоночника», но со вставками от руки. И это на меня произвело большое впечатление. Я должен сказать, что у меня к Маяковскому отношение менялось шаг за шагом. Меня поразило «Облако в штанах». Я помню, как я сидел однажды у Байдина вечером — он лежал уже в постели — и вслух читал ему «Облако в штанах», и он говорил: „Да, это большой поэт”.
До «Облака» я был настроен против Маяковского, считал его импрессионистом. Следует заметить, что я реагировал на его «Трагедию» не должным образом — это была вещь куда лучше, но мне она показалась дешёвым символизмом. Тогда существовал для меня только Хлебников. А «Облако» я очень, очень любил, я его знал наизусть и слышал его потом много, много раз от Маяковского.
Вскоре после того, как мне попали в руки эти две книжки, я уехал в Петроград, в середине января семнадцатого года. Эльза мне дала письмо к Лиле. Улица Жуковского, где они жили, была недалеко от вокзала, и я, приехав, пошёл прямо к ним и оставался там, кажется, пять дней. Меня не отпускали. Ходил только в университет, на лекции Шахматова. Эльза в своём письме просила, чтобы меня заставили читать мой перевод «Облака» на французский язык. Я читал, и им очень понравилось. Потом пришёл Маяковский, и я ему читал. Он заставлял меня читать много раз, и раз попросил повторить:
Вошла ты,
резкая, как „Нате!”,
муча перчатки замш,
сказала:
„Знаете —
я выхожу замуж”.
У меня было:
Âpre, comme un mot de dédain,
tu entras, Marie,
et tu m’a dit,
en tourmentant tes gants de daim:
„Savez-vous,
je me marie”.
73
— Постойте, — сказал Маяковский, — “мари, мари”, что это такое? Переведите! — И я перевёл ему.
— О, это разные слова — это хорошо.
Мы тогда необычайно подружились, и с ним, и с Бриками. Я уже знал всю историю от Эльзы, в Эльзиной версии — о том, как Маяковский был знаком с Эльзой, и как отец Эльзы был страшно против, и как Лиля была против, потому что слышала об этом от отца, и как Эльза хотела примирить Лилю с тем, что у неё такой приятель, и как он пришёл, и Лиля сказала: „Только чтобы он стихи не читал”.74 Ну, потом, конечно, он стал человеком Бриков. У меня долгое время в Москве был на руках дневник Эльзы (он утрачен), и там она писала: „Вернулся Рома из Петербурга и, к сожалению, тоже уже бриковский”.
Ну, потом, конечно, он стал человеком Бриков. У меня долгое время в Москве был на руках дневник Эльзы (он утрачен), и там она писала: „Вернулся Рома из Петербурга и, к сожалению, тоже уже бриковский”.
Меня с Эльзой очень связывал французский язык. У нас была общая учительница французского, мадемуазель Даш. Она была дочерью французов, переехавших в Москву. Она выросла в России, правда, училась во французской гимназии, но говорила уже по-французски без картавости, с зубным, русским р. И это р осталось и у Эльзы, и у меня. Граммон75 считает, между прочим, что правильное, классическое произношение — это именно с таким р. А в России, особенно в аристократических кругах — но не только там, — считалось неприличным слишком подражать французскому произношению. Говорили: „Учитесь по-французски как следует, говорите и пишите хорошо, но помните, что вы не обезьяны, а русские, подражайте в произношении, но не слишком, чтобы не казалось, что вы разыгрываете из себя француза”. А у нас это было ещё сильнее, потому что мы этого другого р не слышали — только когда приезжали какие-нибудь французские писатели или актёры, которых мы слушали. Так, например, я слышал в детстве Верхарна, Ришпена, Сару Бернар и других.
считает, между прочим, что правильное, классическое произношение — это именно с таким р. А в России, особенно в аристократических кругах — но не только там, — считалось неприличным слишком подражать французскому произношению. Говорили: „Учитесь по-французски как следует, говорите и пишите хорошо, но помните, что вы не обезьяны, а русские, подражайте в произношении, но не слишком, чтобы не казалось, что вы разыгрываете из себя француза”. А у нас это было ещё сильнее, потому что мы этого другого р не слышали — только когда приезжали какие-нибудь французские писатели или актёры, которых мы слушали. Так, например, я слышал в детстве Верхарна, Ришпена, Сару Бернар и других.
Из-за того, что мадемуазель Даш очень любила французскую литературу и нам её преподавала, и мы любили французскую литературу, было что-то связанное с Францией в наших отношениях. Часто мы с Эльзой, говоря по-русски, вставляли французские фразы — никогда никто не думал, что она будет французской писательницей, а я буду так или иначе связан с французской наукой.
Иногда мы импровизировали шутки по-французски, и раз, по поводу одного забавного происшествия, я на какой-то мотив, который Эльза играла и напевала (какие-то шансонетки), составил экспромтом стихи, и она их пела:
C’est demain, mon escapade,
vite — je quitte mes air malades.
Un docteur, étant aimé des femmes,
vite m’entraine vers des lieux infames.
A la fin de la nuit,
comme toujours, je m’ennuis
et je n’ai plus rien à dire.
Il m’agace avec son bête de rire…
и так далее.
Надо сказать, что из-за мадемуазель Даш у нас была сильная французская ориентация — и культурная, и литературная, и художественная. Кого смотреть из художников? — Конечно, французов!
Отец мадемуазель Даш в ранней молодости участвовал во франко-прусской войне, и она часто рассказывала о так называемых немецких зверствах. И у Эльзы, и у меня было сильное профранцузское и антинемецкое настроение. Так что было естественно, что она познакомилась и вышла замуж за французского офицера Триоле. Эльза потом очень интересно написала о мадемуазель Даш в своей книжке «La mise en mots».76
* * *
Я вернулся из Петрограда в Москву в совершенной уверенности, что мы накануне революции — почти никто не хотел верить. Но это было совершенно ясно, по университетским настроениям.
В феврале я опять был в Петрограде. Лиля испекла блины — это было основание ОПОЯЗа. Был Эйхенбаум, Шкловский — который вообще бывал там очень часто, — Поливанов и Якубинский, который меня называл „бронированным москвичом”, потому что в Москве была одна лингвистическая ориентация. Про Петербург мы говорили: Туды-сюды, куды хоть или Чего изволите? Помню, что Маяковский, который тоже присутствовал, спросил про Поливанова:
— А этот чем занимается?
— Китайским языком.
— Ааа, китоложец — уважаю.
Шкловского я уже встречал у Бриков, а с остальными я познакомился в тот вечер. Меня очень стали продвигать и Ося, и Витя.77
В конце марта или в начале апреля Маяковский, Бурлюк и я ехали втроём в Петроград.78 Это было за несколько дней до приезда Ленина. В поезде бурно обсуждали политику, и кто-то кричал „Долой войну!”. И Маяковский рявкнул:
Это было за несколько дней до приезда Ленина. В поезде бурно обсуждали политику, и кто-то кричал „Долой войну!”. И Маяковский рявкнул:
— Кто кричит “Долой войну!”? Бывшие полицейские, которым на фронт не хочется?
Потом, когда я ему это напомнил, он поморщился.
Временное правительство устраивало дни русско-финского сближения. Я попал на открытие выставки финского искусства — живописи, архитектурных проектов — вместе с Володей и Осей. Были всякие приветственные речи, а потом торжественный ужин.79 На этом приёме мне пришлось выступить переводчиком между Горьким и одним знаменитым финским архитектором, который говорил по-французски. Архитектор был очень пьян, да и Горький тоже. Вообще было много пьяных.
На этом приёме мне пришлось выступить переводчиком между Горьким и одним знаменитым финским архитектором, который говорил по-французски. Архитектор был очень пьян, да и Горький тоже. Вообще было много пьяных.
Финн говорил:
— Tout le monde pense que vous êtes un génie–génie–et moi je vous dis: vous êtes un imbécile. Traduisez, mais traduisez éxactement! Non, non, non, vous ne traduisez pas comme j’ai dit! Imbécile, comment se dit çа en russe?
Таков был стиль беседы.80
Маяковского тогда вызывали читать. Он читал свои стихи и вдруг сказал:
— А сейчас я прочту стихи своего друга, блестящего поэта и стиховеда, Осипа Брика.
Стихи были следующие:
Я сам умру, когда захочется,
и в список добровольных жертв
впишу фамилию, имя, отчество
и день, в который буду мёртв.
Внесу долги во все магазины,
куплю последний альманах
и буду ждать свой гроб заказанный,
читая «Облако в штанах».
Ося был очень смущён, так как свои поэтические опыты не разглашал.
Потом мы пошли дальше, несколько человек — Оси с нами уже не было. Приехал Ленин, и Ося пошёл на вокзал. Вернулся и сказал:
— Кажется, сумасшедший, но страшно убедительный.81
Пошли по знакомым — Володя, я, художник Бродский (который потом стал официальным советским художником) и некто Гурьян, родственник моих соседей в Москве — видный адвокат и большой бонвиван. Мы ходили с места на место, и в конце концов Гурьян позвал нас к себе, часа в два ночи. Появились разные напитки и закуски. Маяковский с Бродским пустились играть в бильярд. Бильярд был одной из слабостей Маяковского — вернее, не слабостей, а сильных моментов, потому что он прекрасно играл. Они азартно сражались. А я на диване прилёг и даже заснул. Потом начали обсуждать, куда ещё пойти, и кто-то сказал, что через пару часов, в восемь часов утра, во дворце Кшесинской выступит Ленин — „Пойдёмте его послушать!” И мы пошли. Там был драный занавес. Кто-то сидел на рояле. Какая-то мешанина кресел, полнейший хаос. Народа было битком, довольно много матросов. Ждали. Но когда должен был появиться оратор, вошёл не Ленин, а Зиновьев. Нам как-то стало очень скучно, и мы ушли.82
В этот или предыдущий приезд Маяковский сказал мне:
— Пойдём, хочешь покататься?
— Давай, — отвечаю. Он страшно любил на лихаче проехаться по кругу мимо университета и академии, на Стрелку.
— Но платим пополам.
— Ладно, только у меня с собой денег нет.
— Слово даёшь?
— Даю.
— При первой встрече.
Мы сели на лихача, и он мне стал читать только что написанные стихи: «Если б был я маленький, как Великий океан…».83 Когда мы после этого встретились у Бриков, я ему хотел вернуть долг, а он:
Когда мы после этого встретились у Бриков, я ему хотел вернуть долг, а он:
— Что это?
— Я же дал слово.
— С ума сошёл!
* * *
До приезда в Петроград в середине января мы с Лилей совсем не встречались, и был очень большой промежуток после моего детства, когда я и Эльзы не видал. С Эльзой мы очень подружились в шестнадцатом году. А к Лиле я попал, только когда у них был — не салон, а такой литературный кружок.
Там было сравнительно мало людей — собственно говоря, люди вокруг новых Осиных интересов. Я даже не знаю, каким образом Ося стал формалистом, почему он заинтересовался повторами и так далее.84 Меня очень удивило, когда я увидал у Эльзы этот сборник по теории поэтического языка: вот люди, которые делают то, что надо делать!
Меня очень удивило, когда я увидал у Эльзы этот сборник по теории поэтического языка: вот люди, которые делают то, что надо делать!
Когда я долго не бывал, я в шутку говорил:
— Скажите, о чём у Бриков сейчас полагается говорить и о чём нельзя? Что считается правильной верой и что — суеверием?
Было довольно определённое настроение, своего рода догматизм.
Когда я был один в Петрограде, то жил у Бриков. У них была очень тесная квартира. Жили они там, потому что Брик был дезертир, и они не могли переехать на другую квартиру. А я у них спал на диване в проходной комнате, где Ося, собственно говоря, и работал. Всё было необычайно богемно. Весь день был накрыт стол, где была колбаса, хлеб, кажется, сыр, и всё время чай. Самовар приносили. Приходили все, кому хотелось поговорить. Это было очень своеобразно, совершенно не похоже ни на что. Висели интересные картины. И висел громадный лист во всю стену, где все гости писали для Лили. Помню, что там была одна карикатура: Лиля, а Ося сидит и работает, и было написано: „Лиля вращается вокруг Оси”.
В то время, когда я туда попал, там бывал Кузмин — с ним они играли в “тётку”, в карты. Кузмин был очень забавный в обществе, он хорошо пел и играл на рояле. Тогда же он посвятил Лиле два стихотворения, которые были отдельно изданы.85
Лиля говорила:
— Приятно позвать Кузмина, он песенки свои поёт, рассказывает что-нибудь забавное. Но, знаешь, если хочешь звать кого-нибудь и из-за этого нужно пригласить и его неприятную жену, это уже нехорошо — а тут приходится Юркуна звать.
С Юркуном у Кузмина был самый настоящий роман.86
А мне Кузмин говорил:
— И как, Ромочка, вам может нравиться Эльза? Она и выглядит-то как женщина!
Я там и Мандельштама видел, но он заходил только по делу.
Бывал также художник Козлинский87 и один человек, которым сильно увлекалась Эльза, Гурвиц-Гурский. Он был очень даровитый инженер, с большим знанием искусства и литературы.88
и один человек, которым сильно увлекалась Эльза, Гурвиц-Гурский. Он был очень даровитый инженер, с большим знанием искусства и литературы.88
Натан Альтман тоже появлялся. Как-то играли бонами, или чипсами, как они назывались, чтобы не платить сразу. У Альтмана не было денег с собой, и когда выигрывали у него, то пускали эти боны в ход вместо денег, и Володя сострил: „Гувернантки Альтмана что-то не в ходу”.
Много играли. Маяковский играл с колоссальным увлечением, причём ужасно нервничал. Он выигрывал, он умел добить, особенно когда играли в покер, психологическую игру. Он человека обыгрывал часто. Но после этого — я сам не раз был свидетелем, когда он ночевал у меня в Москве — он ходил из угла в угол и плакал, от разрядки нервного напряжения.89
Кроме того, он страшно боялся Лили. Она была против того, чтобы он так много и азартно играл. У меня по этому поводу были юмористические стихи — не о покере, а о железке, в которую он, бывало, проигрывался в пух:
С Володей робко мы брели,
не нагорит от Лили ли,
от Лили ли, Лили ли…
и так далее. Я любил играть больше в покер, чем в железку. Главным образом, меня научил Володя. И он не давал меня в обиду. Однажды мы играли в железку в помещении Лингвистического кружка:
Ужо, дружок, зайдём в кружок,
Пожалуй, викжельнём разок.
Викжель — это был Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожников, а ‘викжельнуть’ — сыграть в железку.
90
Я выигрывал, а он проигрывал, и тогда он взял у меня не только мой выигрыш, но я за него ещё и заплатил очень крупную сумму — а средства у меня тогда были самые ограниченные. Он мне и говорит:
— Слушай, я тебе не могу вернуть этого, но я тебя приглашаю на всё лето вместе жить.
И мы поехали в Пушкино.91
Тогда не было ещё решено, что это будет именно Пушкино. Сначала планы были, как мне кажется теперь, совершенно дикими: Воронеж; об этом же говорится в буриме.92 Мы думали поехать вчетвером. И вот мы поехали в Воскресенское, где я кое-кого знал. Но когда мы приехали к моим знакомым, оказалось, что у них почти все в доме умерли от сыпного тифа. Маяковский страшно перепугался. Потом мы ходили с ним по лесу — подальше от людей, — играя в карточные игры на пальцах.
Мы думали поехать вчетвером. И вот мы поехали в Воскресенское, где я кое-кого знал. Но когда мы приехали к моим знакомым, оказалось, что у них почти все в доме умерли от сыпного тифа. Маяковский страшно перепугался. Потом мы ходили с ним по лесу — подальше от людей, — играя в карточные игры на пальцах.
* * *
Брик по образованию был юрист.
93
Но юрист совершенно уникальный. Докторскую диссертацию он собирался писать по социологии и юридическому положению проституток, и ходил на бульвар. Там его знали все проститутки, и он постоянно защищал их, бесплатно, во всяких тяжбах, столкновениях с полицией и так далее. Они его называли „блядским папашей” или что-то в этом роде — я не ручаюсь за точность. Проституткам очень нравилось, что они его совершенно не интересовали как женщины. Отношения были чисто товарищеские, если не сказать дружеские.
Ося как-то умел сесть и работать, и никто ему не мешал. Когда я впервые попал туда, он страшно увлекался поэзией, ничего другого не хотел знать. Он фанатично занимался метрикой и поэтикой. Он приходил к изумительным идеям — о Бенедиктове, о «Носе» Гоголя. Потом, в период, когда он стал отходить от поэтики и скорее занимался социологией искусства, у него была, например, замечательная интерпретация романа Золя «L’Æuvre», исповеди художника, которую он сопоставлял со всевозможными дневниками и письмами русских передвижников.94
Одна его способность была просто исключительная. Он чуточку знал древнегреческий. Вдруг он пришёл к каким-то выводам относительно греческого стиха и позвал Румера.95 Тот его выслушал и сказал:
Тот его выслушал и сказал:
— Поразительно, это новейшее открытие, сделанное совсем недавно.
Для Брика всё было вроде крестословицы.
Ося был страшно ироничен, но ироничен не злобно, а так — курил и говорил. Помню, как сидели у меня, в моей довольно тесной комнате, — он, Лиля, Володя и я, — в восемнадцатом году. И Володя читал ещё не полностью доработанную «Мистерию-буфф». После чтения он стал говорить, что он не знает, поймут ли, что это настоящее революционное искусство. А Ося говорит:
— Ты думаешь, что это коммунистическая революция, да? „Ты первый вхож в царство моё небесное…” Ты думаешь, что это — тема?
В окончательной версии этого уже нет.
Брик был одним из самых остроумных людей, каких я только знал, — и остроумен тем, что никто никогда не видал, чтобы он смеялся. Он всегда говорил совершенно серьёзно. [Однажды в Берлине] мы разговаривали с Бриком по поводу только что вышедшей книги Шкловского «Zoo…». Брик сказал:
— Витя — странный парень. Он не изучал грамматику. Он не знает, что есть слова неодушевлённого рода, и что ВЦИК — существительное неодушевлённое. У неодушевлённых предметов чувства юмора нет, так что со ВЦИКом шутить не стоит.96
Брик не делал многого того, что мог бы делать. Поразительное дело — но у него не было амбиций. Не было интереса довести свою работу до конца. Зато он щедро делился мыслями. И он очень ценил работоспособность в человеке, талантливость; так он относился к членам Московского лингвистического кружка. Ему нравился тот, кто приходил с неожиданными вещами. Меня он вообще любил, но когда я пришёл к нему и сказал, что мне грозит участь дезертира, он ответил: „Не вы первый, не вы последний”. И ничего для меня не сделал.
В Чека Брик поступил вскоре после моего отъезда.97 Я узнал это от Богатырёва, который ко мне приехал в Прагу в декабре 1921 года. И он рассказывал, что Пастернак, который к ним часто ходил, говорит:
Я узнал это от Богатырёва, который ко мне приехал в Прагу в декабре 1921 года. И он рассказывал, что Пастернак, который к ним часто ходил, говорит:
— Всё-таки страшно становится. Вот придёшь, а Лиля скажет: „Подождите, скоро будем ужинать, как только Ося [придёт] из Чека”.
В конце двадцать второго года я встретил Бриков в Берлине. Ося мне говорит:
— Вот учреждение, где человек теряет сентиментальность, — и рассказал несколько довольно кровавых эпизодов. И тут-то в первый раз он на меня произвёл такое, как бы это лучше сказать, отталкивающее впечатление. Работа в Чека его очень испортила.
* * *
Когда Маяковский начал писать поэму «Человек», весной семнадцатого года, он говорил мне:
— Это будет человек, но не андреевский человек, а просто человек, который чай пьёт, ходит по улицам… Вот об этом человеке — настоящую поэму.
Раз Маяковский читал мне кусок из главы «Маяковский на небе» или где-то близ неё.
— Стихи правда ведь хорошие?
Стихи были действительно замечательные.
— Да, но не подошли.
Как-то нарушалось целое, и он их выкинул. Он не записывал почти ничего и всё уничтожал. Если бы у меня в то время было музейное отношение к делу, мне было бы достаточно сказать горничной, чтобы она мне приносила то, что он в корзину кидал, — была бы редчайшая коллекция. Случайно сохранилась первоначальная редакция «150.000.000»; я уезжал в это время в Ревель и попросил его дать мне. Он мне дал, и дал это не просто так, на память или для того, чтобы людям показывать, а потому что „они здесь не печатают”.
2 февраля 1918 года Маяковский в первый раз читал «Человека», в Политехническом музее. Я был с Эльзой. Никогда я такого чтения от Маяковского не слыхал. Он очень волновался, хотел передать всё и читал совершенно изумительно некоторые куски, например:
Прачечная.
Прачки.
Много и мокро…
Очень по-блоковски звучало „Аптекаря! Аптекаря!”
98
Ничто не производило на меня такого сильного впечатления, как это.
Он говорил, что никогда больше не будет продавать свои вещи, и просто раздавал свои книжки. Он попросил выступить Андрея Белого, который был на его предыдущем чтении, у поэта Амари.99 Белый говорил совершенно восторженно — о том, что после долгого, долгого промежутка появилась великая русская поэма, и что тут он понял, что это действительно поэзия и что нет никаких границ — футуризм, символизм и так далее — но только поэзия.100
Белый говорил совершенно восторженно — о том, что после долгого, долгого промежутка появилась великая русская поэма, и что тут он понял, что это действительно поэзия и что нет никаких границ — футуризм, символизм и так далее — но только поэзия.100
* * *
Вскоре после Октябрьской революции я как-то сидел у Эльзы, в переулке возле Пятницкой.
101
Я предложил ей поехать в Кафе поэтов.
102
Тогда ещё было трудно по вечерам [передвигаться] по Москве. Мы поехали. Володя очень обрадовался. Он читал тогда «Наш марш», «Левый марш» и «Оду революции». «Ода революции» мне не понравилась изобилием сухой риторики, которая проявлялась даже в том, как он читал.
Публика собралась весьма пёстрая. Были действительно бывшие буржуи, которые слушали «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!». Были люди с улицы, которые ничего не слыхали о поэзии, была любопытствующая молодёжь. В то время уже появлялись обитатели [захваченных] особняков — анархисты. В этот вечер вдруг выступил один анархист в какой-то странной, полувоенной форме. Он сказал:
— Вот тут всякие стихи читали, а я вам расскажу, как я женился.
И он прочёл, с превосходной сказовой техникой, техникой балаганного деда, известный лубочный текст, который существует в разных вариантах восемнадцатого века, — издевательство над жалкой женитьбой и жалкой, уродливой, бедной, отвратительной женой. Во мне ещё сидел фольклорист, я к нему подошёл и говорю:
— Очень хотелось бы это записать, вы это так замечательно рассказываете.
— Нет, я пришёл сюда просто так, отдыхать и веселиться. Приходите ко мне.
— А куда к вам?
— Это называется Дом немедленных социалистов.103
Я собирался зайти, но так и не зашёл. Вскоре после этого анархистов разогнали.104
Меня иногда вызывали читать. Я читал свои переводы Маяковского на французский язык — «Облако в штанах» и «Наш марш». Маяковский читал по-русски, а я — по-французски:
Barbouillons dans les vagues du second déluge
l’huile des villes de l’univers…
105
Потом я читал свой перевод на старославянский язык стихотворения «Ничего не понимают»:
Къ брадобрию приидохъ и рекохъ…
106
Под конец вечера, когда уже было сравнительно мало публики, вдруг пришли чекисты проверять документы, выяснять, что за люди. У меня не то документ был недостаточный, не то никакого документа не было, и уже начали, было, мне докучать, когда вмешались в мою пользу, с одной стороны, Каменский — „Это же наш человек, он с нами работает…” — а с другой стороны, особенно сильно и внушительно, “футурист жизни” Владимир Гольцшмидт — и меня не тронули. Гольцшмидт был страшный силач и ломал доски об голову в Кафе поэтов.107
* * *
Первого мая восемнадцатого года я должен был выступить в кафе «Питтореск», где были очень интересные декорации Якулова, но я куда-то уехал, и вместо меня кто-то читал мои французские переводы.
108
Нейштадт читал свои немецкие переводы и мой старославянский перевод, который он потом напечатал с ошибками, совершенно всё там перепутав.
109
Читала — чуть ли не тоже мои французские переводы — актриса Поплавская, которой, если не ошибаюсь, увлекался Хлебников.
110
В «Питтореске» Маяковский бывал редко. Раз я сидел там со Шкловским. К нам подошёл выпивший Есенин, которого я лично не знал. Шкловский нас представил.
— А, это вы, Якобсон… Маяковский, Хлебников… Поймите, суть поэзии не в рифмах, не в стихе, а чтобы вот видны были глаза и чтобы в глазах что-то видно было.
Давид Бурлюк весной восемнадцатого года жил в доме анархистов — тогда была масса случаев, когда люди поселялись в домах анархистов. Это были захваченные и понемножку разграбляемые особняки, аристократические или просто богатые. Мне говорил Володя, что Бурлюк воспользовался каким-то образом фарфором или хрусталём [из этих домов]. Это было замечено, но он всё спрятал и увёз. Кроме того, у него были братья в Белой армии. Николай или погиб в Белой армии, или попал в руки красных и был расстрелян; о нём помалкивали.111
* * *
Маяковский очень ревновал Лилю к человеку, которого звали Жак.
112
Жак был настоящий бретёр, очень неглупый, очень по-своему культурный, мот и прожигатель жизни. Однажды, незадолго до февральской революции, он устроил в доме своей матери большую вечеринку. Там были разные офицеры, генералы и, в частности, Володя, Витя и Ося. Всё это носило характер совершенного разложения, предреволюционный. Жак начал меня дразнить флиртом с его тёткой — она была молодая женщина. Я в шутку сказал: „Как ты смеешь говорить так о честной женщине!” А он говорит: „Кто посмел назвать мою тётку честной женщиной?”
После революции Жак одно время очень подружился с Горьким. Он был человек, который всегда оказывал услуги. Как-то Володя встретился с Жаком на улице. Тот шёл с Горьким. Один к другому прицепился, вышло что-то вроде драки, после чего Горький страшно возненавидел Маяковского.113 А одно время Горький покровительствовал Маяковскому, и Маяковский очень увлекался Горьким. Ося мне говорил:
А одно время Горький покровительствовал Маяковскому, и Маяковский очень увлекался Горьким. Ося мне говорил:
— Володя думал, что его «Война и мир» — какой-то подвиг: он же нахватался у Горького непрожёванных фраз. Горький на него страшное впечатление произвёл — вдруг о войне так говорить.
Потом была долгая полоса враждебности Маяковского к Горькому. Я не знаю ни одного человека, о котором он говорил бы так неприязненно. И надо сказать, что и Горький [относился отрицательно к Маяковскому]. Он мне несколько раз говорил о своём отношении к Маяковскому. Горький очень хотел — и предлагал мне через Ходасевича — напечатать в «Беседе» критику Маяковского.114
Маяковский Горького ненавидел, и два раза это особенно проявилось. Однажды, весной девятнадцатого года, Маяковский выиграл в карты, и мы с ним пошли выпить кофе и съесть несколько пирожных в частном полулегальном кафе в Камергерском переулке. Сидели мы там с Володей, а за другим столом сидел Блюмкин. Начался разговор, и Володя предлагал Блюмкину вместе устроить вечер и выступить против Горького. Вдруг вошли чекисты проверять бумаги. Подошли к Блюмкину, а он отказался показать документы. Когда начали на него наседать, он сказал:
— Отстаньте, а то буду стрелять!
— Как стрелять?!
— Ну, вот как Мирбаха стрелял.
Они растерялись, и один из них пошёл позвонить, чтобы узнать, что делать. А Блюмкин встал, подошёл к тому, кто стоял у двери, пригрозил ему, чуть ли не револьвером, оттолкнул и ушёл.115
Блюмкин был образованным человеком. Со мной он разговаривал тогда на тему «Авесты» — он занимался древнеиранским языком, у него были филологические интересы.
Второй раз это было в моей квартире в Праге [в двадцать седьмом году], когда я позвал Маяковского и Антонова-Овсеенко на блины.116 Он читал стихи и, в частности, стихи о Горьком. Антонов-Овсеенко усиленно защищал Горького. Тогда Володя сказал:
Он читал стихи и, в частности, стихи о Горьком. Антонов-Овсеенко усиленно защищал Горького. Тогда Володя сказал:
— Пожалуйста, но пусть приезжает. Чего он там сидит?
И он очень жёстко начал говорить о том, что Горький, в сущности, — аморальное явление.
* * *
Когда избирали “Короля поэтов”, я был в жюри. Предложил меня Маяковский. Мы ничего не делали, только подсчитывали голоса. Маяковский читал разные вещи, но публика явно предпочитала Северянина. Было такое настроение — хотелось немножко бытовой радости в жизни. Когда подсчитали, и на первом месте оказался Северянин, встал Бурлюк с лорнетом и сказал:
— Объявляю настоящее собрание распущенным.117
* * *
«Советскую азбуку» мы с Маяковским делали вместе. Когда у него был готов первый стих, а второй не приходил в голову, он говорил:
— Заплачу столько-то, если хорошо придумаешь!
Там довольно много таких общих стихов.
Это его очень забавляло. Существовала такая гимназическая забава — похабные азбуки, и некоторые из этих стихов слегка их напоминают. Эти азбуки были рукописными или даже продавались из-под полы. Ассоциация была явной, и поэтому за эту азбуку на него страшно нападали.
Одна машинистка в каком-то учреждении, из хорошей семьи, со слезами на глазах отказалась перепечатывать такие гадости, как
Вильсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягодицы.
Это весьма типично для похабных азбук. Так что когда она огорчилась, стало понятно, что она их знала.
118
Маяковский при мне часто рисовал плакаты для РОСТА. Раз я даже помог ему найти какую-то рифму.119 Но эта работа его не очень интересовала. Он занимался этим из деловых соображений. Мы никогда с ним не говорили о том, насколько он верит в то, что это серьёзно, а не халтура. Это же не распространялось, не печаталось, а только в “Окнах” было выставлено! И большая часть этих острот была слишком трудной для понимания. Скорее, это было источником халтурного заработка.120
Но эта работа его не очень интересовала. Он занимался этим из деловых соображений. Мы никогда с ним не говорили о том, насколько он верит в то, что это серьёзно, а не халтура. Это же не распространялось, не печаталось, а только в “Окнах” было выставлено! И большая часть этих острот была слишком трудной для понимания. Скорее, это было источником халтурного заработка.120
Агитационные стихи — другое дело, это вроде заготовок впрок. Маяковский всё время думал, что вернётся к настоящему творчеству.
[В его стихах] есть много элементов пародийности. Сравните, например, „Пейте какао Ван-Гутена!” в «Облаке в штанах» с позднейшими стишками «В чём сила? — В этом какао». Это почти дословное повторение, совершеннейшая пародия — так же, как «Клоп» был абсолютной пародией на «Про это».121 Он часто терял голову, действительно не знал — что писать, как писать? Если вы возьмёте, например, стихи Есенину — это же стихи себе!
Он часто терял голову, действительно не знал — что писать, как писать? Если вы возьмёте, например, стихи Есенину — это же стихи себе!
* * *
Летом восемнадцатого года я жил в деревне, близ Воскресенского, и там писал какую-то работу. Когда приехал в Москву, я узнал, что меня ищут из Наркоминдела.
Велись переговоры между РСФСР и Украиной Скоропадского.122 Возглавлял переговоры Раковский.123
Возглавлял переговоры Раковский.123 Речь шла о границах. Украинцы предложили исходить из языковых границ, установленных русскими учёными, и предъявили карту Московской Диалектологической Комиссии, где описывается ряд переходных говоров, и очень много отошло бы к Украине.
Речь шла о границах. Украинцы предложили исходить из языковых границ, установленных русскими учёными, и предъявили карту Московской Диалектологической Комиссии, где описывается ряд переходных говоров, и очень много отошло бы к Украине.
Искали авторов, их было трое: Ушаков, Дурново и Соколов. Но дело было летом, и никого из них не оказалось в Москве. Тогда Богданов, секретарь Этнографического отдела Румянцевского музея, указал на меня, тоже члена Диалектологической Комиссии. Меня разыскали и спросили:
— Слушайте, что это такое, эти границы?
Я ответил, что это всё отнюдь не бесспорно, что это рабочая гипотеза, и надо подходить к этому вопросу не исторически, а попытаться установить, к чему эти переходные говоры ближе, и что оспорить всё это очень легко.
— Вы могли бы это написать?
— Да.
— Можете поскорей?
— Могу сегодня.
— А поместить подпись одного из авторов?
Я ответил, что Ушаков живёт в Подольском уезде, а это всё-таки далековато.
— Вот вам машина и шофёр, езжайте к нему!
И я поехал. Мы с Ушаковым всё обсудили. Оказалось, что на карте действительно были ошибки и неточности, и строить границы так было нельзя. Мы составили вместе письмо. Я у него заночевал, и наутро машина отвезла меня обратно в Москву.124
На этот раз меня принял Владимир Фриче, который был, кажется, замнаркома.125 Он горячо благодарил меня и предложил гонорар. Я сказал, что никаких денег не нужно, но что хворает отец, и надо бы родителей отправить за границу. Сразу выписали им паспорта, и вскоре они уехали.
Он горячо благодарил меня и предложил гонорар. Я сказал, что никаких денег не нужно, но что хворает отец, и надо бы родителей отправить за границу. Сразу выписали им паспорта, и вскоре они уехали.
* * *
Я посоветовал родителям поехать в Швецию, но вместо этого они задержались в Риге. А в Ригу вошла Красная Армия, и они мне прислали отчаянную телеграмму: приезжай спасать.
Часть дороги пришлось ехать в теплушке, набитой красноармейцами, из которых некоторые прямо помирали. С одного из них переползла на меня вошь, и ровно через тринадцать дней я заболел сыпным тифом. Это меня задержало в Риге, а я хотел вернуться в Москву, где был оставлен при Московском университете для подготовки к профессорскому званию.
Отец и брат переехали в другую квартиру, а в этой осталась моя мать, которая обычно не входила в комнату, где я лежал, потому что боялась заразиться. У меня была местная сестра милосердия, которой платили. Я лежал три недели в тяжёлом, тяжёлом бреду, от которого потом год с трудом очухивался, с трудом стал вспоминать, что въяве, а что я видел в бреду.
Вдруг пришли с обыском три латышских чекиста с винтовками, двое мужчин и одна женщина, выяснять, каким образом в этой квартире находится буржуй. Им объяснили, что тут лежит больной. Не поверили. Вошли. А я вскочил в постели, когда увидал их, и закричал в бреду:
— Именем Совнаркома приказываю всех троих предать высшей мере наказания!
Они испугались и потребовали документы. Документ был подписан Троцкой,126 и они ушли. Это одна из шуток судьбы, которые спасли мне жизнь.
и они ушли. Это одна из шуток судьбы, которые спасли мне жизнь.
Это было ранней весной девятнадцатого года. После выздоровления, во второй половине марта, я уехал в Москву — такой слабый после болезни, что не мог даже подняться по ступенькам в вагон.
В Москве я поступил в Отдел изобразительных искусств Наркомпроса (ИЗО), где работал у Брика. Ося к моей деятельности относился очень благожелательно. Если я считал более важной ту работу, которую я делаю дома, если я пропускал два-три дня — он [не возражал]. Я назывался учёным секретарём, помогал в издательских вопросах.
Литературно-издательская секция ИЗО должна была выпустить энциклопедию.127 Во главе секции стоял Кандинский, работал там Шевченко128
Во главе секции стоял Кандинский, работал там Шевченко128 и итальянец Франкетти,129
и итальянец Франкетти,129 который потом эмигрировал в Италию. Брик и я участвовали в редакционных заседаниях, где обсуждались издания секции и, в частности, эта энциклопедия. Некоторые к ней горячо относились — Кандинский тогда написал автобиографию,130
который потом эмигрировал в Италию. Брик и я участвовали в редакционных заседаниях, где обсуждались издания секции и, в частности, эта энциклопедия. Некоторые к ней горячо относились — Кандинский тогда написал автобиографию,130 и многие писали разные статьи. Но Брик, со свойственной ему ядовитостью, сказал, когда ему показали роспись того, кто о чём будет писать:
и многие писали разные статьи. Но Брик, со свойственной ему ядовитостью, сказал, когда ему показали роспись того, кто о чём будет писать:
— Это я понимаю: византийское искусство, специалист по византийскому искусству. Пятнадцатый век, специалист просто по пятнадцатому веку — труднее понять, но ничего. Но вот, что значит это — “статьи на букву Б”? Что это за специалист? Ага, понимаю — специалист по списыванию с Брокгауза и Эфрона…
Редакция попросила меня дать статью для этой энциклопедии, и я им предложил статью и даже написал записочку с содержанием: «Живописная семантика». Все были очень довольны, кроме Кандинского: „Что это такое? Непонятно!” Кандинский был в своём роде милый человек, культурный, немножко, несмотря на всё своё новаторство, эклектик — сочетание немецко-русское, что не очень рифмовалось. Но он был человек талантливый.
В Петрограде уже выходило «Искусство коммуны»,131 и решили, что надо издавать газету в Москве. Не было редактора, и я им привёл совершенно ещё безусого мальца, Костю Уманского. Но он принялся за это дело, и делал эту газету хорошо. Он был очень способный человек и напечатал потом книгу по-немецки об авангардном искусстве — неплохая книга для того времени.132
и решили, что надо издавать газету в Москве. Не было редактора, и я им привёл совершенно ещё безусого мальца, Костю Уманского. Но он принялся за это дело, и делал эту газету хорошо. Он был очень способный человек и напечатал потом книгу по-немецки об авангардном искусстве — неплохая книга для того времени.132 Потом он стал дипломатом и был первым советским послом в Мексике.
Потом он стал дипломатом и был первым советским послом в Мексике.
Я из ИЗО ушёл очень рано, в августе.
* * *
По приезде из Риги я работал с Хлебниковым. Мы готовили вместе двухтомник его сочинений.
133
Когда я приехал, Хлебников был в Москве. Он меня очень сердечно принял, и мы часто виделись. Когда мы оставались вдвоём, он много говорил — а так он больше молчал. И он говорил интересные вещи — например, как фразы, построенные без всякого юмора и без всякого намерения иронизировать, становятся издёвками: „Сенат разъяснил” — это действительное выражение, а потом ‘разъяснил’ получило значение, что „лучше бы не разъяснял”. Он приводил несколько таких примеров.
Он говорил, прыгая с темы на тему. Он очень радовался, что я готовлю его книгу, потому что знал, как я к нему отношусь, и он знал, что у меня была очень хорошая память.
Так называемое «Завещание Хлебникова» — это не завещание, а просто список, который мы вместе составляли: то, что он хотел, чтобы туда вошло.134 Мы решили, что ему надо сказать что-то от себя. Как назвать? Я ему предложил назвать предисловие «Свояси». Это ему очень понравилось. Одно время я колебался: может быть, вместо «Свояси» — «Моями», но это как-то не понравилось по звучанию.
Мы решили, что ему надо сказать что-то от себя. Как назвать? Я ему предложил назвать предисловие «Свояси». Это ему очень понравилось. Одно время я колебался: может быть, вместо «Свояси» — «Моями», но это как-то не понравилось по звучанию.
Хлебников очень резко относился к изданиям Бурлюка. Он говорил, что «Творения» совершенно испорчены, и он очень возмущался тем, что печатали вещи, которые были совсем не для печати, в частности,
Бесконечность — мой горшок
вечность подтиралка
Я люблю тоску кишок
Я зову судьбу мочалкой.135
И он многое исправлял, и в рукописях, и в печатных текстах. Он был против хронологии Бурлюка, которая была фантастическая, но это его не так трогало — его заботили главным образом тексты и разъединение кусков.
Было очень интересно работать с ним над этим. Мы часто встречались. Я сидел у Бриков постоянно, а изредка Хлебников ко мне заходил. Однажды мы были далеко от центра, на одной из маленьких выставок, устроенных ИЗО, — выставке произведений Гумилиной.136 Мы говорили о живописи, был очень интересный разговор, и мы шли пешком ко мне в Лубянский проезд. Я ему предложил подняться ко мне. Мы продолжали разговаривать, но вдруг (это было вскоре после сыпного тифа) я себя почувствовал совершенно разбитым, лёг и уснул. Когда я проснулся, его уже не было.
Мы говорили о живописи, был очень интересный разговор, и мы шли пешком ко мне в Лубянский проезд. Я ему предложил подняться ко мне. Мы продолжали разговаривать, но вдруг (это было вскоре после сыпного тифа) я себя почувствовал совершенно разбитым, лёг и уснул. Когда я проснулся, его уже не было.
Это была наша последняя встреча. Потом он уехал.137 Это никогда нельзя было предвидеть. Ему вдруг хотелось уехать куда-нибудь; у него был кочевой дух. Если бы он тогда не уехал, возможно, мы бы довели до конца эти два тома. Объяснить это было невозможно. Это не потому, что он голодал, — у Бриков его всё-таки подкармливали. Может быть, Лиля ему сказала что-нибудь обидное, это бывало… Он был очень трудный жилец.
Это никогда нельзя было предвидеть. Ему вдруг хотелось уехать куда-нибудь; у него был кочевой дух. Если бы он тогда не уехал, возможно, мы бы довели до конца эти два тома. Объяснить это было невозможно. Это не потому, что он голодал, — у Бриков его всё-таки подкармливали. Может быть, Лиля ему сказала что-нибудь обидное, это бывало… Он был очень трудный жилец.
Моё предисловие к сочинениям называлось тогда «Подступы к Хлебникову» и было издано потом в Праге под названием «Новейшая русская поэзия».138 Это предисловие я читал в мае девятнадцатого года, у Бриков, на первом заседании Московского лингвистического кружка после Октябрьской революции.139
Это предисловие я читал в мае девятнадцатого года, у Бриков, на первом заседании Московского лингвистического кружка после Октябрьской революции.139  Хлебникова не было в Москве, он уже уехал на юг. Был Маяковский, который выступил в прениях. Лиля почему-то опоздала и спросила: „Ну, как было?” — и Маяковский сказал соответствующее горячее слово.
Хлебникова не было в Москве, он уже уехал на юг. Был Маяковский, который выступил в прениях. Лиля почему-то опоздала и спросила: „Ну, как было?” — и Маяковский сказал соответствующее горячее слово.
Тогда были очень крепкие отношения с Хлебниковым, с обеих сторон. Было ясно, что я ему был ближе, чем Брики. Бриков он как-то немножко побаивался, сторонился.
Очень сложные были его отношения с Маяковским. Маяковский с ним говорил немножко наставительно любезно, очень почтительно, но в то же время держал его на расстоянии. Он относился к нему напряжённо, но одновременно восторгался им. Всё это было очень сложно. Ведь есть очень сильное влияние Хлебникова на Маяковского, но есть и сильное влияние Маяковского на Хлебникова. Они были очень разные. Я думаю, что Маяковского больше всего подкупали в Хлебникове какие-то мелкие отрывки, которые были необычайно целостны и сильны. А о Маяковском я от Хлебникова никогда ничего не слыхал, по крайней мере, ничего не помню.
Никогда не забуду, как во время работы над хлебниковскими поэмами на столе лежал открытый лист рукописи с отрывком Из улицы улья / пули как пчёлы. / Шатаются стулья ‹...›140 Володя это прочёл и сказал:
Володя это прочёл и сказал:
— Вот если бы я умел писать, как Витя…
Я ему раз это напомнил, и напомнил жестоко. Я на него очень сердился, что он не издавал Хлебникова, когда мог, и когда получили деньги на это,141 — и не только не издавал, но написал: „Живым бумагу!”142
— и не только не издавал, но написал: „Живым бумагу!”142 Он ответил:
Он ответил:
— Я ничего такого никогда не мог сказать. Если бы я так сказал, я бы так думал, и если бы я так думал, я перестал бы писать стихи.
Это было в Берлине, когда мне нужно было устроить так, чтобы нашлись рукописи Хлебникова — это была идиотская история, которая, конечно, взорвала Маяковского и очень обозлила его. Он не помнил, что случилось с рукописями, ничего об этом не знал. На самом деле он был совершенно ни при чём. История была такова.
Я боялся за рукописи Хлебникова. Квартира моих родителей была, после их отъезда, передана Лингвистическому кружку. Там стояли ящики с книгами Кружка, были полки, и остался без употребления несгораемый шкаф отца. В этот несгораемый шкаф я положил все рукописи. Там были и другие вещи, в частности, мои рукописи.
После смерти Хлебникова я получил от художника Митурича письмо [с просьбой] помочь [выяснить], что сделал Маяковский с рукописями Хлебникова. Я совершенно растерялся. Я знал, что к этому Маяковский никакого касательства не имел. Он их в руках не держал, кроме того случая, о котором я рассказывал, когда он их просто на месте прочёл. Я сейчас же [из Праги] написал своим друзьям из Кружка, в частности Буслаеву, которому я дал ключ от шкафа. А он ключа не мог найти. Тогда я сообщил, что прошу вскрыть шкаф — пусть его уничтожат, мне до этого дела нет. Мне написали, что это будет стоить большую сумму. Я ответил, что всё заплачу, и послал деньги каким-то путём. Вскрыли шкаф и нашли рукописи.143 Они все сохранились. Что не сохранилось — потому что не находилось в шкафу — это были мои книжки с сочинениями Хлебникова, где он своей рукой вносил поправки, частью заполняя пропуски.
Они все сохранились. Что не сохранилось — потому что не находилось в шкафу — это были мои книжки с сочинениями Хлебникова, где он своей рукой вносил поправки, частью заполняя пропуски.
Никогда не бывало, чтобы Хлебников говорил резко о ком-нибудь. Он был очень сдержан и очень, так сказать, сам по себе. Он был рассеянным человеком, каким-то бездомным чудаком до последней степени.
Хлебниковым вообще восторгались, понимали, что он очень крупен. [Но] у Бриков нельзя было сказать тогда, что Хлебников больше Маяковского — но где такие вещи можно сказать? Для меня же было совершенно естественным заглавие лекции Бурлюка «Пушкин и Хлебников».144 Я его принял совершенно и всецело. Думаю, что его ещё по-настоящему не приняли — его ещё откроют. Для этого нужно хорошее издание — по изданию Степанова нельзя его читать. Его [глубоко] понимал Кручёных, который, однако, целый ряд вещей принимал только на веру:
Я его принял совершенно и всецело. Думаю, что его ещё по-настоящему не приняли — его ещё откроют. Для этого нужно хорошее издание — по изданию Степанова нельзя его читать. Его [глубоко] понимал Кручёных, который, однако, целый ряд вещей принимал только на веру:
— Неужели вам может нравиться «Вила и Леший»? Это же так себе.
Больше всего значил Хлебников для Асеева, который был в восторге от него. И совершенно чужд он был Пастернаку — об этом не раз с ним приходилось говорить. Пастернак говорил, что он Хлебникова не понимает совсем.
* * *
Маяковский очень любил Пастернака, а у меня сначала к Пастернаку было довольно-таки двойственное отношение — интересный поэт, но совсем не тот калибр. Помню, как Володя с восторгом читал «Вчера я родился. Себя я не чту…» из сборника «Поверх барьеров». Многими стихами из «Поверх барьеров» он, повторяя их наизусть, восторгался, но наибольшее впечатление на него произвела «Сестра моя — жизнь».
Пастернак уже читал Маяковскому целый ряд стихотворений из этой книги, и Маяковский однажды позвал его к Брикам читать. Был ужин с питием — такой настоящий ужин, обрядовый — в то время это было редкостью. Были, кроме Бриков и Пастернака, Маяковский и я.
Он читал с невероятным увлечением, от первой страницы до последней, всю «Сестру мою — жизнь». Это произвело совершенно ошеломляющее впечатление, особенно «Про эти стихи». Потом все эти колеблющиеся, ветреные стихи, как «В трюмо испаряется чашка какао» и, в частности, сама «Сестра моя — жизнь». Все это приняли восторженно.145
С этого момента я очень ценил Пастернака. Трубецкой меня осуждал за то, что я считаю его большим поэтом. Он был товарищем Пастернака по университету и считал, что он второстепенный поэт. Но всё-таки я написал, будучи совершенно в этом уверен, что настоящие два поэта — исторически — это Хлебников и Маяковский. Потом я перечисляю Пастернака, Мандельштама и Асеева.146
После этого чтения Ося мне говорит:
— Самое смешное, что Пастернак думает, что он философ. А ведь философски это ерунда. Это большие стихи, но философски эти стихи, и его, и Володины, ничего не стоят.
Брик вообще считал, что поэты не умны:
— Ведь ты посмотри на письма Пушкина жене — дворник интереснее пишет жене. Такие письма, как Пушкин жене пишет, Володя Лиличке пишет. Совершенная пошлость, потому что всё подлинное ушло в стихи.
Помню, как после собрания ИМО мы шли с Малкиным147 по одному из московских бульваров. Володя очень иронически по моему адресу спросил Пастернака:
по одному из московских бульваров. Володя очень иронически по моему адресу спросил Пастернака:
— Вот Рома не понимает, для него это стихи, а по-моему, это просто проза: „Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, солнца ладонь на голове моей…”148 — где же рифма?
— где же рифма?
И Пастернак, к моему удивлению, сказал:
— Для меня стихов без рифмы не существует.
Было поразительно, как они оба передо мной отстаивали это, в подробностях. Раньше этого убеждения в России не было, даже у Блока его нет.
Пастернак был очень разговорчив, до болтливости. В нём было немного самолюбования, но всё время было горение. Он жил этим, и это могло утомить. Постоянно натянутые струны, но абсолютно искренно, абсолютно откровенно — что из этого будет? Чья это вина? Что мы должны сделать? Он был очень живым человеком, а также человеком целиком из нервов, в чём угодно — в музыке, в отношении к женщинам, в отношении к поэзии, в отношении к событиям, в отношении к долгу поэта.
Мы не переписывались. А когда я ему послал свою статью о нём,149 то получил от него письмо страниц в сорок. Оно погибло: я уехал из Чехословакии в 1939 году и оставил его своему ученику, а он из страха его уничтожил. В этом письме Пастернак говорил о себе, о своей жизни и о том, какое громадное впечатление произвела эта статья, что впервые он увидел, что его понимают. Это же он рассказывает в письме Йожефу Горе. И он писал о том, каким сильным переживанием было для него видеть свои стихи, которые перевёл Гора, и свою прозу, которую перевела моя жена, на другом славянском языке.150
то получил от него письмо страниц в сорок. Оно погибло: я уехал из Чехословакии в 1939 году и оставил его своему ученику, а он из страха его уничтожил. В этом письме Пастернак говорил о себе, о своей жизни и о том, какое громадное впечатление произвела эта статья, что впервые он увидел, что его понимают. Это же он рассказывает в письме Йожефу Горе. И он писал о том, каким сильным переживанием было для него видеть свои стихи, которые перевёл Гора, и свою прозу, которую перевела моя жена, на другом славянском языке.150 Это было не то же самое, но и не чужое. Для него был момент, когда он не мог оторваться от своих прежних стихов и не мог перейти к другим. А чешские переводы открыли ему эту возможность, потому что они ему показали, что возможен сдвиг.
Это было не то же самое, но и не чужое. Для него был момент, когда он не мог оторваться от своих прежних стихов и не мог перейти к другим. А чешские переводы открыли ему эту возможность, потому что они ему показали, что возможен сдвиг.
Потом он писал так:
— А знаете, Роман Осипович, я всё больше прихожу к убеждению, что у нас, да и не только у нас, сейчас, а может быть и не только сейчас, жизнь поэта, а может быть и не только поэта, пришлась не ко двору.151
Это замечательная фраза.
Пастернаку нравилось то, что я не поэт, а лингвист, близкий к поэзии, — то, собственно говоря, что всегда создавало мне близость к поэтам, а не к лингвистам. Это была близость с русскими поэтами — Маяковский, Хлебников, Пастернак, Асеев — и Кручёных, а к нему я никогда не относился как к поэту; мы переписывались как два теоретика, два заумных теоретика. Потом с чехами — с Незвалом, с Сейфертом и с Ванчурой, отчасти с Библем.152 И в Польше с Юлианом Тувимом и с Вежиньским; во Франции с Арагоном.153
И в Польше с Юлианом Тувимом и с Вежиньским; во Франции с Арагоном.153
* * *
Мои родители жили на третьем этаже в доме Стахеева №3 по Лубянскому проезду. Я жил в том же доме, этажом выше, где снимал комнату у наших знакомых, доктора Гурьяна с семьёй,
154
но ходил к родителям столоваться, пока они ещё были в Москве. Когда они уехали, летом восемнадцатого года, я поселил туда разных своих знакомых лингвистов, например Афремова
155
с семьёй. А гостиную оставили, с той же мебелью, только расставили книги для Московского лингвистического кружка, и это стало помещением Кружка.
Там я прятал Виктора Шкловского, когда за ним гнались по пятам. Он был левым эсером, взрывал мосты. Я его положил на диван и сказал:
— Если сюда придут, делай вид, что ты бумага, и шурши!
Это у него напечатано в «Сентиментальном путешествии», где “архивариус” это говорит.156 Он пытался уйти и спастись, и где-то увидел, что его ищут. Тогда ещё существовал храм Христа Спасителя, и кругом был густой кустарник. Он спрятался и спал в этом кустарнике, и вышел весь в колючках.157
Он пытался уйти и спастись, и где-то увидел, что его ищут. Тогда ещё существовал храм Христа Спасителя, и кругом был густой кустарник. Он спрятался и спал в этом кустарнике, и вышел весь в колючках.157 Затем он пришёл ко мне и рассказал, что ему удалось получить от кого-то бумагу на имя Голоткова и что надо написать на машинке ответы по разным пунктам. Это он у меня писал, и меня поразила его находчивость: он посмотрел на дату, которая значилась на бумаге, и писал по старой орфографии сообразно, так как новая орфография в то время ещё не распространялась. Потом он собирался в путь от меня, уже как Голотков, и разделся догола, гримировал голову, сбривал волосы, совершенно менялся.158
Затем он пришёл ко мне и рассказал, что ему удалось получить от кого-то бумагу на имя Голоткова и что надо написать на машинке ответы по разным пунктам. Это он у меня писал, и меня поразила его находчивость: он посмотрел на дату, которая значилась на бумаге, и писал по старой орфографии сообразно, так как новая орфография в то время ещё не распространялась. Потом он собирался в путь от меня, уже как Голотков, и разделся догола, гримировал голову, сбривал волосы, совершенно менялся.158 В это время ко мне зашёл мой учитель, профессор Николай Николаевич Дурново, который, увидев голого человека, который бреется, красится, ни о чём не спросил, — тогда спрашивать не полагалось, — ничему не удивился и начал мне говорить по поводу своих находок в каких-то древнерусских рукописях (по-моему, он упомянул Остромирово Евангелие). И вдруг удивление: человек этот сделал какие-то филологические замечания.
В это время ко мне зашёл мой учитель, профессор Николай Николаевич Дурново, который, увидев голого человека, который бреется, красится, ни о чём не спросил, — тогда спрашивать не полагалось, — ничему не удивился и начал мне говорить по поводу своих находок в каких-то древнерусских рукописях (по-моему, он упомянул Остромирово Евангелие). И вдруг удивление: человек этот сделал какие-то филологические замечания.
Шкловский понял, что он далеко [уйти] не может, но добрался до Ларисы Рейснер, которая его знала. Ларисе Рейснер он объяснил, что его ловят и что ему беда. Она, взяв с него слово, что он ничего дурного не станет делать, оставила его у себя, а сама поехала и привезла ему бумагу, подписанную, если не ошибаюсь, Троцким, — „каждый, который позволит себе наложить руки на носителя этой бумаги, будет покаран”. Вот как он тогда вылез из этого.159
Когда Шкловский попался, и его должны были судить на процессе эсеров в 1922 году, он сбежал в Финляндию.160 А в Финляндии были всякие неприятности, и ему нужно было доказать, что он не большевик. Тогда он обратился к Репину с письмом, где попросил его заступиться. Репин ему ответил письмом, которое хранилось у меня (когда Шкловский уехал [в Москву], он оставил его у меня, и я его передал в Славянскую библиотеку — Slovanská knihovna — в Праге; весь этот архив потом забрали русские). Письмо было короткое, характерным крупным репинским шрифтом написанное: „Как же Вас не помнить? Вы мне всегда нравились, напоминали [я не помню теперь, кого — не то Сократа, не то кого-то другого. — Б.Я.] своим видом. Но Вы пишете, чтобы я удостоверил, что Вы не большевик, и пишете мне это письмо большевистской орфографией. Как же я Вас стану защищать?” И он не вступился за него.
А в Финляндии были всякие неприятности, и ему нужно было доказать, что он не большевик. Тогда он обратился к Репину с письмом, где попросил его заступиться. Репин ему ответил письмом, которое хранилось у меня (когда Шкловский уехал [в Москву], он оставил его у меня, и я его передал в Славянскую библиотеку — Slovanská knihovna — в Праге; весь этот архив потом забрали русские). Письмо было короткое, характерным крупным репинским шрифтом написанное: „Как же Вас не помнить? Вы мне всегда нравились, напоминали [я не помню теперь, кого — не то Сократа, не то кого-то другого. — Б.Я.] своим видом. Но Вы пишете, чтобы я удостоверил, что Вы не большевик, и пишете мне это письмо большевистской орфографией. Как же я Вас стану защищать?” И он не вступился за него.
* * *
Однажды Володя мне говорил, что у Бриков тесно: „Когда мне хочется писать, мне нужна своя комната”. На четвёртом этаже в доме Стахеева, над квартирой моих родителей, на той же площадке, где жил я, жил один Бальшин.
161
Это был буржуй мелкого пошиба, очень добродушный, но недалёкий человек. И он в это время обратился ко мне:
— Боюсь, меня будут уплотнять. Нет ли у вас какого-нибудь хорошего, смирного жильца?
— Есть.
— Кто это?
— Володя Маяковский.
Бальшин никогда не слыхал о Маяковском.
— Где он работает? — Я говорю, что в РОСТА работает (но не сказал, что он поэт).
— А тихий человек?
— Да, тихий.
— Ну, познакомьте!
Я их познакомил, и при мне произошла следующая сцена. Маяковский сейчас же соглашается. Дверь прямо в переднюю, можно сразу выйти. Бальшин сообщает, сколько это будет стоить, а Маяковский говорит:
— Что Вы, что Вы, это мало! — и предлагает ему бóльшую сумму.
Тогда Бальшин устроил ему всё, что было пошикарней и, в частности, навешал в комнате разные ужасные картины. И когда Маяковский пришёл, он сказал:
— Уберите предков!
Бальшин убрал.162 И поставил ему пианино с золотыми, так называемыми свадебными свечками. Это Маяковский принял. Потом он мне рассказывает:
И поставил ему пианино с золотыми, так называемыми свадебными свечками. Это Маяковский принял. Потом он мне рассказывает:
— Вот что произошло: ночью электричество погасло, а я стихи пишу (он тогда писал «150.000.000»). У меня как раз настроение стихи писать — и темно. Я вспомнил про эти свечи и до утра их сжёг.
Бальшин страшно возмущался этим.
Бальшин спекулировал на чёрном рынке, и у него был телефон. Он заплатил довольно большие деньги, чтобы телефон можно было переносить. И он страшно сердился на Маяковского:
— Вот он со своей Лиличкой по телефону говорит, говорит, говорит, потом уйдёт, дверь запрёт за собой, а телефон у него. Я слышу, мне звонят, а подойти не могу.
Бальшин тогда опять нанял рабочего, который прикрепил телефон к стене, так что Маяковский не мог его забирать. Маяковский ночью вернулся, пошёл взять телефон, рванул его — телефон не поддаётся, он сильнее рванул — не поддаётся. Тогда он его вытащил с куском стены и понёс к себе.
Бальшин, хотя и ругал Маяковского, любил его необычайно. Он плакал как ребёнок, когда Маяковский покончил с собой. Он горячо к нему привязался, и Маяковский к нему по-своему тоже.
* * *
Лето девятнадцатого года я провёл в Пушкине вместе с Маяковским и Бриками.
163
Сидели, читали, писали. Я тогда занимался рифмами Маяковского, и Лёва Гринкруг,
164
который тут же сидел, сказал иронически:
— Все мы увлекаемся Маяковским, но для чего его рифмы выписывать?
Меня тогда увлекал вопрос о сдвиге рифмы от окончания к корню, вопрос о структуре рифм в отношении к их значению, в отношении к синтаксису. Чуть-чуть я коснулся этого в своей статье о Хлебникове, но подробно к этому больше не возвращался, только в лекциях.
Из разговоров в Пушкине мне запомнилась большая дискуссия о необходимости развернуть печатную работу ОПОЯЗа и Московского лингвистического кружка. Между этими учреждениями было некоторое соперничество, и Брик, который вначале был больше связан с питерцами, встал на их сторону. В Московском лингвистическом кружке тогда многое делали по поэтике, и это отличалось от того, что делалось в ОПОЯЗе. Московский лингвистический кружок был всё-таки в первую очередь лингвистический кружок, и лингвистика играла там очень большую роль. Маяковский очень интересовался структурой стихов, говорил со мной много об этом, расспрашивал.
В Пушкине я написал первый набросок своего разбора «А и горе, горе-гореваньице!», который потом, в Америке, вышел как часть большой работы о параллелизме.165 Я тогда много работал. Некоторые работы остались незаконченными — о рифме, о выкриках разносчиков („Зеленщик приехал, зеленщик подкатил, горох, морковку, огурцы прихватил!”) и так далее. Меня интересовало в них минимальное, элементарное проявление поэзии.
Я тогда много работал. Некоторые работы остались незаконченными — о рифме, о выкриках разносчиков („Зеленщик приехал, зеленщик подкатил, горох, морковку, огурцы прихватил!”) и так далее. Меня интересовало в них минимальное, элементарное проявление поэзии.
Тогда же я работал с Богатырёвым. Мы хотели писать книгу о структуре народного театра — эта наша работа потом легла, до известной степени, в основу его книги о народном театре.166
Как-то мы ужинали вчетвером — Брики, Володя и я — на балконе. Ели кашу. Брик только что вернулся из Москвы. И он, с деланной серьёзностью и в то же время чуточку иронически, сказал:
— Да, вот, Володя, сегодня ко мне [в ИЗО] приходил Шиман и развернул передо мной целую серию зарисовок, сделанных Гумилиной с тебя и с неё, — с намёком, что они были очень личного и эротического характера — не помню, в каких выражениях он это преподнёс, но это было сказано.167
Лиля наверно знала, кто такая Гумилина, но она встрепенулась:
— Кто это, что это, в чём дело?
— Это была жена его, она покончила с собой.
Было общее несколько нервное настроение, и Володя с деланным цинизмом сказал:
— Ну как от такого мужа не броситься в окно?
Ося в ответ:
— А я ему говорю: „Что вы ко мне приходите? Может быть, это Маяковского интересует? Меня это не интересует”.
Меня всё это поразило, особенно тон Маяковского. По-моему, совершенно ясно, что это [самоубийство] фигурирует в сценарии «Как поживаете?»168
Гумилину с Маяковским я видел раньше. Эльза намекнула, что она увлекалась Володей, и дала мне прочесть её «Двое в одном сердце» — лирическую прозу, довольно яркую. Гумилина была талантливая женщина, очень хорошая художница. На всех её картинах изображена она сама и Маяковский. Хорошо помню одну: комната под утро, она в рубашке сидит в постели поправляет, кажется, волосы. А Маяковский стоит у окна, в брюках и рубашке, босиком, с дьявольскими копытцами, точно как в «Облаке» — «Плавлю лбом стекло окошечное…». Эльза мне говорила, что Гумилина была героиней последней части «Облака в штанах».
Впервые я видел Гумилину у Эльзы в начале осени шестнадцатого года — когда уже было написано «Двое в одном сердце». Володя сердился, что Эльза её пригласила. Была вечеринка, мы много пили. Был Володя, была Гумилина, был, если мне не изменяет память, брат Гумилиной, и была одна очень хорошенькая, совсем молоденькая девушка, Рита Кон, которая тогда училась балету.
* * *
О «150.000.000» я услышал впервые в начале лета девятнадцатого года, в Пушкине. Маяковский предложил мне выступить в качестве секретаря ИМО (издательства Искусство молодых), и в издательском плане он отстаивал: ««Иван». Былина. Эпос революции» без указания автора.
169
А мне он сказал: „Вот увидишь, что это такое!”
Из Пушкина мы как-то уехали вместе в Москву по какому-то делу. Володя не хотел сидеть в вагоне — он очень боялся сыпного тифа, — и мы стояли между вагонами, на сцепках. Вдруг мне Володя говорит:
— Слушай: та?, та, та — та?, та, та? — та, та, та? — та, та, та? — та, та, та? — та, та — как это называется? Это не гекзаметр?
Я говорю, что, кажется, гекзаметр.
— Как ты думаешь, эпос начать этим — подходит или нет?
Это было, как я узнал потом: „Сто́ пятьдеся́т миллио́нов ма́стера э́той поэ́мы и́мя”.
Когда мы доехали до Москвы, я хотел сходить, а Володя говорит:
— Подожди, пока все они выйдут.
— Почему?
— Не люблю толпы.
— Ты? Поэт масс?
— Массы — одно, толпа — другое.
У Маяковского была страсть — собирать грибы. И мы с ним пошли собирать грибы — это было тогда существенно, потому что еды было не так много. Вдруг он меня отгоняет:
— Иди в сторону, потом поговорим.
Сперва я подумал, что он боится, чтобы я не перенял у него какое-нибудь грибное место. А на самом деле, как он мне потом объяснил, он считает, что лес [и грибы] — самое лучшее место и занятие для того, чтобы обдумывать стихи. Это он писал «150.000.000».
Осенью я узнал больше подробностей о «150.000.000» — в общем, он держал это в секрете. Узнал я эти подробности от его квартирохозяина Бальшина, который с возмущением говорил мне о Маяковском:
— Понимаете, со своей Лиличкой они сидят на полу и малюют плакаты — малюют, малюют, и потом он начинает ей орать против Вильсона, как будто Вильсону не всё равно.
Тут я узнал о том, что там есть что-то о Вильсоне.
Потом он меня как-то позвал и читал мне начало, и это произвело на меня громадное впечатление. А второй раз он позвал меня вместе со Шкловским, который ночевал у меня, и читал нам ту часть, когда начинается гражданская война по всей Москве и по всей России. Я сказал, что мне не нравится, что вдруг получилось большое снижение, и что если уж делать, то во всяком случае не так абстрактно-пропагандно, а [скорее] совершенно конкретно-бытовые лубочные сцены. Он так и сделал — включил некоторые такие сцены, например: „Но недвижимый / в Остоженку врос, / стоймя стал / и стоит Наркомпрос”. Всё равно эта часть не очень хорошо получилась.170 Но зато мне очень понравилась последняя часть: „Может быть, Октябрьской революции сотая годовщина”. Это — реквием.171
Но зато мне очень понравилась последняя часть: „Может быть, Октябрьской революции сотая годовщина”. Это — реквием.171 Читал он это превосходно.
Читал он это превосходно.
Первый раз он читал «150.000.000» у Бриков.172 Помню, как сидела на полу их прехорошенькая кухарка и горничная и с удивлением слушала. Это была ещё не совсем окончательная редакция, а именно та редакция, которую я привёз [в Прагу] и потом через Богатырёва передал Бонч-Бруевичу. (Богатырёв собирал rossica для Бонч-Бруевича, и это спасло ему жизнь: когда началась война, ему разрешили вернуться в Москву.173
Помню, как сидела на полу их прехорошенькая кухарка и горничная и с удивлением слушала. Это была ещё не совсем окончательная редакция, а именно та редакция, которую я привёз [в Прагу] и потом через Богатырёва передал Бонч-Бруевичу. (Богатырёв собирал rossica для Бонч-Бруевича, и это спасло ему жизнь: когда началась война, ему разрешили вернуться в Москву.173 ) В этом тексте есть много отступлений от позднейшего, печатного текста — причём эти отступления далеко не случайны.174
) В этом тексте есть много отступлений от позднейшего, печатного текста — причём эти отступления далеко не случайны.174 Например:
Например:
Быть буржуем —
это не то что капитал
иметь,
золотые транжиря:
это у молодых
на горле
мертвецов пята,
это рот, зажатый комьями жира.
Быть пролетарием —
это не значит быть
чумазым
тем, кто заводы вертит,
быть пролетарием —
грядущее любить,
грязь подвалов взорвавшее,
верьте!
В печатном тексте было:
Не Троцкому,
не Ленину стих умилённый.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
На этом чтении был Луначарский. Это было нужно для того, чтобы он одобрил печатание. (Потом долго не печатали, и когда напечатали, Луначарскому, как известно, досталось от Ленина.
175
) Завязалась дискуссия. Луначарский говорил о том, что это производит очень сильное впечатление и что его радует, что поэт так горячо выступает за революцию,
176
но что когда слушаешь, нет уверенности — риторика это или искренно. В дискуссии выступил я и сказал:
— Анатолий Васильевич, не будем же мы зрителями Художественного театра, которые главным образом о чём думают: эти колонны на сцене — настоящие или картонные?177
Луначарский на это реагировал очень любезно. У него вообще был стиль русского благожелательного интеллигента. Помню, как в первых числах двадцатого года, накануне моей первой поездки в Ревель, я был выбран профессором русской орфоэпии, с одной стороны, в Первой драматической школе,178 а с другой — в Институте декламации Серёжникова.179
а с другой — в Институте декламации Серёжникова.179 На открытие института позвали Луначарского как почётного гостя. Дали какой-то пирог. Пирог тогда был в редкость, и все набросились на него.
На открытие института позвали Луначарского как почётного гостя. Дали какой-то пирог. Пирог тогда был в редкость, и все набросились на него.
— Подождите, подождите, — кричал Серёжников, — нарком хочет пирога! Передайте пирог наркому!
Но всё уже слопали.180
Второй раз Маяковский читал «150.000.000» в Московском лингвистическом кружке.181 Это я помню очень хорошо. Он тогда привёл с собой Гая-Меньшого.182
Это я помню очень хорошо. Он тогда привёл с собой Гая-Меньшого.182 Было довольно много народу: Нейштадт, Винокур, Буслаев и другие. После чтения была дискуссия. Во время этой дискуссии Володя записывал. Я что-то говорил о связи с былинами, кто-то говорил о Державине, кто-то — о Кольцове, и когда Володя отвечал, он сказал:
Было довольно много народу: Нейштадт, Винокур, Буслаев и другие. После чтения была дискуссия. Во время этой дискуссии Володя записывал. Я что-то говорил о связи с былинами, кто-то говорил о Державине, кто-то — о Кольцове, и когда Володя отвечал, он сказал:
— Вот говорят: былины, Кольцов, Державин — а на самом деле это ни то, ни другое, ни третье, а сто пятьдесят миллионов.183
* * *
Идиллии никогда не было — была борьба, постоянно. Были моменты каких-то прорывов — например, когда парки в Москве раскрашивали разными красками к Первому мая, — но в общей сложности нужно было постоянно быть начеку. Маяковский всегда приходил в ожесточённое настроение, когда ему приходилось говорить в разных учреждениях. Как-то раз, рисуя плакаты для РОСТА, он во время передышки нарисовал карикатуру: с одной стороны крепости — три ряда её защитников, но Красная Армия прорывается сквозь все три ряда; а с другой стороны — Луначарский и три ряда секретарш вокруг него — Маяковский пытается прорваться сквозь эти три ряда и не может.
184
Или же он приходил в Госиздат, к Воровскому, и кричал:
— Как вы меня печатаете? Пушкина и то приличнее буквами! А меня какой-то вшивой неразберихой!
Отношение Маяковского к Луначарскому было двойственное. С одной стороны, это был человек, который признавал его и часто старался помочь. С другой, Маяковский видел в нём сильное бюрократическое начало и, кроме того, оппортунизм — тот оппортунизм, который находит себе любопытное отражение в строках обеих последних пьес («Клоп» и «Баня»). Там либо говорится прямо о Луначарской улице,185 или же фразеология Победоносикова пародирует фразеологию Анатолия Васильевича.
или же фразеология Победоносикова пародирует фразеологию Анатолия Васильевича.
У Маяковского был жуткий страх перед тем, что революция измещанится, что она обрастёт бытом. К этому обрастанию у него была совершенная ненависть. Об этом он пишет, этому должен был быть посвящён «Пятый Интернационал». И ему долгое время казалось что в близком будущем возможно поднять то, что он тогда называл „Революцией Духа”, против омещанивания, против консерватизма в архитектуре, против мления на операх Верди и так далее.
Но в то же время, — хотя он заявлял, что этого не будет, — он очень опасался, что [быт восторжествует]. У него были острые и далеко не весёлые прогнозы. Он это ощущал: нашествие быта — и в частной жизни, и в искусстве, в культуре, во всём. Разговаривали мы, и не раз, о писавшемся долго и так и не дописанном котором-то «Интернационале». Когда он работал над этой поэмой, он был очень неуверен и раздражителен, если с ним начинались по этому поводу какие-то пререкания, споры. Она ему казалась самой важной из всего, что он сделал, — самым важным по широкому захвату тем. Вообще вопросы „Революции Духа” были для него долгое время основными вопросами Октябрьской революции — именно с точки зрения предстоящей „Революции Духа” Маяковский определял своё отношение к Октябрю.186
Помню, как он читал мне одну из версий [«Интернационала»], и читал замечательно. Всё это было глубоко, глубоко продумано как стихи. В разговорах об этой поэме он настаивал на хитроумном сочетании логики и зауми. Когда я говорил ему, что ход поэмы становится очень рациональным, очень публицистическим, он сердился, усмехался и говорил:
— А ты не заметил, что всё решение таких математических формул и так далее у меня совершенно заумное? — что это только кажущееся: кажущаяся боязнь поэзии, боязнь стиха, а на самом деле всё это очень построено, так, как построена сатирическая заумь.
Отдельные строки кажутся очень логичными:
Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность,
точность математических формул.
А потом, вдруг, совершенно заумные фразы:
Аксиома:
Все люди имеют шею.
Задача:
Как поэту пользоваться ею.
Он настаивал на неожиданности сочетаний, в частности на том, что последует, когда начинается, по его словам, самое интересное, когда начинаются события конца двадцать первого века. Cпрашивал:
— А как ты думаешь, что придёт, что должно за этим последовать? Можешь догадаться?
и сам же отвечал:
— Картина невыносимой скуки, картина невыносимого опошления — опошления, требующего неизбежно новой революции.
Очень любопытно, что у него всё время это менялось, даже не в течение лет, а в течение разговора: — Что же это, события непосредственные, вот разговоры непосредственно с Лениным предстоят? Или это что-то такое, что наступит через пятьсот лет?
Во всяком случае, это была сокровенная тема. Он, конечно, понимал, что эта тема становится для советской нормы неприемлемой. И он так и не нашёл тех возможностей, которые бы ему позволили поставить свои самые насущные вопросы. Это была крайне трудная тема, становившаяся трудной начиная с заглавия — какой же это Интернационал? Это же всё менялось — “четвёртый”, “пятый” и так далее. Этот „новый бунт / в грядущей / коммунистической сытости” — тема, которая его тогда преследовала, которая была не одной из тем, а Темой.
Маяковский совершенно не представлял себе, что будет дальше. В этом отношении он был глубоко слеп, как, впрочем, и Брик. Брик представлял себе вещи так, что будет демократия и дискуссия в пределах партии, он себе совершенно не представлял полную ликвидацию фракционности. А Володя действительно представлял себе, что коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники,и где будет
многостихов и песен.187
Он в это верил. И он верил, что совершает большой подвиг, когда писал свой не то “пятый”, не то “четвёртый” «Интернационал». Он меня расспрашивал об Эйнштейне, и я его никогда не видел таким восторженным. Он действительно верил, что будет воскресение мёртвых — это фёдоровская [идея].188 Володя так восхищался Эйнштейном, что уговаривал меня, чтобы мы послали ему через РОСТА телеграмму с „приветом науке будущего от искусства будущего”.189
Володя так восхищался Эйнштейном, что уговаривал меня, чтобы мы послали ему через РОСТА телеграмму с „приветом науке будущего от искусства будущего”.189 Я не помню, была она послана или нет.
Я не помню, была она послана или нет.
Мысль, что Россия может прийти к соцреализму, к тому, что будут играть «Травиату», «Онегина» и так далее, и что страна будет глубоко консервативной и реакционной в отношении искусства, была ему невыносима.
У него было самое невероятное отношение ко всему. Он себе совершенно не мог представить, что будет культ машин, культ промышленности. Всё это его ничуть не интересовало: ведь он был страшный романтик. А Хлебников понимал — Но когда дойдёт черёд, / моё мясо станет пылью.190
* * *
Я Маяковского близко видел, когда мы были соседями. Либо он ко мне заходил, либо я к нему — надо было только площадку перейти, больше ничего.
191
Весной, кажется, в апреле, двадцатого года Маяковский вошёл ко мне в комнату и говорит:
— Вот, написал пьесу, хочешь, прочту?
И он стал читать «Как кто проводит время, праздники празднуя».192 Он прочёл, и меня охватила досада. Мне это показалось какой-то дадаистской пропагандой — пропагандой, которой мешал дадаизм, и дадаизмом, которому мешала пропаганда. Получилось не остроумно и просто скучно. Щадя его самолюбие, я сказал:
Он прочёл, и меня охватила досада. Мне это показалось какой-то дадаистской пропагандой — пропагандой, которой мешал дадаизм, и дадаизмом, которому мешала пропаганда. Получилось не остроумно и просто скучно. Щадя его самолюбие, я сказал:
— Володя, это повторение не лучших строк из «Мистерии-буфф» и не очень интересно.
Он очень огорчился.
В то время ещё позванивали мотивы из «Мистерии-буфф». Но то, что там иногда загоралось поэтическим и риторическим остроумием, казалось просто невыносимым в этих маленьких текстах, которые, большей частью, долго оставались неопубликованными.193
II
Вскоре после [чтения «150.000.000» в Московском лингвистическом кружке в январе 1920 года] совершенно случайно я попал в Ревель.
Я в своё время, из-за сыпного тифа, прозевал подачу прошения об отсрочке воинской повинности — чтобы не посылали на фронт гражданской войны. А я имел на это право, потому что был оставлен при университете. Это было очень почётно — давало это в то время гроши, зато — положение.
Но я прозевал, и меня позвали и сказали:
— Вы должны сейчас же явиться с настоящими бумагами, а то, знаете, вы — дезертир.
А в тот день меня ждал обычный покер, в котором участвовал почти всегда Маяковский. Играл там один знакомый, который занимал довольно высокое положение в Главлесе — это было военное учреждение, и тех, кто там служил, не брали на фронт. Когда кончили, он мне говорит:
— Ну, а когда в следующий раз?
— Я вот не знаю, оказывается, я — дезертир, мне нужно сей же час какие-то меры принимать.
— Ох, бросьте, я вас “рою”.
И вдруг, ни с того ни с сего, он меня устроил секретарём Экономически-информационного отдела Главтопа, Главного топливого комитета. Это было в начале осени девятнадцатого года.
В Главтопе я работал месяца два-три, пока не выяснилось, что меня не обязаны брать [на фронт]. Помню, что я даже ходил к Покровскому194 — неприятнейшая фигура, — но мне дали отсрочку, и тогда я ушёл из Главтопа. Мой заведующий тогда сказал:
— неприятнейшая фигура, — но мне дали отсрочку, и тогда я ушёл из Главтопа. Мой заведующий тогда сказал:
— Ах, как жаль, что вы уходите. Вы бы тут большую карьеру сделали, у вас для этой работы громадные способности.
Вообще он был любопытный человек, совершенно не партийный — Пётр Михайлович Шох, хороший экономист.
В Главтопе давали случайные пайки, и раз нам дали маринованные грибы. Тогда мы порешили: как хотите, но мы отдадим дома только половину (я отдал своей хозяйке), а из остального сделаем выпивку! Мы собрались в Лингвистическом кружке. Я раздобыл спирт по знакомству, через Маяковского. Продажа алкоголя была строго запрещена, каралась смертной казнью. Но были продавцы — кавказцы, грузины. Маяковский с ними говорил по-грузински, и они ему доверяли. Называли их Спирташвили.195 У такого Спирташвили я купил спирт, и в складчину мы устроили вечеринку: эти маринованные грибы, какие-то сухарики (хлеба не получили) и водка.
У такого Спирташвили я купил спирт, и в складчину мы устроили вечеринку: эти маринованные грибы, какие-то сухарики (хлеба не получили) и водка.
В Кружке был несгораемый шкаф, который остался от моего отца, — тот самый несгораемый шкаф, в котором лежали рукописи Хлебникова.196 На этот шкаф влез Пётр Михайлович Шох и сказал:
На этот шкаф влез Пётр Михайлович Шох и сказал:
— Товарищи, большевизм — это не политическая проблема, это не социальная и не экономическая проблема — это космическая проблема. Как может мир снести столько неразумия?
Когда я ушёл из Главтопа, Витя Шкловский позвал меня в ОПОЯЗ читать лекции. Я страшно радовался, потому что Главтоп меня утомил невероятно — устал я от всего этого, так мне это было не по душе. Первое время я жил у Шкловского, у его родителей — его отец был учителем на каких-то курсах для рабочих.197 А потом я поселился у одной знакомой, Нади — милейшая девушка, которая была потом актрисой и драматической писательницей.198
А потом я поселился у одной знакомой, Нади — милейшая девушка, которая была потом актрисой и драматической писательницей.198
Я ходил на заседания ОПОЯЗа. Мы встречались в Доме литераторов, которым ведал Корней Чуковский. Он предупредил Шкловского, чтобы всё было тихо, чтобы не было скандала:
— Вы знаете, что мы все очень терпимы. — А Шкловский ему ответил: — Да, да, я знаю, что у вас дом терпимости.
Там я встречал самых разных людей, например Акима Волынского, специалиста по Достоевскому, и других старых литераторов. Я прочёл два доклада. Первый был против «Науки о стихе» Брюсова. Когда я возвращался с него, подошёл ко мне человек петербургской складки — вежливый, выдержанный. Это был Гумилёв. Он усиленно извинялся передо мной, что не был на моём докладе, и сказал, что непременно придёт на доклад о Хлебникове. И сдержал слово. Это был мой второй по счёту доклад о Хлебникове — первый я прочёл в Кружке, — и он прошёл с большим успехом. Выступили Поливанов, Якубинский и другие. Это было в конце ноября или в начале декабря девятнадцатого года.199
Потом я вернулся, встречал Новый год в Москве. Когда я уезжал, Надя попросила меня передать её знакомому письмо, которое было слишком важным, чтобы послать по почте — почта была тогда без марок, бóльшую часть писем выкидывали, мало что доходило. Этот знакомый был Геннадий Янов, который занимал довольно высокое положение у Чичерина в Наркоминделе. А я его знал — он был лет на пять моложе меня и знакомым моего брата.200
Я к нему явился. Он сидел в каком-то кабинете приёмов в Комиссариате иностранных дел. Там были кресла, ковры, было чисто — по тем временам это казалось большим комфортом, мы от этого давно уже отвыкли. Я ему передал письмо. Он его прочёл и потом говорит:
— А что Вы, Рома, делаете?
Я ему в двух словах рассказал, что раньше был в Главтопе, что я оставлен при университете и что мне нужно будет искать какой-нибудь заработок, потому что этого недостаточно.
— Слушайте, не хотите ли за границу?
Это был странный вопрос, ведь было время полной блокады.
— Какая заграница?
— Ревель.
— Ну, это не слишком заграница. Что ж, я бы не отказался, но когда и как?
— Нам нужен человек, знающий языки, туда едет наше первое представительство.
Позже я его спросил, каким образом он мне это предложил просто так, ничего не зная, собственно, обо мне.
— Почти невозможно было найти человека.
— „Почему?
— Боялись, что белогвардейцы взорвут немедленно, как только переедешь границу. — Но я не испугался.
Я вернулся домой к своим приятелям Гурьянам. Дома была мать. Я ей говорю:
— Знаете, я через два дня еду за границу.
— Ну, бросьте дурака валять! Всегда вы выдумываете такие вещи — даже не остроумно.
Я поехал — и книги, и все рукописи остались… Я не знал, на сколько это, как это, что это; ничего не знал. Это было в начале двадцатого года, между Татьяниным днём, который я провёл в Москве, и масленицей, когда я уже был в Ревеле.201
Когда я сел в вагон, со мной в том же купе сидели ещё двое: один, который должен был стать моим шефом в Отделе печати — Михаил Левидов, очень милый и культурный человек, который потом погиб, в конце тридцатых годов,202 а другой — Гай-Меньшой, который был послан Коминтерном в Ревель. Оба меня приняли очень дружественно. Гай держался чуточку настороже, но вообще он был очень милый человек и очень прямой.
а другой — Гай-Меньшой, который был послан Коминтерном в Ревель. Оба меня приняли очень дружественно. Гай держался чуточку настороже, но вообще он был очень милый человек и очень прямой.
У Гая-Меньшого обе фамилии были псевдонимами. Он был американским евреем русского происхождения, его родители эмигрировали из России. Говорил он по-русски с лёгким американским акцентом. Он пробрался в Москву через всю Сибирь во время гражданской войны. Он был сотрудником «Правды» и работал в Коминтерне, и его главным покровителем и другом был Зиновьев. В «Правде» он играл большую роль, был одним из главных сотрудников — кажется, в «Правде» он был Меньшим, а в Коминтерне — Гаем. В Ревеле он пробыл недолго. Я его очень хорошо помню на приёме главарей итальянской коммунистической партии, которые в первый раз ехали в Москву. Приехал тогда же один молодой итальянец, футурист, единственный футурист-коммунист — Артуро Каппа,203 который очень огорчался, что Маринетти пошёл направо.
который очень огорчался, что Маринетти пошёл направо.
Гай-Меньшой рано погиб, он быстро и глубоко разочаровался. Вернувшись в Москву, он стал писать, при посредстве Мартова, статьи под псевдонимом в «Социалистическом вестнике», меньшевистском журнале, выходившем в Берлине. Его тезис был, что советский режим перерождается в фашистский режим, что Россия будет очень шовинистическая страна, опирающаяся на полное насилие. Его поймали, какое-то время он был в ссылке на Соловках, а потом его расстреляли.
Меньшой и Левидов заснули, а мне не спалось, и я вышел походить по коридору. Там я встретил Клышко, который недолгое время работал в миссии первым секретарём. Раньше он работал у Воровского в Госиздате, в качестве помощника по административной части.204 Этот Клышко был очень горячий, ещё с дореволюционного времени коммунист, глубоко верующий православный, и он доказывал мне очень открыто, что не видит в этом противоречия: сейчас в России, где церковь вне политики, такое сочетание вполне возможно. Я ему как-то сказал, что я раз был в Госиздате. „С кем?” — „С Маяковским”. И он яростно набросился на Маяковского: говорил, что вот это — те паразиты, которые нам наиболее вредны. Они подыгрывают, чтобы получать хорошие гонорары и сделать себе имя, но ничего общего с революцией не имеют. И мы с ним очень откровенно спорили [всю ночь].
Этот Клышко был очень горячий, ещё с дореволюционного времени коммунист, глубоко верующий православный, и он доказывал мне очень открыто, что не видит в этом противоречия: сейчас в России, где церковь вне политики, такое сочетание вполне возможно. Я ему как-то сказал, что я раз был в Госиздате. „С кем?” — „С Маяковским”. И он яростно набросился на Маяковского: говорил, что вот это — те паразиты, которые нам наиболее вредны. Они подыгрывают, чтобы получать хорошие гонорары и сделать себе имя, но ничего общего с революцией не имеют. И мы с ним очень откровенно спорили [всю ночь].
Мы долго ехали. Большую часть дороги — если не ошибаюсь, тридцать пять километров, а то и больше — пришлось ехать в санях, потому что дороги были разрушены гражданской войной. С нами ехал весь состав представительства, машинистки и прочие. Нас встретили в пограничном городе, в Нарве, где военный министр Эстонии дал нам ужин: бутерброды с колбасой, с ветчиной — в тот страшный голод, который был тогда… Верхи держались, но девчонки набросились, как будто они вообще не ели в течение двух лет, — как их ни остерегали, чтобы они вели себя прилично.
* * *
Через некоторое время я взял отпуск и поехал в Москву. По возвращении из Ревеля я познакомился с двумя молодыми польскими учёными. (Они были коммунистами и потом „несправедливо ликвидированы” в конце тридцатых годов.) Один из них предложил мне поехать в Прагу в составе миссии Красного Креста. Задачей этой миссии была репатриация бывших русских военнопленных, оставшихся в Чехии с австро-венгерских времён, и попытка установить дипломатические сношения с Чехословакией.
— Вы ведь знаете чешский язык?
Я сказал, что знаю его из сравнительной грамматики славянских языков, которую проходил.
— Где мы такого найдём!
Главой миссии был доктор Гиллерсон, который меня с удовольствием взял — и взял на условии, которое, надо сказать, было очень честным. Он меня спросил, почему я хочу ехать. Я сказал правду, что когда меня оставляли при университете, сказали, что желательно близкое ознакомление со славянским странами и языками, и что я хотел бы работать в университете в Праге. Он ответил:
— Если это будет возможно совместить — пожалуйста.
Потом оказалось, что он против того, чтобы я работал в университете, потому что там были какие-то контры с Москвой. И он тогда сказал, чтобы я выбирал:
— Я вам позволяю выбирать, как хотите.
Я выбрал университет, но мы остались в хороших отношениях. Он потом сам оказался эмигрантом и умер в Париже перед самой войной.
В конце мая двадцатого года я опять поехал в Ревель, где ждал эту миссию Красного Креста, чтобы ехать в Прагу.205 Приехали в Ревель двое мужчин — совсем мальчики: один был Левин, который потом, много лет спустя, по возвращении домой, погиб, а другой был дипломатический курьер Теодор Нетте. Они ко мне подошли и спросили, не знаю ли я профессора Якобсона. Я сказал:
Приехали в Ревель двое мужчин — совсем мальчики: один был Левин, который потом, много лет спустя, по возвращении домой, погиб, а другой был дипломатический курьер Теодор Нетте. Они ко мне подошли и спросили, не знаю ли я профессора Якобсона. Я сказал:
— Профессора Якобсона не существует, но я — это Якобсон.
Мне тогда было двадцать три года, но я выглядел куда моложе, совсем мальчишкой. Когда я, незадолго до этого, читал свою первую лекцию в Первой драматической школе, меня попросили показать входной билет. Я говорю, что у меня нет билета: „Я лекцию читаю”. — „Бросьте дурака валять!”
Надо было ждать Гиллерсона, и мы с Нетте и Левиным провели несколько дней и ночей в Ревеле. Выехали мы из Ревеля в первых числах июля морским путём в Штеттин, а оттуда в Прагу поездом, с остановкой в Берлине.206 Вышло так, что мы с Нетте ехали в одной каюте и как-то сразу очень подружились. Он порассказал мне про свою жизнь. Он с детства работал в сапожной мастерской вместе с отцом, не помню, в каком латвийском городе, и ещё подростком вместе с отцом попал в тюрьму за участие в революционном движении. Потом он участвовал в революции и работал в советской Латвии, в короткий период её существования. В Нетте мужественный закал сочетался с редкой добротой, сердечностью, застенчивостью и душевной чистотой. Он горячо любил поэзию, и латышскую, и русскую. По-русски он говорил превосходно, но с лёгким латышским акцентом.
Вышло так, что мы с Нетте ехали в одной каюте и как-то сразу очень подружились. Он порассказал мне про свою жизнь. Он с детства работал в сапожной мастерской вместе с отцом, не помню, в каком латвийском городе, и ещё подростком вместе с отцом попал в тюрьму за участие в революционном движении. Потом он участвовал в революции и работал в советской Латвии, в короткий период её существования. В Нетте мужественный закал сочетался с редкой добротой, сердечностью, застенчивостью и душевной чистотой. Он горячо любил поэзию, и латышскую, и русскую. По-русски он говорил превосходно, но с лёгким латышским акцентом.
Ночью в каюте я стал ему говорить о Маяковском, у него был лёгкий налёт скепсиса — который тогда господствовал, особенно в кругах Наркоминдела — по адресу Маяковского. Тогда я вынул машинопись «150.000.000», со многими рукописными исправлениями автора, которую должен был попытаться напечатать за границей, и прочёл кусок — Нетте не мог успокоиться, пока я не прочёл всю поэму. Он был в необычайном восторге, говорил, что это первые стихи революционных лет, которые не могут не задеть за живое. Он возмущался, как можно осуждать Маяковского, и я должен был свято обещать ему, что когда он поедет обратно в Москву, я дам ему письмо, которое он лично вручит Маяковскому. А он мне читал знаменитого латышского поэта Райниса.207 Я не понимал по-латышски, но было очень интересно слушать рифмы, и он мне переводил часть стихов.
Я не понимал по-латышски, но было очень интересно слушать рифмы, и он мне переводил часть стихов.
Мы приехали в Прагу в десятых числах июля, а ушёл я из миссии в сентябре. Нетте пробыл там до конца года. Мы с ним бродили по городу, он восхищался красотой и величием старинного зодчества и вспоминал попутно старую Ригу. Нетте вообще был склонен увлекаться. Так, например, он разыскал маленькое, типичное пражское кафе, очень уютное и очаровательное: кафе Derby. В этом кафе было пианино, и играл какой-то, можно сказать, бывший человек, но очень талантливый пианист. И это на Нетте произвело такое впечатление, что он меня привёз туда.
Случилось так, что в дальнейшем я несколько лет жил близ этого кафе, и оно стало моим лейб-кафе. У меня совершенно не было денег, я ел три или четыре раза в неделю, — очень трудно было пройти мимо колбасных в те дни, когда не ел, — и комната у меня не топилась. Тогда я там просиживал по несколько часов с чашкой чёрного кофе (чёрный кофе был дешевле) и булочкой — мне приносили чернильницу с пером, и там я писал книгу о чешском стихе.208 Я там считался, так сказать, постоянным посетителем, ко мне чудесно относились.
Я там считался, так сказать, постоянным посетителем, ко мне чудесно относились.
Как ни странно, это кафе потом сыграло роль не только в моей жизни, но и в пражской научной жизни. Там создавался Пражский лингвистический кружок, и заседания Комитета всегда происходили в этом кафе. Там, например, возникли тезисы Кружка.
Раз Нетте узнал, что коммунист-бухгалтер в Наркоминделе совершил какое-то хищение и его, кажется, присудили к высшей мере наказания. Он плакал, и Левин ему тогда сказал:
— Слушай, ты, наверное, баронов расстреливал?
— То были бароны, а это товарищи.
Нетте очень ко мне привязался. Даже когда я первый раз ушёл из миссии, чтобы работать в университете, он всё время льнул ко мне. Он меня расспрашивал о литературной и культурной жизни, говорил, что быть курьером — это для него только временное, и что он хочет учиться. Чтобы его охарактеризовать: однажды я получил от одного ревельца очень жёсткое письмо, которое я заслужил, — у меня с ним было личное столкновение; когда я показал письмо Нетте, он сказал, что по дороге сейчас поедет через Ревель и что пойдёт и тому человеку даст пощёчину. Обещание Нетте я исполнил и послал через него и со строками о нём письмо Маяковскому. В мае или июне двадцать первого года мы с Нетте в одно и то же время оказались в Берлине. Он рассказывал, как полюбился ему Маяковский, как радушно тот его встретил и как они оба „болтали о Ромке Якобсоне”.209 Он обрадовал меня новостью о выходе «150.000.000», подарил мне эту анонимную книжку,210
Он обрадовал меня новостью о выходе «150.000.000», подарил мне эту анонимную книжку,210 и я настрочил о ней первое оповещение для берлинской газеты «Накануне».211
и я настрочил о ней первое оповещение для берлинской газеты «Накануне».211 А когда в октябре двадцать второго года я ещё раз попал в Берлин, едва ли не прямо на вечер стихов Маяковского, мы сидели впятером — Володя, Лиля, Ося, Шкловский и я — за бутылкой вина, и Маяковский с ласковой усмешкой напомнил мне:
А когда в октябре двадцать второго года я ещё раз попал в Берлин, едва ли не прямо на вечер стихов Маяковского, мы сидели впятером — Володя, Лиля, Ося, Шкловский и я — за бутылкой вина, и Маяковский с ласковой усмешкой напомнил мне:
— А твой Нетте с письмом, он — чудак и очень милый.
Лиля его вспоминала.
Он уехал в конце двадцатого или в начале двадцать первого года. Я его потом раза два видел, когда он привозил диппочту в Прагу. Мы по-прежнему были связаны крепкой дружбой и, конечно, вспоминали Маяковского, стихи которого он теперь знал от доски до доски. Нетте, уже в двадцатом году мечтавший уйти со службы и вовсю приняться за учение, говорил об этом плане ещё более настойчиво.212 Но он был настолько преданным и надёжным сотрудником, что его поступление в университет всячески оттягивали. Он нехотя уступал, и ненароком пришёл конец: во время одной поездки его убили латышские фашисты.
Но он был настолько преданным и надёжным сотрудником, что его поступление в университет всячески оттягивали. Он нехотя уступал, и ненароком пришёл конец: во время одной поездки его убили латышские фашисты.
Вот так объясняется строка обо мне в стихотворении Маяковского о Теодоре Нетте — они действительно ездили несколько раз вместе в вагоне дипкурьеров, и так как их главной общей темой было знакомство со мной, они действительно „болтали” обо мне. Маяковский мне потом читал это стихотворение.
Ещё в то время, когда я был в миссии, мне там надоело. Мне написал Скафтымов, который был деканом филологического факультета Саратовского университета,213 и предложил там профессуру. Я тогда написал своему большому другу и учителю Ушакову письмо — о том, что я устал, что [нахожусь] далеко от русской науки и что есть такое [предложение]. Он мне ответил открыткой: „Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь”.
и предложил там профессуру. Я тогда написал своему большому другу и учителю Ушакову письмо — о том, что я устал, что [нахожусь] далеко от русской науки и что есть такое [предложение]. Он мне ответил открыткой: „Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь”.
Ко мне в миссии хорошо относились. Всё было очень импровизированно. Потом приехал первый полпред, Мостовенко,214 в начале лета двадцать первого года. Я иногда заходил к [Левину, секретарю Гиллерсона], который подкармливал меня, — он получал большой обед, ему давали много кнедликов, а он их мало ел. Раз он мне сказал:
в начале лета двадцать первого года. Я иногда заходил к [Левину, секретарю Гиллерсона], который подкармливал меня, — он получал большой обед, ему давали много кнедликов, а он их мало ел. Раз он мне сказал:
— Ты тут посиди пока, мне надо встретить полпреда.
Я поел немного, пива выпил, прилёг на диване. Когда он вернулся, то разбудил меня и сказал:
— Знаешь, Мостовенко тебя зовёт.
— Зачем?
— Ему нужен человек, который знает чешский язык и вообще ориентируется в чешской культуре, истории и так далее, и что он говорил об этом Чичерину. А Чичерин ему сказал: „Возьмите Якобсона”.215
И Мостовенко мне предложил стать работником полпредства на сдельной оплате, и там я работал до двадцать седьмого года.
Антонов-Овсеенко216 относился ко мне очень тепло. Он был троцкист, и когда вернулся из Германии, где прощался с Троцким, рассказывал мне, что Троцкий ему говорил: „Я знаю, что это конец, но нужно, чтобы я погиб, сохранив чистоту лат”. Потом, когда началась чистка, и потребовали, чтобы он всех беспартийных устранил, и меня в первую очередь, — у меня было много врагов, — он чувствовал себя очень виноватым передо мной. Он сказал: „Оставайтесь здесь”. И он одобрил, что я работаю в редакции «Slavische Rundschau» — так что я как бы не нарушил закон.
относился ко мне очень тепло. Он был троцкист, и когда вернулся из Германии, где прощался с Троцким, рассказывал мне, что Троцкий ему говорил: „Я знаю, что это конец, но нужно, чтобы я погиб, сохранив чистоту лат”. Потом, когда началась чистка, и потребовали, чтобы он всех беспартийных устранил, и меня в первую очередь, — у меня было много врагов, — он чувствовал себя очень виноватым передо мной. Он сказал: „Оставайтесь здесь”. И он одобрил, что я работаю в редакции «Slavische Rundschau» — так что я как бы не нарушил закон.
Я был, надо сказать, дерзким мальчишкой: у меня всё-таки была “футуристическая закваска”. Прислали анкеты, которые надо было заполнять. Был пункт: какой партии сочувствуете, если вне партии? Я оставил его пустым. Тогда мне вернули, сказали, что нельзя оставить пункт незаполненным, и я написал: никакой.
В последние годы я уже знал, что уйду [из полпредства]. Я мог раньше уйти, но у меня было какое-то неверие в свои силы. Я долго, например, не решался идти на докторский экзамен, хотя мне был нужен чешский докторат.
* * *
В свой первый приезд в Прагу, в двадцать седьмом году, Маяковский ночевал в отеле для кокоток на Вацлавском намести — не было комнат нигде.
217
Там были такие занавески и двуспальная кровать, и он сказал: „Я себя чувствую госпожой де Помпадур”.
В полпредстве устроили ему вечер чтения.218 Было довольно много народа. Принимали его, в общем, средне, однако очень дружески его приняли Антонов-Овсеенко и советник Калюжный. Маяковский сказал:
Было довольно много народа. Принимали его, в общем, средне, однако очень дружески его приняли Антонов-Овсеенко и советник Калюжный. Маяковский сказал:
— Когда рабочий принимается за работу, он снимает пиджак, —
снял пиджак и начал читать. Главным образом он читал свои стихи из Америки, в том числе «Домой!». Потом он повернулся к Богатырёву и ко мне и сказал:
— Тут сидят двое истинных ценителей поэзии, и для них я прочту «Мелкая философия на глубоких местах».
Тогда же у него был публичный вечер, где он читал стихи других поэтов, в частности Сельвинского, по памяти и довольно вольно. Асеева он читал «Бык» и «Синие гусары». Богумил Матезиус, кузен лингвиста Матезиуса, перевёл при моём участии «150.000.000»,219 и [Йосеф Гора] прочёл кусок этого перевода. Тогда просили Маяковского прочесть эту поэму по-русски, а он наотрез отказался. Это меня поразило. Он ни за что не хотел её читать. Он вообще не очень любил читать свои старые вещи.220
и [Йосеф Гора] прочёл кусок этого перевода. Тогда просили Маяковского прочесть эту поэму по-русски, а он наотрез отказался. Это меня поразило. Он ни за что не хотел её читать. Он вообще не очень любил читать свои старые вещи.220
Маяковский тогда очень жаловался на Госиздат:
— Какие у нас дураки, — думают, что если я дроблю стихи на мелкие строки, то это для гонораров. А это накрепко связано со стихами.
Особенно они сердились, когда у него был очень короткий стих, в одно слово. Была вечная история, как ему платить. Решили платить за слово. Он говорил, что было очень весело, если было три слова типа: “и у нас”.221 В этот приезд Маяковский читал мне стихи о Париже, со строкой:
В этот приезд Маяковский читал мне стихи о Париже, со строкой:
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.
И говорит:
— Вот эту строку переделать нельзя. Нельзя было, например, писать: “Я хотел бы жить и умереть в Берлине, если б не было такой земли — Варшава”. Это не два мира, а Париж и Москва — два.
Тут же я спросил Маяковского, знал ли он, когда писал эти стихи, очень схожие строки Карамзина в «Письмах русского путешественника»: „Я хочу жить и умереть в моём любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции”. Маяковский заинтересовался — нет, не знал:
— Но это показывает — строки не случайные.222
Однажды Маяковский попросил мою жену, Софью Николаевну, показать ему город. Она повела его по длинной улице. Он с интересом смотрел.
— Ну что, можно возвращаться?
— Как возвращаться?! Ты же хотел Прагу посмотреть!
— Я и смотрел. Сперва с одной стороны, а теперь с другой — это разные вещи.
А когда Адольф Гофмейстер его спросил: „Почему вас тянуло в Прагу?”, он ответил: „Люблю подробности”.223
В двадцать девятом году Маяковского принимали очень холодно в полпредстве — из-за него или из-за меня, я не знаю. Но он уже тогда был на плохом счету. Мне рассказывали люди, приезжавшие из России, что считалось уже выгодным и шиком его шпынять, что нападал на него каждый, кому не лень.
Он читал тогда «Клопа» заведующему репертуаром Виноградского театра, Кодичку, и я надеялся, что можно будет поставить его. Но решили, что не подойдёт. Он читал замечательно.224 Потом мы пошли выпить. Но Маяковский рвался вовсю в Париж и откровенно об этом говорил. Особенно моей жене (они были большие друзья):
Потом мы пошли выпить. Но Маяковский рвался вовсю в Париж и откровенно об этом говорил. Особенно моей жене (они были большие друзья):
— Вот, полюбил и тут же всё отбрасываю в сторону.
Когда он уезжал, он сказал ей:
— Да вот, вдруг научился: любить, а ревновать не надо.
Со мной он тогда говорил в духе стихотворения «Во весь голос» — что поэзия кончилась, что это не поэзия, это бог весть что такое делается, что это совершенный службизм.
III
Маяковский никогда не был счастлив, даже в период поэмы «Люблю» — там тоже есть тема времени:
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица. Любовь поцветёт,
поцветёт —
и скукожится.
225
Он был очень тяжёлый и глубоко несчастный человек, это чувствовалось. Иногда, подвыпивши, он умел немножко своим остроумием… У него было действительно какое-то вечное отрочество, какое-то не дожитое созревание. Хлебников был другой, он не был несчастным, он был эпическим, принимал жизнь, как она есть.
Маяковский был лириком больших полотен, и он действительно верил, что будет всё время возвращаться к лирике. Я это от него слышал десятки раз.226 Он был очень откровенен со мной — он знал, что это останется глубоко между нами, пока он жив. И он многое говорил, очень открыто.
Он был очень откровенен со мной — он знал, что это останется глубоко между нами, пока он жив. И он многое говорил, очень открыто.
Но он сломался. Сломался он, я думаю, в год встречи с Татьяной Яковлевой. Мне Эльза тогда подробно писала — вот, говорит, какую глупость наделала, познакомила с девушкой, думала, что у него будет приятная встреча, а он возьми и влюбись, и так серьёзно. А это было в момент, когда ему стало жить одному уже совершенно невтерпёж, когда ему нужно было что-то глубоко переменить.227
Маяковский бы не сделал ничего больше. Он был в слишком большом отчаянии. Всё это были не решаемые задачи. То, что он написал в своём прощальном письме, — „у меня выходов нет” — это была правда. Он всё равно бы погиб, что бы ни было, где бы он ни был — в России, в Швеции или в Америке. Этот человек абсолютно не был приспособлен для жизни.
Людям трудно в это поверить, но Маяковский был чрезвычайно сентиментален. На людях, перед широким кругом, он был страшно жёсток и агрессивен, но то, что он пишет в «Облаке в штанах»:
Хорошо, когда в жёлтую кофту
душа от осмотров укутана!
— это было. Раз он меня чем-то обидел, какой-то ерундой — он что-то сказал, меня рассердило, и я ушёл. Тогда он прибежал ко мне в ИЗО, где я работал у Брика, вызвал меня на лестницу и стал меня со слезами на глазах упрашивать на него не обижаться и не сердиться. А я уже совершенно забыл, что я ему и говорил, — но он не поверил.
Он невероятно боялся Лили. Она могла ему выговор сделать, и он был убит. Ведь она долго держала его на расстоянии. Но у него была железная выдержка. Она очень увлекалась его стихами, и вообще он казался ей совершенно необычным человеком. Но он был совершенно не для неё человек; она его здорово переделала.
Я знал кое-кого из тех, кто был вокруг неё, и я должен сказать — не для неё это были люди, не по её масштабу. Ею очень увлекались. Я не могу сказать, что она была красивая, но было в ней что-то совершенно необычное, необыкновенное. И цвет кожи, и волос — она была необычайного изящества женщина.
Я лично думаю, что она кроме Оси никого не любила. А Ося был человек, который мог заниматься сегодня повторами, завтра — искусством любви, послезавтра — устройством необычайно рационального каталога спекулянтов для Чека. О нём сказал Володя в начале апреля семнадцатого года:
— Вот человек без малейшей сентиментальности.
С Эльзой у Маяковского тоже было много братской нежности, я бы сказал. Люди думают, что в своих воспоминаниях она говорит неправду — что она приехала за ним в Петербург, потому что он писал ей отчаянные письма. Но это факт.228 Много такого было. И вместе с этим была невероятная жёсткость и, кроме того, невероятный эгоцентризм. Ося о нём сказал:
Много такого было. И вместе с этим была невероятная жёсткость и, кроме того, невероятный эгоцентризм. Ося о нём сказал:
— Володя считает, что если он с кем-то дружит, это значит, что он этого человека может послать на Ваганьковское кладбище за папиросами.
Илья Зданевич однажды говорил Володе, как он его любит, и Володя говорил, как он его любит, и потом вдруг:
— Дай-ка мне двадцать рублей, мне нужно сегодня.
— Разве в этом состоит дружба?
— А если не в этом, так в чём?
В то время в этих кругах [сплетничать] не полагалось. Маяковский никогда не сплетничал, ни о себе, ни о других. Он вообще не разговаривал. Он шутил, читал стихи. Говорил на какие-то литературные темы, об издательствах. Он не любил разговоров. Он был довольно молчаливый человек. Ося тоже. Он разговаривал на темы, которые его интересовали, научные или профессиональные.
О личной жизни друг друга очень мало кто знал. Когда я думаю о том, как мы жили в Пушкине… Жизнь была довольно откровенная, но в то же время это не было злобой дня. У дачи, которую мы заняли, был старый запущенный сад. Мы нашли какие-то ворота, даже не в достаточном количестве, и играли в крокет, недалеко от забора. Лиля была сильно в дезабилье. Кто-то стоял у забора и пялился на неё во все глаза, и она закричала:
— Что, голую бабу не видали?
Маяковский гордился тем, что ни разу не написал скабрезного стихотворения, кроме таких двустиший, как:
Нельзя лезть на козу еться —
это наказуется!
или
Здорова Ядвига еться —
ёрзает и двигается.
Как-то Лиля спросила Володю, может ли он найти рифму на слово ‘хирурга’. Он сказал:
Спросила девушка у хирурга:
Что, если на херу рога?
Володя любил говорить о себе как о футуристе. Его очень трогало, во-первых, что у меня столько воспоминаний, связанных с футуризмом, и, во-вторых, что я не отношусь к этому, как будто это — „прошлое”.
Два примера. Однажды я рассказывал ему о вечерах футуристов, приводил его шутки и так далее, и в это время вошла Лиля; это было в Пушкине. И Лиля к этому отнеслась немножко иронически. А Володя говорит:
— Нет, это трогательно.
Потом, в двадцать втором или третьем году, в коридоре берлинской гостиницы Маяковский ко мне повернулся и говорит:
— А ты сейчас как: комфут?229
— Нет, просто футурист.
И он очень рассмеялся, это ему понравилось. Он от футуризма никогда не отказывался и никогда реалистом не становился. Когда с ним говорили о реализме, он приводил из себя же: „И мы реалисты, / но не на подножном корму…”230
У Маяковского была феноменальная память, которая, однако, ухудшилась с годами.231 Вначале он мог читать что угодно без клочка бумаги — например, «150.000.000». И он помнил невероятное количество чужих стихов, хотя он часто перевирал их, когда читал. В частности, он помнил Блока, которого ценил.
Вначале он мог читать что угодно без клочка бумаги — например, «150.000.000». И он помнил невероятное количество чужих стихов, хотя он часто перевирал их, когда читал. В частности, он помнил Блока, которого ценил.
Как-то Лиля сказала:
— Вот Блока у меня нет, а иногда хотелось бы посмотреть.
Тогда Маяковский поехал к Блоку и сказал ему:
— Вот, захотелось Ваши стихи почитать
Потом он рассказывал:
— Поговорили мы с Блоком, принял хорошо, дал мне свои стихи с надписью. Я Лиле принёс. Стал читать, ну и, как тебе сказать: как будто и рифмы плохие, и стихи не то — а производит впечатление.232
Маяковский не любил детей, потому что они — продолжение нынешнего быта. Интересно, по отношению к кому это проявилось. Он сидел со мной [в Праге]. Вбежал годовалый Костя Богатырёв, и Маяковский сказал:
— Уберите его!233
Он ненавидел рассказы о своём детстве, о ранних годах. Когда его сёстры приезжали в гости в Пушкино и начинали рассказывать, он приходил в ярость.234
А собак он очень любил. Это видно из последней части «Про это» и из ряда других вещей, но особенно это сказывалось в жизни. Он весело и нежно играл со Щеником235 и не раз говорил мне:
и не раз говорил мне:
— Вот Щен — зверь, люблю зверей. Щен — как люди, а говорить не может. Это приятно.
Как-то Маяковский сказал мне, что у русских нет настоящего юмора. Настоящий юмор у украинцев, редкостный юмор — это Гоголь, с его украинским и мировым юмором. И если взять русских писателей, то все, кто так или иначе связан с Украиной, — юмористы. Пусть это будет Аверченко или Бурлюк, пусть это будет ростовец Чехов. Всё время эти украинские чёрточки проявляются. А у русских не юмор, а сатира — это Салтыков-Щедрин, и что-то совсем другое. А у него, Маяковского, по его словам, юмор тоже украинский, и он напоминал, что его дед — сечевик, и так далее. Он говорил, что у него совсем не русский юмор, что русский юмор злее и угрюмее.
У Маяковского был такой, я сказал бы, неоимпрессионистического типа, портрет женщины. Кто-то сказал, что он остался незаконченным, что он недоделанный, на что он отвечал:
— Ну, некогда было — целовались.
В восемнадцатом или девятнадцатом году мы с Маяковским как-то шли по улице в Москве, и вдруг он меня спрашивает:
— Слушай, могу у тебя спросить одну вещь, тебе не покажется странным?
— Спрашивай.
— Идёшь по улице один — и вдруг замечаешь, что ты думаешь о чём-то невероятно глупом, нелепом, бессодержательном, и думаешь сосредоточенно. С тобой это бывает?
— О да, часто бывает.
— Слава Богу, а то я думал, что это только со мной.
Это очень характерно для психики Маяковского.
Когда я однажды сказал Маяковскому, что „это хорошо, но хуже Маяковского”, он сказал, что это невозможно:
— Если бы я знал, что иду вниз, это конец.236
Бриковский «Пушкин» — это было разрозненное вольфовское издание, из которого листы сыпались, потому что занимались по нему, выдирали. Помню, как мы с Володей утром пили чай, и Володя говорит:
— Знаешь, как в мясных говорили: „Хороший кусок мне сегодня попался — Полтава”.
Маяковский очень любил Пушкина.
Во Флинцберге, летом 1923 года, Маяковский читал мне «Про это», которое я уже прочёл, но не слышал. Тогда он всё время играл и, в частности, обыгрывал в карты какого-то богача-эмигранта, который вывез из Сибири колоссальное количество платины.
Маяковский мне говорил несколько раз, по разным поводам, что ничто его не приводит в такое состояние возмущения, гнева и ненависти, как юдофобство.
Однажды в 1917 году я сидел у Бриков в Петрограде. Лиля говорит:
— А ты читаешь философию?
— Да, конечно.
— А вот Киркегора — ты читал?
— Нет, не читал.
— Слушай, прочти, у меня вот случайно его книга по-немецки. Я её читаю и перевожу Володе. Замечательная вещь!237
Было запрещено, под угрозой высшей меры наказания, без особого разрешения иметь оружие. А у меня была испанская трость, из которой вынимался кинжал. Это было легко узнать, и попадаться из-за этого не стоило. А партийные имели право иметь оружие, и я принёс трость Брику, который сказал:
Это — до падения советской власти.
Никакого низкопоклонства тогда ещё не было.
[Когда Маяковский писал «Про это»], еду ему приносила Надя, бывшая кухарка моих родителей, которая осталась жить в квартире, и она очень полюбила его. Пекла замечательные пирожки и готова была его откармливать. Когда она услыхала, что он покончил с собой, она рванулась туда, — это она мне сама рассказывала, когда я видел её в пятьдесят шестом году.
— Не ходи туда, там ГПУ!
— Кто мне помешает, — Владимир Владимирович кончается!
Она вбежала и видит:
— Лежит страшный и ревёт как лев.
Я думал, что это такая фольклорная выдумка. А на самом деле, в томе воспоминаний о Маяковском [Лавинская] рассказывает, что была снята фотография, где он в агонии.238 Потом, когда я заговорил об этом с Лилей, она сказала:
Потом, когда я заговорил об этом с Лилей, она сказала:
— Ну как же, у меня фотография эта есть.
—————————————
Примечания *
* Автобиографические заметки P.O. Якобсона были записаны мною на магнитофон, в виде бесед между нами, в феврале-марте (в Кембридже, Массачусетс) и в июне (на острове Готланд) 1977 г. При редактировании текста я убрал все свои вопросы и комментарии, превращая таким образом беседу в сплошной монолог. Запись состоит из двенадцати бесед, в течение которых, по естественным причинам, невозможно было соблюсти ни хронологическую, ни тематическую последовательность. Некоторые части поэтому переставлены в интересах связности текста. В текст внесены также незначительные поправки чисто стилистического характера, исправлены некоторые явные ошибки и неточности и т.д. Вставленные мною слова даются в квадратных скобках. Название «Будетлянин науки» принадлежит мне. Текст по абзац „Мною овладело и росло невероятное увлечение Хлебниковым. ‹...› Был он, короче говоря, наибольшим мировым поэтом нынешнего века” правлен Якобсоном.
Текст разделён на три части: I. Русский период жизни Якобсона, II. Заграница, III. Фрагменты воспоминаний о Маяковском.
Фрагменты бесед, не вошедшие в основной текст, приводятся в комментариях с указанием М3 (= Магнитофонная запись).
Бенгт Янгфельдт 1
1 Николай Алексеевич Умов (1846–1915), физик, профессор Московского университета. Известен широкой научно-пропагандистской деятельностью. Орест Данилович Хвольсон (1852–1934), физик, профессор Петербургского университета, член-корреспондент Российской академии наук. Автор многократно переиздававшегося пятитомного «Курса физики». Об интересе молодых филологов к современной физике говорит письмо Б.В. Томашевского к жене с просьбой прислать ему из Петербурга в Льеж „выписку из Хвольсона по поводу теплоёмкости газов”. Однако Томашевский относился скептически к Хвольсону, о чём свидетельствует его письмо С.П. Боброву от 27.5.1916 г.: „Вы знаете, есть два типа учёных — одни много знают — это Хвольсоны — но с их именем ничего в науке не связано. Из своих знаний кроме энциклопедии они ничего сделать не могут. Другие ‹...› мало знают, но в то же время и умело применяют свои знания” (Томашевский, 1990,145–146).
 2
2 Исаак Львович Кан (1895–1945), издатель школьного журнала Лазаревского института «Мысль ученика», в котором Якобсон печатал свои первые литературные опыты. „Кан потом, — вспоминает о нём дальше Якобсон, — кочевал между вопросами искусства (как художник и как теоретик живописи). Затем, отчасти под моим влиянием, он увлёкся было лингвистикой, потом перешёл к археологии, в связи с растущим в то время восхищением древнерусской живописью. Потом, после революции, он стал архитектором, был очень даровитым архитектором, эмигрировал сперва в Берлин, а потом в Прагу; в Чехословакии есть очень интересные его постройки. Он остался в Чехословакии и погиб под германской оккупацией” (МЗ). Вместе с Якобсоном, Буслаевым и Богатырёвым Кан участвовал в диалектологических поездках по уездам Московской губернии (Якобсон/Богатырёв, 1922, 175). В статье «Vliv revoluce na ruský jazyk» Якобсон выражает благодарность Кану за наблюдения, использованные в этой работе (Jakobson, 1921, 31) — См. также шуточное стихотв. Якобсона по адресу Кана.
 3
3 Сергей Максимович Байдин (1894–1919), художник. См. также письмо к М. Матюшину и письмо 12 к Эльзе Триоле.
 4
4 Выставка «Мишень», с работами М. Ларионова, Н. Гончаровой, К. Малевича, М. Ле-Дантю и др., была открыта с 24 марта по 7 апреля 1913 г. Устроенная Ларионовым выставка «№4» (футуристы, лучисты, примитив) состоялась в марте 1914 г. с участием В. Чекрыгина и др. молодых художников.
 5
5 Похороны Серова состоялись в Москве 24 ноября 1911 г.
 6
6 Картины находятся теперь в Русском музее в Санкт-Петербурге.
 7
7 Владимир Жебровский был школьным товарищем Якобсона, который проводил летние каникулы у Жебровских в Тульской губернии.
 8
8 Ср. газетный отчёт: „‹...› Ученик Училища живописи, указав на тяжёлые потери, которые понесло русское искусство за последние пять лет в лице Мусатова, Врубеля и, наконец, В.А. Серова, высказался в том смысле, что лучшее чествование светлой памяти покойного — следование его заветам” (Русское слово, 1911, 25.11).
 9
9 Выставка «Бубнового валета» открылась 23 января 1912 г.
 10
10 Адольф Израилевич Мильман (1888–1930), член «Бубнового валета». Он участвовал в выставках «Бубнового валета» 1912 г. (четыре картины), 1913 г. (на московской выставке — четыре картины, на петербургской — 13 картин) и 1914 г. (18 картин). (Каталоги выставок напечатаны в: Поспелов, 1990, 242–267.) После февральской революции принимал участие в работе общества «Мир искусства» и Совета организаций художников Москвы (что соответствовало петроградскому Союзу деятелей искусств). Его картина «Крымский пейзаж» (1916) показывалась на выставке «Time of Change 1905–1930» в Хельсинки в 1988 г. „У меня были хорошие отношения с Адольфом Мильманом. Он мне даже подарил (и у меня долго висел) один из своих пейзажей, написанный где-то недалеко от Жигулей, где писал Левитан” (МЗ).
 11
11 «Остров мёртвых» Рахманинова исполнялся 4 февраля 1912 г. в Благородном собрании. В своей автобиографии Маяковский пишет, что в этот вечер, когда и он, и Бурлюк „бежали от невыносимой мелодизированной скуки”, родился русский футуризм.
 12
12 На диспутах, устроенных «Бубновым валетом» 12 и 25 февраля 1912 г., Д. Бурлюк читал два доклада о кубизме. Согласно А. Кручёных, на втором диспуте (на котором присутствовал Якобсон) Кручёных и Маяковский выступали в качестве официальных оппонентов (см.: Харджиев, 1976, 11). Ср. восп. А. Кручёных: „Маяковский прочёл целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет — оно многообразно, диалектично. Он выступал серьёзно, почти академически” (Катанян, 1985, 59).
 13
13 Поэма В. Хлебникова и А. Кручёных «Игра в аду», иллюстрированная литографированными рисунками М. Ларионова и Н. Гончаровой, была готова ещё в августе 1912 г., хотя, согласно «Книжной летописи», она вышла во второй половине октября.
 14
14 Генрих Эдмундович Тастевен (1881–1915), критик, одно время работал секретарём редакции журн. «Золотое руно», в 1914 г. издал кн. «Футуризм: На пути к новому символизму». В качестве русского делегата парижской «Sociétés des grandes conférences» он пригласил главу итальянского футуризма Ф.Т. Маринетти в Россию в январе 1914 г. См. ниже.
 15 A. Thibaudet
15 A. Thibaudet. La poésie de S. Mallarmé, Paris, 1913.
 16
16 См. СиП, 6, 20.
 17
17 Перевод стихотв. Малларме см. П, I.
 18 R. Jakobson
18 R. Jakobson. Manuscript Collection, 72, Series 6A, 17:63–68.1 (MIT).
 19
19 Ср. «Retrospect» Якобсона: „[Trediakovskij’s] tetrameters — both iambic and trochaic — proved to display an exceptional width of tentative rhythmical variations, a licence prompted by the inherited bookish pattern of syllabic versification and probably also by the flexible forms of Russian oral poetry which continuously attracted the attention of the laborious innovator. ‹...› The superb variability of Trediakovskij’s iambic tetrameter has been confirmed by the recent computations of Russian metricians (in particular, M.L. Gasparov)”. Якобсон ссылается здесь на статью М.Л. Гаспарова «Лёгкий и тяжёлый стих» (Гаспаров, 1977), которую составитель этих комментариев показал ему во время его пребывания на Готланде летом 1977 г., когда Якобсон работал над «Retrospect» к пятому тому избранных трудов — его поразило сходство результатов Гаспарова и его собственных заключений шестидесятилетней давности. Якобсон продолжал работать над творчеством Тредиаковского, и в начале 1915 г. читал доклад «Влияние народной словесности на Тредиаковского» в Комиссии по народной словесности при Этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
 20
20 Сборник вышел в середине декабря 1912 г.
 21
21 Под общим заглавием «Конь Пржевальского» были соединены восемь стихотв., в том числе «На острове Эзеле», «Бобэоби пелись губы…» и «Крылышкуя золотописьмом…». Помимо названных Якобсоном вещей, в сборнике напечатаны ещё «Памятник» и само стихотв. «Конь Пржевальского».
 22
22 Надо полагать, что речь идёт о диспуте о современном искусстве, устроенном 12 февраля 1912 г. «Бубновым валетом», на котором Д. Бурлюк читал доклад «О кубизме и других направлениях в живописи».
 23
23 Диспут состоялся 12 февраля 1913 г.
 24
24 Выступление Маяковского на диспуте 12 февраля не зафиксировано газетами. О нападении Маяковского на М. Волошина упоминается в связи со вторым диспутом «Бубнового валета» (см. след. прим.). Ср. рассказ Шкловского о выступлении Маяковского: „Он произнёс стихотворение, изменяя его: „Коль червь сомнения заполз тебе за шею, / Сама его дави, а не давай лакею”. Если вы сомневаетесь в новом искусстве, зачем вы вызвали символистов?” (Шкловский, 1974, 26).
 25
25 Речь идёт о «Втором диспуте о современном искусстве», организованном «Бубновым валетом». Ср. газетный отчёт: „Футурист зычно апеллировал к аудитории: „Господа, прошу вашей защиты от произвола кучки, размазывающей слюни по студню искусства”. Аудитория, конечно, стала на сторону футуриста… Целых четверть часа в зале стоял стон от аплодисментов, криков “долой”, свиста и шиканья. Всё-таки решительность Маяковского одержала победу” (Московская газета, 1913, 25.2).
 26
26 В письме в редакцию газ. «Русское слово» (1913, 4.5.) Кандинский заявил, что помещение четырёх стихотворений в прозе из его книги «Klänge» в переводе на русский язык оказалось для него полной неожиданностью.
 27
27 К.Д. Бальмонт вернулся в Россию 5 мая 1913 г.
 28
28 О выступлении Маяковского см.: Катанян, 1985, 67.
 29
29 Речь идёт о Л.Ю. и О.М. Бриках. Ср. восп. Л.Ю. Брик об этом вечере: „[Маяковский] говорил убедительно и смело, в том роде, что это раньше было красиво „дрожать ступеням под ногами”, а сейчас он предпочитает подниматься в лифте. Потом я видела, как Брюсов отчитывал Володю в одной из гостиных «Кружка»: „В день юбилея… Разве можно?!” Но явно радовался, что Бальмонту досталось. ‹...› В тот же вечер я видела, как Володя стоял перед портретом Репина «Толстой» и говорил окружавшей его кучке джентльменов: „Надо быть хамом, чтобы так написать”. Мне и Брику всё это очень понравилось, но мы продолжали возмущаться, я в особенности, скандалистами, у которых ни одно выступление не обходится без городового и сломанных стульев, и меня так и не удалось ни разу вытащить проверить, в чём дело” (Брик, 1934, 59, 60).
 30
30 Первый «Садок судей» вышел в 1910 г., второй — в начале 1913 г.
 31
31 Статья Городецкого, о которой вспоминает Якобсон, — рец. не на второй «Садок судей», а на кн. Кручёных и Хлебникова «Игра в аду». В статье приводится целиком стихотв. «Заклятие смехом». Городецкий пишет: „Имя Алексея Кручёных нам встречается впервые, но Виктора Хлебникова мы помним по «Студии», затеянной Н. Кульбиным, и по знаменитому — ибо он был отпечатан на подлинных обоях — «Садку судей»” (Речь, 1912: 269, 270.) Кроме «Заклятия смехом», в Студии Импрессионистов (1910) напечатано ещё стихотв. Хлебникова «Трущобы».
 32
32 См. сборник И.П. Сахарова «Сказания русского народа», СПб., 1841, т. I, кн. 2, 46–47. «Ночь в Галиции» впервые опубликована в феврале 1914 г. в «Изборнике стихов». См. также: Харджиев, 1975а.
 33
33 В «Книжной летописи» указано, что «Ряв!» вышел в издательстве Кручёных «ЕУЫ» в конце декабря 1913 г. На книге годом издания значится 1914.
 34
34 Манифест был опубликован только в 1930 г. в вып. 18 «Неизданного Хлебникова».
 35
35 В записной книжке Кручёных за 1916–1918 гг. есть записи, свидетельствующие об интенсивных контактах с Якобсоном: „Для критики материа‹лов›: у Якоб‹сона›”; „выложить всё, ч‹то› хочешь: письма Хлеб‹никова›, Ш‹емшурин›а, Якоб‹сона›, О. Р‹озановой›”; „1) Якоб‹сон› — 2 статьи, его новая заумь для Кульб‹ина› ‹...› 9) чекать 10 книг (?!), рассп‹...›росить у Якоб‹сона›; 10) от Якоб‹сона› и разн‹ое›, Кучумову” (частный архив; за эту справку благодарю А.Е. Парниса).
 36
36 Несмотря на то, что, согласно Якобсону, Кручёных предпочитал Хлебникова Маяковскому, он выпустил в 1914 г. первую книгу о Маяковском, «Стихи В. Маяковского».
 37
37 На книге годом издания значится 1916. Согласно «Книжной летописи», книга вышла в августе 1915 г. В «Заумной гниге» напечатаны два заумных стихотворения Алягрова (литературный псевдоним Якобсона). Подробнее об этом псевдониме см. прим. 44.
 38
38 Ср. описание встречи с Кручёных в «Беседах», 134.
 39
39 Ср. у Хлебникова:
И своды надменные взвились — /
Законы подземной гурьбы; у Маяковского: „Лишь, злобно забившись под своды законов, / живут унылые люди”.
 40
40 См. прим. 14.
 41
41 Ларионов предложил забросать „ренегата” Маринетти „тухлыми яйцами” и облить „кислым молоком” (газ. «Раннее утро», 1914, 25.1).
 42
42 После лекции 30 января 1914 г. в Малом зале Консерватории Маринетти посетил Литературно-художественный кружок, где находился Ларионов.
 43
43 «Альпийская роза» находилась на Софийке, д. 4. Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „Подавали графин с водкой, но там были сантиметры, и вы платили за сантиметры, столько, сколько убыло сантиметров. А Маяковский говорит: „Сколько сантиметров я выпил?” (Якобсон, 1956а).
 44
44 Помимо выпущенной вместе с А. Кручёных «Заумной гниги», Якобсон подписывал этим псевдонимом письма, стихи и статьи вплоть до 1919 г. Согласно самому Якобсону, псевдоним Алягров (встречающийся и под формой Ялягров) следует расшифровать следующим образом: Аля+г+ро+в. ‘Аля’ (или ‘Ляля’) — имя знакомой девушки и ‘ро’ — Р(оман) О(сипович). В варианте Ялягров обыгрывается к тому же фамилия Якобсона.
 45
45 Речь идёт о лете 1914 г.
 46
46 Маяковский жил в Лубянском проезде с 1919 г. до смерти.
 47
47 См. прим. 56.
 48
48 В «Письме о Малевиче» Якобсон относит поездку к Малевичу к лету 1914 г. (Jakobson, 1976, 293), но надо полагать, что она состоялась именно в 1915 г., когда Якобсон „был уже студентом”.
 49
49 И эту встречу Якобсон в «Письме о Малевиче» относит к Рождеству 1914 г. (ср. пред. прим.). Ср. подобное отношение к Маяковскому со стороны одного из „очень “левых” основоположников футуризма” после чтения поэмы «Война и мир»: согласно О.М. Брику, неназванный оппонент „орал, что „это — безобразие, это антихудожественно, это леонидоандреевщина, это не достойно “левого” поэта” (цит. по: Перцов, 1969, 307).
 50
50 Ср. письмо Малевича к Матюшину (июнь 1916 г.): „Слово “как таковое” должно быть перевоплощено “во что-то”, но это остаётся тёмным, и благодаря этому многие из поэтов, объявивших войну мысли, логике, принуждены были завязнуть в мясе старой поэзии (Маяковский, Бурлюк, Северянин, Каменский). Кручёных всё ещё ведёт борьбу с этим мясом, не давая останавливаться ногам долго на одном месте, но “во что” висит над ним. Не найдя “во что”, вынужден будет засосаться в то же мясо” («Ежегодник Пушкинского Дома», 1976,190–91).
 51
51 Речь идёт, по всей вероятности, о стихотв. «Сколько рассыпал осколков», где пародируется городская тема в поэзии раннего футуризма.
 52
52 О «Заумной гниге» см. прим. 37. В книге «Заумники »([Пг.], 1922) Кручёных приводит одну „из неизданных поэм Р. Алягрова”: „кт. весть мгл зл ль яс…”.
 53
53 Из стихотв. «Proüanie slov».
 54
54 В письме от июня 1916 г. Малевич пишет Матюшину, что „новые поэты повели борьбу с мыслью, которая порабощала свободную букву и пытались букву приблизить к идее звука (не музыки)” («Ежегодник Пушкинского Дома», 1976, 190). Эти идеи были потом изложены Малевичем в статье «О поэзии» (Изобразительное искусство, Пб., 1919).
 55
55 В 1908 г. Альбер Сеше сформулировал задачи новой научной дисциплины, которой он дал название „фонология”. См.:
Albert Sechehaye. Programme et méthodes de la Unguistique théorique, 1908.
 56
56 Ср. комментарии E. Ковтуна к письмам Малевича в «Ежегоднике Пушкинского Дома», 1976,194.
 57
57 Josef Šíma (1891–1971). Ср. Беседы, III и Toman, 1987, 320.
 58
58 Karel Teige (1900–1951) — главный теоретик чешского авангарда 20-х гг., критик, основатель, вместе с Незвалом, поэтической группы Devetsil. Связи Якобсона с чешским авангардом подробно проанализированы в: Linhartova 1977, Toman 1987, Effenberger 1983. См. также прим. 152.
 59
59 Письмо написано в январе-феврале (?) 1914 г.
 60
60 На самом деле фотографии для коллажей Родченко в «Про это» сделаны А. Штеренбергом.
 61
61 А.Л. Марков (1856–1922) — математик, специалист по теории чисел и теории вероятностей, профессор Петербургского университета. Речь идёт о статье «Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в цепь» // Известия Императорской Академии Наук, VI серия, т. VII, № 3, 15 февр. 1913, 153–162.
 62
62 П.Д. Первов — профессор городского женского профессионального училища В. Лепешинской, автор учебников и хрестоматий по классическим языкам.
 63
63 Жители села Новинское, где велась полевая работа, приняли молодых фольклористов за немецких шпионов и хотели их убить, но в последнюю минуту тем удалось бежать.
 64
64 А.А. Буслаев (1897–1964?), один из семи основателей Московского лингвистического кружка и его председатель с сентября 1920 г. по март 1922 г. Его дед — известный филолог Ф.И. Буслаев (1818–1897).
 65
65 О влиянии Гуссерля на Якобсона см.: Holenstein, 1975.
 66
66 Кафе «Трамблэ» находилось на Петровке, д. 5.
 67
67 В книге Эльзы Триоле «Земляничка » (М., 1926,168) говорится о человеке по фамилии Радлов, что он „сам себе надгробный памятник”.
 68
68 Тамара Беглярова, подруга Эльзы Триоле.
 69
69 А.Н. Вертинский (1889–1957) в молодые годы часто выступал в костюме Пьеро. Несмотря на реакцию Вертинского на присутствие Маяковского в публике, отношения между двумя поэтами были вполне дружественными. Согласно Л.Ю. Брик, Маяковский любил цитировать песни Вертинского (Брик, 1963, 347) — Ср. автобиографические заметки Вертинского о встречах и совместных выступлениях с Маяковским (Вертинский, 1990, 87–88, 91, 93–94).
 70
70 Пьеса Сологуба шла 2, 7, п, 17 и 22 января 1917 г. в театре Комиссаржевской.
 71
71 Первый выпуск «Сборников по теории поэтического языка» вышел в 1916 г. (разрешение военной цензуры датировано 24 авг. 1916 г.), второй датирован 1917 г. и вышел в самом начале этого года (разрешение военной цензуры от 24 дек. 1916 г.). В первом выпуске напечатана статья Шкловского «Заумный язык и поэзия», во втором — статья Брика «Звуковые повторы». Обе книги носили издательскую марку ОМБ, т. е. О.М. Брик.
 72 В. Шкловский
72 В. Шкловский. Воскрешение слова, Пб., 1914.
 73
73 Этот фрагмент напечатан в: Winner, 1977, 508. Начало первой части «Облака в штанах» во французском переводе Якобсона см. П, 2.
 74
74 Ср. восп. Л.Ю. Брик: „Умер папа. Я вернулась из Москвы с похорон. Приехала в Питер Эльза, ‹...› приехал Володя из Финляндии. Мы умоляюще шепнули Эльзе: „Не проси его читать”. Но Эльза не послушалась, и мы услышали в первый раз «Облако в штанах»” (Брик, 1934, 62).
 75
75 Maurice Grammont (1866–1946) — французский фонетик, стиховед.
 76
76 В книге «La mise en mots» Эльза Триоле вспоминает Mademoiselle Dache: „La jeune personne qui m’appris le français etait nee a Moscou de parents francais, avait fait ses études dans une école française moscovite et en gardait un accent russe que j’ai fidèlement attrapé! Elie pouvait avoir seize ans quand elle apparut à la maison ‹...›. J’avais dans les six ans et je savais déjà lire et écrire en russe” (Triolet, 1969, 82).
 77
77 Ср. письмо Шкловского Якобсону в кн. «Третья фабрика»: „Тогда, когда мы встретились на диване у Оси, над диваном были стихи Кузмина. Тогда ты был младше меня, и я уговаривал тебя в новую веру. С инерцией своего веса, ты принял её” (Шкловский, 1926, 68). О разнице между ОПОЯЗом и Московским лингвистическим кружком писали тогда же Якобсон и Богатырёв: „‹...› в то же время как Московский лингвистический кружок исходит из того положения, что поэзия есть язык в его эстетической функции, петроградцы утверждают, что поэтический мотив далеко не всегда является развёртыванием языкового материала” (Якобсон/Богатырёв, 1922, 31).
 78
78 Маяковский вернулся в Петроград 30 или 31 марта (13 апреля) 1917 г., после недельного пребывания в Москве, где выступал, между прочим, на совете организаций художников Москвы с информацией петроградского Союза деятелей искусств (Катанян, 1985,128). Причиной поездки Якобсона в Петроград было его участие в 7-ом съезде конституционно-демократической партии в апреле 1917 г. Съезд состоялся 25–28 марта (7–10 апреля), что ставит под сомнение либо справку Катаняна, либо датировку Якобсона. Якобсон был активным членом кадетской партии. Подробности явствуют из письма Якобсона к своему юридическому представителю, проф. Arthur Е. Sutherland, от 23 апреля 1953 г. в связи с попытками привлечь его к ответственности перед комитетом по “антиамериканской деятельности” (“дело” было прекращено после вмешательства будущего президента США Dwight Eisenhower, знавшего Якобсона с тех пор, как он был президентом Колумбийского университета): „As a student of Moscow University, I was for the Russian Constitutional Democratic Party which advocated a constitutional monarchy on the British model. In 1917–1918, I was an active member of this party and preserved personal ties with its leader Miliukov until the last war during which he died. In 1917–1918, I was a member of the Presidium of the University faction of the party and as such I actively participated in the national convention of the Constitutional Democratic Party, April, 1917 in St. Petersburg. When in the spring of 1918 arrests among the members of this faction took place I managed to escape and hid in the country for several months. When in 1919 the party went underground, I continued to cooperate” (The Jakobson Archive, MIT).
 79
79 Выставка финских художников в Петрограде открылась 3 (16) апреля 1917 г. в два часа дня в художественном бюро Н.Е. Добычиной на Марсовом поле, после чего, в семь часов вечера, был банкет в ресторане Donon на Мойке, 24. На открытии выставки присутствовали, помимо финских художников, М. Горький, который „хотел только сказать четыре известных ему финских слова: Elakoon Suomi, Rakastan Suomi”, А. Бенуа, В. Фигнер, Е. Брешко-Брешковская, представители Временного правительства (Милюков, Родичев), Н. Рерих, Н. Альтман и „президент московских футуристов Давид Давидович Бурлюк”, который выразил желание устроить русско-финские выставки „с участием наших художников и прежде всего той группы, которую он представлял” (A. G-s., Hufvudstadsbladet, 1917, 22.4). Согласно газете «Речь »(1917, 5–4), на открытии говорил и Маяковский.
 80
80 Надо полагать, что речь идёт о скульпторе Ville Vallgren (1855–1940), который на банкете выступил с „восторженной” речью по-французски, „прерванной аплодисментами и криками браво” (A. G-s., Hufvudstadsbladet, 1917, 25.4). Банкет описан и в газетах, и в мемуарной литературе. Через неделю после банкета О. Лешкова написала М. Ле-Дантю: „На банкете при открытии выставки ‹...› Добычина (организатор выставки) посадила ‹...› Маяковского с Горьким. А. Бенуа начал объясняться в дружбе и любви Зданевичу, а Горький Маяковскому ‹...›” (Катанян, 1985, 526). Д. Бурлюк вспоминал: „У Донона был торжественный раут, где в числе приглашённых был весь художественный и артистический Петроград. Милюков — министр иностранных дел, Родичев — по делам Финляндии — сидели друг против друга в середине длиннейшего стола. На хозяйских местах были — Горький, председатель комиссии по охране памятников, и высокий смуглый гениальный финляндский художник Галлен Риссоянен [автор контаминирует здесь фамилии А. Галлен-Каллела и О. Риссанен. —
Б.Я.], писатель Бунин, Константин Сомов, Александр Бенуа и другие. За ужином произносились речи. Горький не выступал. ‹...› Горький был весел, острил, но в этих остротах была некоторая придирчивость и желчность (порядочное вино и всё же слабое здоровье писателя)” (Бурлюк, 1973) — О центральной роли Маяковского вспоминает, ужасаясь, И. Бунин, который пишет, что всё то, что он видел тогда в Петербурге, „ладно и многозначительно связалось ‹...› с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет”. Бунин описывает, как „надо всеми возобладал Маяковский”, который всех перекрикивал, в том числе министра иностранных дел Милюкова. „Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того, тотчас же началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать” (Бунин, 1950, 53, 54) — Восп. Бунина подтверждаются газетным отчётом: „Атмосфера, которая всё время накалялась, создавала всё новых ораторов, и изредка бодрый футурист вскакивал на стул и пытался всей мощью своих лёгких перекрикивать шум” (Hufvudstadsbladet, 1917, 25.4). „После двенадцати часов “чествование” было перенесено в «Привал комедиантов»”, — вспоминает Бурлюк (1973)
 81
81 Ленин приехал в Петроград вечером 3 (16) апреля 1917 г., так что Брик, очевидно, отправился прямо с торжественного приёма на вокзал.
 82
82 Ср. газетный репортаж тех дней: „Особняк Кшесинской неожиданно сделался штаб-квартирой Ленина. ‹...› Внизу толпа. Время от времени на балконе появляется кто-нибудь из “учеников” Ленина, иногда выступает “последовательница” гражданка Коллонтай, оказавшаяся в Совете Депутатов единственной, сочувствующей проповеди коммунизма. Говорят речи, которые терпимы только на свежем воздухе” (Новое время, 1917, 6 (19).4).
 83
83 „Себе, любимому, посвящает эти строки автор”.
 84
84 Т.е. вопросом „звуковых повторов”, которому была посвящена первая статья Брика в области поэтики, напечатанная во втором выпуске Сборников по теории поэтического языка (1917).
 85
85 Сб. «Двум», П., 1918. О Кузмине и Маяковском см.: Селезнёв, 1989.
 86
86 Юрий Юркун (1893–1938), спутник жизни М. Кузмина, прозаик, автор кн. «Шведские перчатки» (1914) и др. См. его портрет 1916 г. работы Судейкина в «Памятниках культуры», 1989,136. Репрессирован.
 87
87 Владимир Иванович Козлинский (1891–1967), художник, в 1911–17 гг. учился в Высшем художественном училище при Академии художеств. Автор нескольких рисунков в альбоме «Герои и жертвы революции» (1918) с подписями Маяковского.
 88
88 2 мая 1919 г. Станислав Гурвиц-Гурский читал в Московском лингвистическом кружке доклад «О сокращениях в заводской терминологии (на материале одного предприятия)», на котором присутствовали Якобсон, Богатырёв, Маяковский и др.
 89
89 Ср. в автобиографических заметках Л.Ю. Брик: „Маяковский не давал партнёрам опомниться. Забивал миллионеров лимитами, блефовал, острил, декламировал. И вставал от стола только с выигрышем” (Архив Л.Ю. Брик).
 90
90 Игра в железку в салоне Бриков вошла в русскую поэзию; ср. стихотворение К. Большакова «Le chemin de fer», датированное мартом 1915 г. и посвящённое Л.Ю. Брик (сб. Солнце на излёте, М., 1916). См. также шуточное стихотв. Якобсона: „Chemin de fer / плюс banque ouvert / милей Володе всех affairs. / Шестнадцать раз / покрыл он нас / и все мы возопили „пасс”. / Бросает в жар / наш Вольдемар, / напился кровью, как комар. / Шестнадцать раз…” и т.д. В статье «Vliv revoluce na ruský jazyk» Якобсон приводит слово ‘викжель’ как пример нового сокращения: „‹...› ‘vikžél’ (Všeruský výkonný komitét železničárů) použivá se také s významem hry v karty ‘chemin de fer’, zvláštni složitá metonymie, spojená ne s metaforickým názvem této hry, ale s tymž slovem v jeho přimém vyznamu”, а ‘викжельнуть’ — как глагольный неологизм на ‘–нуть’ с юмористическим оттенком (Jakobson, 1921,11, 5).
 91
91 Речь идёт о лете 1919 г.
 92
92 Имеется в виду игра в буриме у Бриков в мае 1919 г. Стихотворение Якобсона начинается словами: „Когда приедем в Воронеж, / Напьюсь на радостях, как стелька”.
 93
93 Брик окончил юридический факультет Московского университета в 1911 г. Его выпускное сочинение, по теме «Одиночное заключение», и другие документы студента О.М. Брика хранятся в Центральном государственном историческом архиве г. Москвы (ф. 418, оп. 320, д. 174; за эту справку благодарю А.В. Валюженича).
 94
94 Ср. послесловие Якобсона к репринту статей Брика по поэтике: „During the summer of 1919, spent in Puškino, Brik became greatly interested in the sociological aspect of pictorial art. His main concern was the development of two simultaneous trends, French impressionism and the Russian peredvizniki. Brik’s interpretation of Zola’s «L’auvre», of Perov’s and Kramskoj’s writings and biographies and of Russian art reviews published in the late nineteenth century was indeed illuminating, and such problems as art production and consumption, demand and supply, the art market and painters’ competition were clearly sketched. These views, immediately picked up and absorbed by V. Sklovskij, later underlay some of the latter's reasonings on literature, art and their social prerequisites after Sklovskij loudly repudiated his so-called “formalist” creed” (Jakobson, 1964, 79–80).
 95
95 Осип Борисович Румер (1883–1954), филолог, переводчик Мицкевича и Омара Хайяма.
 96
96 В этой книге Шкловский обращается во ВЦИК с просьбой о разрешении вернуться на родину.
 97
97 Дата подтверждается удостоверением Политотдела московского ГПУ, согласно которому Брик поступил в эту организацию 8 июня 1920 года (Архив Л.Ю. Брик).
 98
98 О сходстве блоковского стихотв. «Страшный мир» („Ночь, улица, фонарь, аптека…”) и «Человека» см.: Stahlberger, 1964, 62–63.
 99
99 Чтение у поэта В. Амари (М. Цетлина) состоялось в конце января 1918 г. в присутствии К. Бальмонта, Вяч. Иванова, Андрея Белого, Ю. Балтрушайтиса, Д. Бурлюка, В. Каменского, И. Эренбурга, В. Ходасевича, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Толстого, П. Антокольского, В. Инбер и др. О восторженной реакции представителей старшего поколения на поэму Маяковского писала газета «Мысль »(1918, 28.1). О чтении вспоминали и участники вечера (см.: Катанян, 1985,138–139).
 100
100 Ср. восп. А. Чичерина: „Белый произнёс горячую речь о силе поэтического дарования и литературного стиля Маяковского. При этом он, между прочим, сказал, что после них, символистов, Маяковский является самым крупным поэтом России, потому что — он говорит своё, неожиданно новое слово” (Катанян, 1985,140).
 101
101 Эльза с матерью жила в Голиковском переулке.
 102
102 Открывшееся осенью 1917 г. «Кафе поэтов» продолжало старую футуристическую традицию «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов». Маяковский сразу после переезда в Москву в начале декабря стал завсегдатаем находившегося в Настасьинском переулке (на углу Тверской) кафе.
 103
103 Среди многочисленных и кратковременных анархистских организаций была и группа „немедленных социалистов”.
 104
104 Среди постоянных гостей кафе были анархисты, для которых место служило „удобной явкой” (Спасский, 1940,109). Близкий друг Маяковского Л.А. Гринкруг, бывавший в кафе почти ежевечерне, вспоминает: „Очень часто приходили анархисты, которые в то время занимали по соседству дом бывш. купеческого клуба на М. Дмитровке. Время от времени они устраивали скандалы со стрельбой” (Архив Б. Янгфельдта). Анархисты, со своей стороны, рассматривали футуристов как своих союзников, и изданная в марте 1918 г. «Газета Футуристов» фигурирует в списке анархистских органов, напечатанном в журнале анархистов «Революционное Творчество» (I–II, 1918). В ночь на 12 апреля 1918 г. Чека совершила налёт на московских анархистов, и через два дня, несомненно в связи с этим, было закрыто «Кафе поэтов».
 105
105 „Мы разливом второго потопа / перемоем миров города” («Наш марш»).
 106
106 См. прим. 109. Полный текст перевода см. П, 3.
 107
107 Владимир Робертович Гольцшмидт, „футурист жизни”, один из организаторов «Кафе поэтов», проповедник философии „здоровья и солнца”. Главный его вклад в историю футуристического эпатажа состоял в том, что он ломал доски о собственную голову с эстрады кафе. Гольцшмидт был тесно связан с анархистами. После закрытия «Кафе поэтов» он оказался, подобно Д. Бурлюку, на Дальнем Востоке; его в последний раз видели в Японии.
 108
108 На афише вечера была объявлено, что „блестящие переводчики прочтут блестящие переводы моих [т.е. Маяковского. —
Б.Я.] блестящих стихов: французский, немецкий, болгарский” (Катанян, 1985, 145). Якобсону принадлежали переводы на французский язык фрагментов из «Облака в штанах» (см. П, 2) и стихотв. «Наш марш». В разговоре со S. Rudy Якобсон сообщил, что в его отсутствие переводы читал П. Богатырёв (письмо S. Rudy к Б. Я., 11.12. 1989). Отсутствие Якобсона объясняется тем, что весной 1918 г. он в течение нескольких месяцев прятался в деревне, чтобы избежать ареста из-за членства в кадетской партии (см. прим. 78). В. Нейштадт читал свои немецкие переводы и в „Кафе поэтов” (см. восп. Нейштадта в: Шапир, 1989, 66).
 109
109 Ср. неточный текст в восп. В.И. Нейштадта (Нейштадт, 1940, 104). См. анализ перевода Якобсона в: Шапир, 1989, а также: Vallier, 1987. Нейштадт и Якобсон были друзьями детства и однокашниками по университету. Они познакомились летом 1906 г., когда были соседями по даче: „Я увидал его в саду, — вспоминает Нейштадт, — с книгой в руках. „Мальчик, что вы читаете?” — „«Чёрная Индия» Ж. Верна”. — „Интересно?” — „О, да!” Так мы познакомились. Он дал мне почитать «Чёрную Индию», которою я был очарован” (Шапир, 1989, 66).
 110
110 Речь идёт о поэтессе Наталии Поплавской, сестре поэта Бориса Поплавского (1903–1935).
 111
111 Восп. Якобсона проливают новый свет на мгновенный отъезд Бурлюка из Москвы после налёта Чека на анархистов в апреле 1918 г. Младший брат Николай (р. 1890) в декабре 1920 г. был арестован Красной Армией и приговорён к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 27 декабря.
 112
112 Жак — Яков Львович Израилевич, вместе со своим братом Александром в десятые годы общался с Бриками и Маяковским; упоминается в письме Маяковского к Л.Ю. Брик от апреля 1918 г.; один из завсегдатаев «Бродячей собаки». См.: Памятники культуры, 1984, 249 и его портрет работы Судейкина (Коган, 1974,138).
 113
113 Ср. неопубликованные восп. Л.Ю. Брик: „После киносъёмок в Москве [речь идёт о работе над «Закованной фильмой» в июне 1918 г. —
Б.Я.] мы вернулись в Петроград и переехали на дачу (семейный пансион) в Левашово. Там я получила ещё одно письмо от И‹зраилевича›. В Москве я получала их множество, таких длинных, что я не дочитывала их, и мне в голову не пришло хотя бы на одно из них ответить, так же, как не пришло в голову рассказать Володе об И. Теперь письмо пришло на дачу, оно было полно упрёков и требовало немедленного свидания. Володя прочёл его и в умоисступлении от непонятой мной ревности помчался в Петроград. Поехали и мы с Осей. Мы были дома, когда пришёл Володя и рассказал нам, что встретил И. на улице (надо же), что тот бросился на него, и произошла драка. Подоспела милиция, обоих отвели в отделение, И. сказал, чтобы оттуда позвонили Горькому, у которого И. часто бывал, и обоих отпустили. Володя был очень мрачен, рассказывая это, и показал свои кулаки, все в синяках, так сильно он бил И”. («Как было дело»). Враждебность Маяковского к Горькому восходит на самом деле к весне 1918 г., когда Горький играл сомнительную роль в распространении слухов о венерической болезни Маяковского. В этой драме участвовали и Я.Л. Израилевич, и К.И. Чуковский (см. письмо Л.Ю. Брик Горькому по этому поводу в Переписке, 228). Об отношениях между Маяковским и Горьким см. также: Асеев, 1983, 502–505 и Бабкин, 1984, 306–309. Оба мемуариста подчёркивают нежелание Горького встретиться с Маяковским или даже слышать о нём в конце 20-х гг.
 114
114 Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „С Горьким я был в очень хороших отношениях, и в Петербурге в конце 1919 года (я тогда читал там лекции. и у него часто бывал. Мы вместе с Виктором Борисовичем Шкловским бывали у Горького, и вообще имя Маяковского там не пользовалось фавором. А потом, я помню, Горький, когда приезжал в Прагу и в Берлин (я с ним встречался в Праге и в Берлине — в Саарове), очень просил написать что-нибудь для журнала «Беседа». И тут у меня с ним вышел спор. Он не хотел ничего давать о Маяковском” (1956а).
 115
115 Яков Григорьевич Блюмкин (1892–1929) — чекист, левый эсер, убийца германского посла Мирбаха (летом 1918 г.). Приговорён к смерти, но помилован. Вернулся в Чека, стал приближённым Троцкого, за связи с которым был в 1929 г. казнён. Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „‹...› за другим столиком сидели, а потом подсели к нам человек, убивший Мирбаха — Блюмкин — и, если не ошибаюсь ‹...› Вадим Шершеневич. ‹...› Маяковский стал говорить о том, как необходимо прекратить культ Горького, и он предлагал: вы, Блюмкин, и я, давайте выступим против Горького. Это не значило, что нужно было непременно пойти и выступить, но это была какая-то бравада. Он тогда очень зло острил по поводу Горького” (Якобсон. 1956а: эпизод рассказан и в: Brown, 1973, 71). Поведение Блюмкина в присутствии Маяковского и Якобсона было для него типичным. Аналогичным образом он несколько раз махал револьвером на О. Мандельштама, угрожая его убить. Ср. восп. Н. Мандельштам о „стычке” между Мандельштамом и Блюмкиным, когда поэт выступал против чекистской деятельности Блюмкина: „Блюмкин заявил. что не допустит вмешательства О.М. в „свои дела” и пристрелит его, если тот только посмеет „сунуться” ‹...› При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал О.М. револьвером. Он это делал с удивительной лёгкостью даже в домашней жизни, как мне говорили ‹...› По мнению О.М. Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. О.М. утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать. ‹...› Выхватывая револьвер, беснуясь и крича, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он был по природе террористом неудержимо-буйного стиля, выработавшегося у нас в стране ещё до революции” (Мандельштам, 1970, 112, 113).
 116
116 В.А. Антонов-Овсеенко (1884–1938) был советским послом в Чехословакии в 1924–29 гг. Репрессирован. См. ниже. Об угощении блинами в доме Якобсона см. главу «Ruské bliny» в воспоминаниях Ярослава Сейферта. Сейферт вспоминает и приёмы в советском полпредстве: „Byvalo tam hlavnĕ plno vzácných a zajímavých lidí a mezi nimi zářivá osobnost vyslance Antonova Ovsejenka, kterého jsme si naráz zamilovali. Byl tam i Roman Jakobson. Přišel k nám, a hned pšátelsky. A my ho — také naráz — přijali za svého” (Seifert, 1985, 298–99).
 117
117 Вечер “Избрания Короля Поэтов” состоялся 27 февраля 1918 г. в Политехническом музее. Согласно В. Каменскому, Северянин был избран после „жульнического” подсчёта голосов (Каменский, 1974).
 118
118 «Советская азбука» была написана во второй половине сентября и вышла в свет в октябре 1910 г. Ср. восп. Маяковского: „Она была написана как пародия на старую, была такая порнографическая азбука. ‹...› Она была написана для армейского употребления. Там были такие остроты, которые для салонов не очень годятся, но которые для окопов шли очень хорошо. ‹...› Эту книгу, написавши, я принёс печатать в Центропечать. Там сидела не вычищенная ещё машинистка одна, которая с большой злобой мне сказала: „Лучше я потеряю всякую работу, но эту гадость я переписывать не буду”. Вот с этого начинается. Дальше, никто не хотел эту книжку печатать. ‹...› Мне самому приходилось пускать её в ход. ‹...› Мы от руки три-пять тысяч раскрашивали, и дальше весь этот груз на собственной спине разносили. Это по-настоящему ручная работа в пору самого зловещего окружения Советского Союза” (Выступление в Доме комсомола 25 марта 1930 г.; ПСС, 12, 428–429).
 119
119 Речь идёт о плакате «Раёк», датированном го дек. 1919 г. (ПСС, 4, 32). Любопытно, что в тексте рифмуется слово ‘Воронеж’, фигурировавшее в игре в буриме в мае того же года с участием Якобсона и Маяковского.
 120
120 На то, что работа в РОСТА была в значительной степени именно „источником заработка”, намекает Л.Ю. Брик в письме Маяковскому от 14 ноября 1921 г. Там она предлагает ему стать московским представителем „одного очень крупного капиталиста” в Риге, готового издавать книги футуристов в Латвии: „Он хотел бы, чтобы кто-нибудь в Москве занялся бы исключительно этим делом. Он предлагает этого человека обеспечить продовольствием и деньгами. Я хотела бы, чтобы этим человеком согласился быть ты, Волосик, — это очень интересно, во-первых, а во-вторых, дало бы тебе возможность абсолютно бросить плакаты” (Переписка, 74).
 121
121 „В чём сила? — В этом какао” — цит. из рекламного стиха для Чаеуправления (1924). Вопрос о взаимосвязи лирики и рекламных/плакатных текстов в творчестве Маяковского рассматривается Якобсоном в статье «Новые строки Маяковского» (Якобсон, 1956, 198 и сл.).
 122
122 Пронемецкое правительство гетмана Павла Скоропадского (1873–1945) существовало с конца апреля по ноябрь 1918 г. В декабре Скоропадский бежал в Германию. В течение всего лета в Киеве велись переговоры между правительством РСФСР и “украинской державой” гетмана.
 123
123 Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941) играл крупную роль в борьбе большевиков с попытками Украины создать независимую от РСФСР власть и в 1919 г. возглавлял учреждённые там на короткие сроки советские правительства. В процессе 1938 г. Раковский был приговорён к двадцатилетнему тюремному заключению, в 1941 г. заочно приговорён к расстрелу.
 124
124 В начале июля русская делегация во главе с Раковским передала украинской части комиссии карту с намечаемыми границами Украины. Эта карта представляла собой „максимум тех уступок, на которые может идти Российская делегация” (Известия, 1918: 141(405) 8.7). А через месяц Раковский сообщил, что „работы мирной конференции идут медленнее, чем мы этого желаем. Главный вопрос — о границах — ещё не разрешён, хотя ему посвящено более 17 заседаний” (там же, 1918:165(429), 4.8).
 125
125 Владимир Максимович Фриче (1870–1929 — литератор, марксист, одно время после Октябрьского переворота — комиссар иностранных дел при Московском совете. Играл ведущую роль в начинающихся в 1919 г. нападках на художественный и литературный авангард.
 126
126 Ольга Давыдовна Каменева (1883–1941), сестра Троцкого и жена Л.Б. Каменева, была заведующей Театральным отделом Наркомпроса. Репрессирована. Ср. обращение Шкловского к „Роману Якобсону, переводчику полпредства РСФСР в Чехословакии” в кн. «Третья фабрика»: „Ты помнишь свой бред в тифу? Ты бредил, что у тебя пропала голова. Тифозные всегда это утверждают. Ты бредил, что тебя судят за то, что ты изменил науке. И я присуждаю тебя к смерти” (Шкловский, 1926, 66).
 127
127 ср. сообщение в газ. «Искусство» (1919: 3,1.2) об учреждении при ИЗО Коллегии по подготовке Энциклопедии Изобразительных Искусств, включающей „как статьи общего характера по вопросам Изобразительных Искусств, так и терминологию и биомонографии художников, скульпторов, архитекторов”.
 128
128 Художник Александр Васильевич Шевченко (1882–1948).
 129
129 Художник В.Ф. Франкетти, член правления общества «Московский салон», весной 1919 г. был избран членом Московской коллегии ИЗО вместе с А.М. Родченко и В.М. Стржеминским. В серии монографий о художниках, выпущенных издательской секцией ИЗО, планировался и очерк «В.Ф. Франкетти» (Искусство, 1919: 4, 22.2).
 130
130 В феврале 1919 г. вышла монография «Кандинский», написанная самим художником (Изд. Отдела изобразительных искусств, Москва).
 131
131 Петроградская газ. «Искусство коммуны» выходила с декабря 1918 г. по апрель 1919 г.
 132
132 Константин Андреевич Уманский (1901–1945). Первый номер газеты «Искусство» вышел в апреле девятнадцатого года. Якобсон там напечатал статьи «Футуризм» (1919: 7, 2.8) и «Задачи художественной пропаганды» (1919: 8, 5.9). Ср.: Konstantin Umansky, Neue Kunst in Russland 1914–1919, München, 1920.
 133
133 Однотомник «Всё сочинённое Виктором Хлебниковым» был включён в список изданий издательства ИМО от 18 июля 1919 г., и 28 августа того же года Якобсон подписал договор с ИМО на предисловие к этому изданию (см. прим. 169).
 134
134 «Завещание Хлебникова» напечатано в вып. VI «Неизданного Хлебникова» (М., 1928); перепечатано в приложении к репринту СП (3, 529–30, München, 1972).
 135
135 Речь идёт о сб. «Творения», т. 1, 1906–1908 гг. (Пб., 1914, под ред. Д. Бурлюка) и сб. «Затычка» (Херсон, 1913) — Ср. “открытое письмо” Хлебникова, датированное предположительно 1914 г.:
В сборниках «I том стихотворений В. Хлебникова», «Затычка» и «Журнал русских футуристов» Давид и Николай Бурлюки продолжают печатать подписанные моим именем вещи, никуда негодные, и вдобавок тщательно перевирая их. ‹...›
требую ‹...›
уничтожить страницу из сборника «Затычка», содержащую моё стихотворение «Бесконечность» (СП 5, 257).
 136
136 Антонина (Тоня) Гумилина (1895–1918), художница, член общества «Бубновый валет». На её единственной персональной выставке, организованной ИЗО, экспонировались 73 акварели. Харджиев (1981, 281–82) датирует выставку 1920 годом. Однако совместное посещение выставки Якобсоном и Хлебниковым могло иметь место только в 1919 г., так как Хлебников покинул Москву в апреле этого года. О Гумилиной см. ниже и статью «Памяти Гумилиной», «Среди коллекционеров»,1922: 3, 34–37.
 137
137 Хлебников уехал из Москвы в конце апреля 1919 г.
 138
138 «Новейшая русская поэзия. Набросок первый». Прага, 1921. (Книга датирована маем 1919 г.) См. рецензии Г. Винокура (1921), В. Жирмунского (1921), Б. Томашевского (1921) и В. Виноградова (1922).
 139
139 Заседание состоялось 11 мая 1919 г. Доклад назывался «О поэтическом языке произведений Хлебникова». На заседании присутствовали члены Московского лингвистического кружка П.Г. Богатырёв, О.М. Брик, А.А. Буслаев, Ф.М. Вермель, Г.О. Винокур, В.И. Нейштадт, О.Б. Румер, П.П. Свешников и специально приглашённые гости — Л.Ю. Брик и В.А. Буслаев. В черновых набросках к воспоминаниям о Маяковском Нейштадт вспоминает: „На докл. Якобсона о Хлебникове (и. V. 1919) Маяк, был, 9. V. должен был уехать в Петроград, но отложил поездку, п. что он очень интересовался этим докладом, расспрашивал о нём” (цит. по: Шапир, 1991, где опубликован протокол заседания). В конце ноября — начале декабря того же года Якобсон выступил с этим докладом в петроградском Доме литераторов, а через год — на заседании ОПОЯЗа в Петрограде (Якобсон, 1987, 411).
 140
140 Стихи из поэмы «Сёстры-молнии» (2-ой парус, «Страстная площадь»):
Из улицы улья
Пули как пчёлы.
Шатаются стулья,
Бледнеет весёлый.
По улицам длинным, как пули полёт,
Опять пулемёт, косит, метёт
Пулями лиственный веник,
Гнетёт
Пастухов денег. Эти же стихи приводятся Якобсоном в «Новейшей русской поэзии» как „пример сложной композиции аналогий”: „Здесь в первых двух стихах устанавливается звукообразная параллель (улица — улей, пули — пчёлы), причём субъект первого сопоставления с субъектом второго, а также объект первого с объектом второго связаны по смежности. В пятом стихе между субъектами первого и второго стихов устанавливается звукообразная параллель (
по улице — пули полёт)” (Якобсон, 1921,41; NB разночтение в пятом стихе: у Якобсона „по улице”, в СП —
по улицам). Эти стихи из «Сестёр-молний» так увлекали Якобсона, что он их перевёл на чешский язык; см. П, 4. В СП (3, 380) указано, что первые две части поэмы были „переданы в начале 1919 г. Р. Якобсону”.
 141
141 Издательство ИМО, которое должно было выпустить «Всё сочинённое Виктором Хлебниковым», финансировалось Наркомпросом.
 142
142 В некрологе Хлебникову, напечатанном в журн. «Красная новь» (1922: 4). Некролог кончается словами: „После смерти Хлебникова появились в разных журналах и газетах статьи о Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений?! Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплёванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих равный конец. Бросьте, наконец, благоговение столетних юбилеев, почитания посмертными изданиями! Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!” (ПСС, 12, 28).
 143
143 В последние месяцы жизни Хлебников жил у художника Петра Митурича (1887–1956), который поссорил больного поэта с его старыми друзьями. Хлебников умер 28 июня 1922 г. в селе Санталово. В августе Митурич написал Маяковскому письмо, в котором обвинял его в присвоении рукописей Хлебникова. (Письмо стало гласным после того, как ничевоки напечатали его в приложении к сб. «Собачий ящик», М., 1922; оно было перепечатано как предисловие к брошюре Альвэка «Нахлебники Хлебникова», М., 1927.) В октябре 1922 г. Г.О. Винокур и Якобсон удостоверяли в записной книжке Маяковского невиновность поэта. Привожу свидетельство Якобсона: „Настоящим удостоверяю, что В.В. Маяковский поручил мне редактирование «Собрания сочинений Хлебникова» весной 1919 года и передал мне для этого ряд рукописей Хлебникова. Ввиду того, что издание не состоялось, приготовленный к печати материал вместе с другими материалами «ИМО» (Искусство молодых) хранились у меня и перед моим отъездом за границу весной 1920 года были мною сполна переданы на хранение в архив Московского лингвистического кружка секретарю кружка Г.О. Винокуру, о чём мною было тогда же доведено до сведения О.М. Брика. Рукописи заперты в архиве Кружка и остаются неприкосновенными там и по сей день. Рукописи из кружка никому не выдавались. Р. Якобсон. 28 октября 1922 г.” (Катанян, 1985, 550, где приводятся и другие подробности этого “дела”). Сам Маяковский думал, что Якобсон увёз с собой рукописи в Прагу, о чём он пишет в некрологе о Хлебникове (ПСС, 12, 27).
 144
144 Д. Бурлюк в 1913 г. несколько раз выступал с докладом «Пушкин и Хлебников», напр., 3 ноября в Тенишевском училище в Петербурге и 11 ноября в Политехническом музее в Москве. См. газетный отчёт о первом вечере: „[Пушкин] для нас устарел, и нам достаточно знакомиться с ним в отроческом возрасте. Настоящая глубина у Пушкина разве только в «Египетских ночах», всё же остальное — мель. Мы, — подводит лектор итоги под громкий смех аудитории, — находимся у Пушкина под прямым углом. Совсем не то Хлебников. Это мощный, необычный, колоссальный, гениальный поэт, и этого не чувствуют только те, кто не способен оценить вазу, вне мысли, что налито в неё” (Речь, 1913, 4.11).
 145
145 Чтение состоялось не раньше марта, когда сборник ещё не назывался «Сестра моя — жизнь», и не позже мая 1919 г., когда Маяковский включил книгу Пастернака в список предполагаемых изданий издательства ИМО. (Сохранилась расписка Пастернака от 29 августа 1919 г. о получении 9.000 рублей за „проданную издательству ИМО книгу стихов «Сестра моя — жизнь»” [Архив Л.Ю. Брик].) После чтения у Бриков Пастернак подарил Л.Ю. Брик специально приготовленную для неё рукопись сборника, с надписью: „Этот экземпляр, который себя так позорно вёл, надписан для Лили Брик, с лучшими чувствами к ней, devotedly Б. Пастернак” (Архив Л.Ю. Брик). Об этой рукописи см. также прим. 1 к письму 12 Якобсона Эльзе Триоле от 11 окт. 1920 г. Ср. также восп. Пастернака об этом чтении: „‹...› прочтя [Маяковскому] первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать” (Пастернак, 1985, 215). О восторженном отношении Маяковского к поэзии Пастернака вспоминает Л.Ю. Брик: „В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблён, он знал его наизусть, долгие годы читал всегда Поверх барьеров, Темы и вариации, Сестра моя — жизнь. ‹...› Пришлось бы привести здесь всего Пастернака. Для меня все его стихи — встречи с Маяковским” (Брик, 1963, 342, 344).
 146
146 Якобсон имеет в виду следующие строки из статьи «О поколении, растратившем своих поэтов»: „Именами [Хлебникова и Маяковского] определяется новая поэзия после 1910 г. Как ни ярки стихи Асеева или Сельвинского, это отражённый свет, они не определяют, а отражают эпоху, их величина производна. Замечательны книги Пастернака, может быть, Мандельштама, но это камерная поэзия, от неё не зажжётся новое творчество, этим словам не привести в движение, не испепелить сердца поколений, они не пробивают настоящего” (Якобсон, 1931, 9).
 147
147 Борис Фёдорович Малкин (1891–1938), левый эсер, с августа по ноябрь 1917 г. член ВЦИК, в мае 1918 г. вступил в большевистскую партию, в 1918-21 гг. заведовал Центропечатью, в 1921-22 гг. — уральским Госиздатом. Надо полагать, что речь идёт о том собрании ИМО 29 авг. 1919 г., когда были подписаны расписки, упоминаемые в прим. 169.
 148
148 Из поэмы «Человек».
 149
149 «Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak» // Slavische Rundschau 7, 1935.
 150
150 «Охранная грамота» в чешском переводе С. Пирковой-Якобсон и с послесловием Р. Якобсона вышла в издательстве Manes в декабре 1935 г. В том же году чешский поэт Josef Нога (1891–1945) выпустил свои переводы стихов Пастернака на чешский язык (изд. Melantrich). Ср. стихотв. Пастернака «Все накопленья и залоги…» (1936) со строкой: «На днях я вышел книгой в Праге…» В письме И. Горе (15 нояб. 1935 г.) Пастернак писал тогда же о сильном впечатлении от этого перевода: „Я не могу судить об объективных достоинствах Ваших переводов, я не знаю, как звучат они на чешский слух и что и много ли дадут чешскому читателю. Но они необъяснимым образом безмерно много дали мне. ‹...› Отчего же имеет такую власть надо мной Ваш сборник? Скажу не преувеличивая: от него веет такой поэтической свежестью, что его присутствие в комнате стало для меня центральным переживаньем. Будто никогда не издавалось то, что служило Вам оригиналом, и только глухо носилось мною в виде предположенья. И Ваши переводы — первое явленье всего этого, даже не на чешском, на человеческом каком-то языке”. Дальше Пастернак пишет: „Уже отправив прошлое письмо [от 14 окт. 1935 г. —
Б.Я.], я спохватился, что не передал привета Роману Якобсону, с которым вы знакомы и яркого, хотя и кратковременного, знакомства с которым я никогда не забывал. От всей души желаю ему здоровья и счастья. Мы часто его тут вспоминаем с одинаковой и неизменной теплотой. Если чего-ниб. не разберёте в моём письме (я пишу непозволительным для писателя образом, бессвязно и многословно) — покажите его Р.О., и он исправит мои недостатки, т.е. даст Вам дополнительные объяснения, если они потребуются” («Вопросы литературы», 1979: 7,184).
 151
151 Ср. Беседы, III.
 152
152 Vítězslav Nezval (1900–1958), Jaroslav Seifert (1901–1987), Vladislav Vančura (1891–1942), Konstantin Biebl (1898–1951). О близких и тёплых отношениях между Якобсоном и чешским авангардом и учёным миром свидетельствует вышедший в 1939 г. маленький Festschrift «Romanu Jakobsonovi. Pozdrav a díkůvzdání», co стихотворениями Незвала «Roman Jakobson» и «Dopis Romann Jakobsonovi», co статьёй Arne Novák «Tvůrči znalec staročeského básnictví» и анонимным стихотв. «Slóvce M.». См. восп. Я. Сейферта (Seifert, 1985, 297–305 и прим. 116 в этом тексте) и В. Незвала (Nezval, 1978, 154-56) и «Послесловие» К. Поморской к Беседам, 135–137.
 153
153 Julian Tuwim (1894–1953), Kazimierz Wierzyński (1894–1969), Louis Aragon (1896–1982). C бежавшими из Польши Тувимом и Вежиньским Якобсон встречался в Нью-Йорке во время второй мировой войны (Беседы, 137), а с Арагоном его связывала дружба с Эльзой Триоле. См. статьи Якобсона «О словесном искусстве Казимира Вежиньского» и «Le métalangage d’Aragon».
 154
154 Герасим Давидович и Евгения Григорьевна Гурьяны.
 155
155 Ф.Н. Афремов, один из основателей Московского лингвистического кружка.
 156
156 Ср. в «Сентиментальном путешествии»: „‹...› тот отвёл меня в архив, запер и сказал: „Если будет ночью обыск, то шурши и говори, что ты — бумага” (Шкловский, 1923,216). Речь идёт о начале осени 1918 г. Надо полагать, как это делает комментатор кн. «Гамбургский счёт», что за „архивариусом”, у которого останавливался Шкловский через некоторое время, тоже скрывается Якобсон (Шкловский, 1990, 503)
 157
157 В «Сентиментальном путешествии» в кустах у храма Христа Спасителя прячется не сам Шкловский, „а один офицер, бежавший из Ярославля ‹...› после восстания [эсеров летом 1918 г. —
Б.Я.]” (Шкловский, 1923, 213).
 158
158 Ср. у Шкловского: „Попал к одному товарищу (который политикой не занимался), красился у него, вышел лиловым. Очень смеялись. Пришлось бриться. Ночевать у него было нельзя” (Шкловский, 1923, 216).
 159
159 В повести Шкловского документ был подписан не Троцким, а Свердловым, и не по просьбе Л. Рейснер, а М. Горького: „Пошёл к Алексею Максимовичу, он написал письмо к Якову Свердлову. ‹...› Свердлов принял меня без подозрительности, я сказал ему, что я не белый, но он не стал расспрашивать и дал мне письмо на бланке центрального исполнительного комитета, в письме он написал, что просит прекратить дело Шкловского” (Шкловский, 1923, 243). С Ларисой Рейснер связана другая история: она его просила помочь ей “отбить” её мужа Ф. Раскольникова из Ревеля. Это оказалось ненужным — его „просто выменивали у англичан на что-то”, — но Шкловский с Рейснер поехал в Питер „с каким-то фантастическим документом, ею подписанным” (там же, 244).
 160
160 В феврале 1922 г. было объявлено, что арестованы 47 представителей партии социалистов-революционеров. Процесс начался 8 июня 1922 г. Шкловский в середине марта 1922 г. сбежал в Финляндию, где одно время жил в селе Raivola (ныне Рощино) близ русско-финской границы (где жила тогда же финляндская поэтесса Edith Sodergran). Вторая часть «Сентиментального путешествия», «Письменный стол», начата в мае 1922 г. в Raivola (см.: Шкловский, 1923, 187) и закончена в Берлине позже в том же году.
 161
161 Юрий Яковлевич Большин (1871–1938).
 162
162 Маяковский переехал в Лубянский проезд осенью 1919 г. Ср. письмо Якобсона Эльзе Триоле от 19 дек. 1920 г. о настоящей причине переезда: „К осени 1919 г. [Л.Ю. Брик и Маяковский] разъехались, Володя поселился со мной дверь в дверь, а зимой разошлись” (письмо 17).
 163
163 Это первое пушкинское лето не значится у Катаняна, но именно этим летом была найдена собака Щен, о которой рассказывает Л.Ю. Брик в кн. «Щен», Молотов (ныне Пермь), 1942.
 164
164 Лев Александрович Гринкруг (1889–1987), ближайший друг Маяковского и Бриков. О его биографии см. Переписку, 195.
 165
165 Ср. восп. Якобсона: „Я обещал статью на эту тему для очередного Сборника по теории поэтического языка, подготавливавшегося ОПОЯЗом. Этот сборник в 1919 году действительно вышел, впрочем, так и не дождавшись моей статьи. Я по праву считал её незрелым эскизом, требующим дальнейшей обработки и переработки в свете последовательно уточнявшихся принципов лингвистического анализа. Этот мой замысел нового подхода к двадцати одной строке стиха о горе дозрел полвека спустя и лёг в основу моей монографии о грамматическом параллелизме и его русском образчике, напечатанном в американском журнале «Language» в 1966 году. Но и эту версию я считаю всего лишь предварительным эскизом” (Беседы, 79). Статья напечатана в журн. «Language», 1966, Vol. 42 («Grammatical Parallelism and its Russian Facet»).
 166 П.Г. Богатырёв
166 П.Г. Богатырёв. Чешский кукольный и русский народный театр // Сборник по теории поэтического языка. Берлин-Пг., 1923. Совместная работа Якобсона и Богатырёва над народным театром началась раньше, чем летом 1919 г.: „‹...› we assidiously worked [on the manual of Russian folk theatre] during the winter months of 1919 at a temperature of 240 F in our room on Lubjanskij Thruway, with ice in our inkwell instead of ink, to the accompaniment of the sound of gun-fire from the neighboring street”.
 167
167 Речь идёт о художнике Эдуарде Густавовиче Шимане (1885–1942), который часто бывал у Бриков, и художнице Антонине (Тоне) Гумилиной, с которой Шиман сошёлся незадолго до её самоубийства в 1918 г.
 168
168 В киносценарии «Как поживаете?» (ПСС, II, 129–148) Маяковский узнаёт из газеты о девушке, покончившей с собой выстрелом из револьвера. Он написан в конце 1926 г.; постановщиком был намечен Л. Кулешов, но фильм не был снят. Сценарий носит явно автобиографический характер и является как бы продолжением поэмы «Про это». См. анализ сценария в: Якобсон, 1956.
 169
169 На смете, приложенной к письму Луначарскому, есть подписи: „Члены редколлегии ИМО: В. Маяковский, О. Брик; за секретаря: Р. Якобсон”. Смета датирована 18 июля 1919 г. (ПСС, 13,403). От 29 августа 1919 г. сохранились четыре расписки Якобсона о том, что он получил деньги от ИМО за 1) статью (в два листа) «О революционных стихах В. Маяковского» для сборника статей о Маяковском «Иван. Эпос революции», 2) переводы стихов на французский язык для книги «Русским, немцам, французам» (Сборник новейших российских поэтов в немецком, французским и английском переводах), 3) статью «Футуризм» (в пол листа) для сб. «Искусство Коммуны» и 4) вступительную статью (в четыре листа) «Подступы к Хлебникову» для Собр. соч. Хлебникова. Любопытно, что за статью о Хлебникове Якобсон получил гонорар дважды. Сохранилась расписка от 31 мая 1919 г., согласно которой он получил 1000 рублей з„а статью о Хлебникове для книги сочинений Хлебникова ‹...› от тов. Маяковского”. (Архив Б. Янгфельдта.) Статья Якобсона под названием «Футуризм» была уже напечатана в седьмом номере газ. Искусство (не в газ. Искусство коммуны) за 1919 год (2 авг.), а статья «Подступы к Хлебникову» вышла отдельной книгой в Праге в 1921 г. — «Новейшая русская поэзия. Набросок первый». Другие замыслы не осуществились. (См. также прим. 145 о расписке Пастернака.)
 170
170 Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „До окончания поэмы, в конце 1919 года, у себя в комнате на Лубянском проезде, Владимир Владимирович читал «150.000.000» Шкловскому и мне. Он спросил нас, что мы считаем слабыми местами. Мы указали ему на слабые места, а он ответил: „Что вы думаете, я этого не вижу? Конечно, много слабых мест, но я ещё вижу и то, чего вы не видите” (Якобсон, 1956а).
 171
171 Ср. в этой же последней части поэмы: „Пойте все и все слушайте / мира торжественный реквием”. См. также анализ Якобсона „барабанных строк” в «150.000.000» (Jakobson, 1971).
 172
172 Чтение состоялось в квартире Бриков в первой половине января 1920 г. (Якобсон, 1956а).
 173
173 Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955) был организатором и первым директором (1933–1939) Литературного музея в Москве.
 174
174 Этот вариант текста был впервые напечатан в сб. Смерть Владимира Маяковского (Якобсон, 1931).
 175
175 Ср. записку Ленина от 6 мая 1921 г., после того, как он получил книгу «150.000.000» в подарок от Маяковского: „Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм” («Коммунист», 1957: 18). Ср. рассуждения Якобсона по этому поводу в Беседах, 107–109, а также: Янгфельдт, 1987.
 176
176 Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „Владимир Владимирович выступил очень горячо; он говорил, что именно так нужно понимать тему революции, что было бы смешным её натуралистическое изображение и что это должен быть эпос. И это было очень характерно для него, что настоящий эпос, настоящая поэма всегда должна быть в первую очередь о будущем. ‹...› [Луначарский] сопоставил «150.000.000» с «Двенадцатью» Блока. ‹...› По существу, заглавие 150.000.000 — это полемический ответ на «Двенадцать». Не двенадцать делали революцию, а 150.000.000! ‹...› Вообще, его заглавия часто носили полемический характер. В частности, «Письмо Татьяне» — это своеобразная полемика с ответом Татьяны на письмо Онегина. Как-то, когда я спросил: чем ты занимаешься? (это было ещё очень давно, до революции), он ответил: „Я переписываю мировую литературу, переписал «Онегина», потом переписал «Войну и мир», теперь переписываю «Дон-Жуана». Но этот «Дон-Жуан», как известно, не сохранился. ‹...› Тема произведения: Дон-Жуан — это однолюб, но все его увлечения — случайные, не настоящие и, наконец, последнее — настоящая любовь — стало личной трагедией” (Якобсон, 1956а).
 177
177 Луначарский несколько раз критически отзывался об этом тезисе теоретиков т. н. формальной школы, „утверждавших, что искренность и искусство — антиподы” (Красная новь, 1921: 1; Луначарский, 1967, 253). Судя по всему, в этот вечер с той же аргументацией выступил и О. М. Брик, которому Луначарский в статье 1929 г. приписывает слова о „нарисованных” и „мраморных колоннах” (Луначарский, 1967а, 43). В 1923 г. нарком вспоминал: „Когда Маяковский прочёл ‹...› «150.000.000», я спросил его: искренно ли он это писал или не искренно? Он ничего не ответил, потому что если он скажет, что искренно, то его заклюют Брики, которые говорят, что сам Пушкин писал не искренно и т.п. Брик в тот вечер безбожно путал два вопроса. Он думал, что всё равно — спросить, из настоящего камня колонна, которая изображена на декорации, или нарисована масляными красками, или искренен ли поэт, когда он пишет, или лжёт, притворяется?” (Луначарский, 1967, 662).
 178
178 В театральной школе при I Государственном театре РСФСР Якобсон читал курс «Русский язык». Одним из его учеников был известный лингвист А. А. Реформатский (см.: Реформатский, 1970,14–15).
 179
179 Занятия в Государственном институте декламации начались 20 октября 1919 г. Председателем президиума института был В. К. Серёжников, и среди преподавателей числились Вяч. Иванов, П. Коган, Д. Ушаков и Ю. Айхенвальд. P. O. Якобсон значится профессором института уже в ноябре 1919 г. (Вестник театра, 1919: 44, 2–7.12).
 180
180 Торжественное открытие института состоялось 27 ноября 1919 г. (см. отчёт в Вестнике театра, 1919: 44, 2–7.12).
 181
181 Это чтение имело место позже в январе 1920 г.
 182
182 Адольф Григорьевич Меньшой (Гаи), журналист, работник Наркоминдела. В 1919-20 гг. работал в РОСТА. Репрессирован. Автор книги Мы с вами в Берлине, М., 1924 (обл. А. Родченко). См. с. 93–94 наст. изд.
 183
183 Ср. восп. Якобсона 1956 г.: „‹...› кто-то говорил, что это в значительной степени возвращение к традициям оды Державина; кто-то говорил о связи этой поэмы с былинами, кто-то говорил о связи с Некрасовым и т.п. Владимир Владимирович записывал, кто что говорил, и сказал: „Я слышал, что здесь Державин, Пушкин, Некрасов и так далее. Это ни то, ни другое, ни третье, а вся русская литература и, кроме того, нечто иное” (Якобсон, 1956а).
 184
184 Схожие образы часто встречаются в творчестве Маяковского. Ср., напр., стихотв. «Бюрократиада» (1922): „ высятся / недоступные форты, / серые крепости советских канцелярий” или стихотв. «Товарищи! Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о Моне» (1923): „Постоим… / и дальше в черепашьем марше! / Остановка: / станция «Член коллегии» / Остановка: / разъезд «Две секретарши»…”. Ср. также черновой вариант поэмы «Пятый Интернационал», где речь идёт о Ленине и его секретарше Фотиевой: „Меня ль секретарша и дверь озаботит / И сквозь грудь я пролезу / Радий. / Расставьте кругом сторядие стражи /… Меня никакая ограда не сглушит / Хоть вчетверо вымножись стенка кремлёва / С асфальтов взовьюсь и врежусь в уши / восставшим кипящим песенным рёвом” (ПСС, 4, 3 об).
 185
185 И в киносценарии «Позабудь про камин» (1927), и в пьесе «Клоп» (1928), куда Маяковский перенёс тему и основных действующих лиц из сценария (который никогда не был поставлен), автор перефразирует первую строфу из песни на слова стихотв. Я. Полонского «Затворница». В «Клопе»: „На Луначарской улице / я помню старый дом — / с широкой чудной лестницей, / с изящнейшим окном”.
 186
186 О теме “Революции Духа” в творчестве Маяковского см.: Jangfeldt, 1976, 51–71.
 187
187 Из стихотв. Маяковского «Послание пролетарским поэтам» (1926).
 188
188 Тема воскрешения мёртвых особенно ясно проступает в поэме «Про это»: „Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом / ждал тебя, / откинув будничную чушь. / Воскреси меня / хотя б за это! / Воскреси — / своё дожить хочу!” Якобсон: „Его видение грядущего воскрешения мёртвых во плоти конвергентно материалистической мистике Фёдорова” (1931,24).
 189
189 Ср. восп. Якобсона о том, как весной 1920 г., после его возвращения из Ревеля в Москву, Маяковский „заставил” его повторить несколько раз свой „сбивчивый рассказ об общей теории относительности”: „Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движением во времени — всё это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким внимательным и увлечённым” (Якобсон, 1931, 24, 25).
 190
190 Из стихотв. «Иранская песня» (1921).
 191
191 Ср. восп. художника В.О. Роскина: „Они жили вместе — поэт и теоретик. Это были тяжёлые годы. Бывшая работница Якобсонов пекла булки и немножко подкармливала их. Вечером они писали, днём шли пешком в отдел ИЗО Наркомпроса, который помещался у Крымской площади в здании бывшего лицея” (Якобсон, 1987, 410).
 192
192 Пьеса «Как кто проводит время, праздники празднуя (На этот счёт замечания разные)» была написана в марте-апреле 1920 г. для Государственной опытно-показательной студии Театра Сатиры. Она была предназначена для спектаклей в первомайские дни, но была поставлена только в 1922 г. в клубе полигона военной школы «Выстрел».
 193
193 Упоминаемая пьеса, так же, как и две другие, написанные по тому же поводу, были впервые напечатаны в альманахе «С Маяковским», М., 1934.
 194
194 М.М. Покровский (1869–1942) был ректором Московского университета.
 195
195 Ср. статью «Vliv revoluce na ruský jazyk»: „Spirtošvili — moskovské slovíčko z r. 1919, znamenající tajného prodavače lihu, pálenky a vina, ‹...› protože většina těchto vinařů byla ‹z› Kavkazu” (Jakobson, 1921, 22).
 196
196 См. c. 72 наст. изд.
 197
197 Отец Шкловского был учителем математики. О родне В. Шкловского см. «Сентиментальное путешествие» (Шкловский, 1923, 318 и сл.).
 198
198 Ссылкой на эту Надю начинается «Письмо к Роману Якобсону» В. Шкловского: „Надя вышла замуж”. Письмо напечатано в «Книжном угле», 1922: 8 и перепечатано в: Шкловский, 1990,145–146. Речь идёт о Надежде Филипповне Фридлянд, из-за которой весной 1920 г. Шкловский „стрелялся с одним человеком” (Шкловский, 1990, 164, 503, 506). Якобсон знал её с детства. „Наши отцы были родом из Двинска и учились в одном классе”, — вспоминает Н. Фридлянд (в письме к Б.Я. от 28. 6. 90). — Их дружба продолжалась и в зрелые годы. Первое моё воспоминание — это дача, совместно снятая нашими родителями. Мне — 7 лет, Роме — и ‹...›. К нам приходили соседские дети, мы затевали шумные игры. Все, кроме Ромы. Он сидел в саду за столиком обложенный книгами и тетрадями и на все приглашения “поиграть” отвечал: „Потом”. Или вообще не отвечал”. Н. Фридлянд виделась с Якобсоном в Риге весной 1919 г., и перед отъездом в Прагу он её уговаривал поехать с ним: „Надо быть безумной, чтобы остаться в этой стране. Ты горько об этом пожалеешь”. Однако Н. Фридлянд осталась в России и с Якобсоном увиделась вновь только в 1976 г., когда эмигрировала в Америку. О своей артистической жизни она выпустила книгу рассказов и воспоминаний (под фамилией Н. Крамова)« Пока нас помнят», Tenafly, N.J., 1989.
 199
199 Когда были прочитаны доклады в Доме литераторов, не удалось установить. Доклад о Брюсове «Образчик научного шарлатанства (по поводу «Науки о стихе» В. Брюсова)» Якобсон читал в Московском лингвистическом кружке ещё 23 сентября 1919 г., в присутствии Маяковского (Шапир, 1991, 52). Свои возражения Брюсову Якобсон излагал потом в статье «Брюсовская стихология и наука о стихе» в «Научных Известиях», сб. II, М., 1922, 222–240. 1 февраля 1920 г. Якобсон читал ещё один доклад у Чуковского, об „эмансипации поэзии от семантики, об ослаблении смыслового элемента”, в этот раз в Доме искусств (Чуковский, 1979, 274), и 7 февраля он сделал сообщение в Московском лингвистическом кружке о „филологической жизни Петрограда” (Шапир, 1991, 52).
 200
200 Об отце Янова см. с. 48 наст. изд. Если Г. Янов был „лет на пять” моложе Якобсона, ему было в это время не больше двадцати лет!
 201
201 Якобсон находился в Ревеле с начала февраля по 4 апреля 1920 г. в качестве „члена торговой делегации Центросоюза и сотрудника РОСТА” (Якобсон, 1987, 427).
 202
202 Михаил Юльевич Левидов (1891–1942), писатель и журналист, после Ревеля работал в бюро печати советской торговой делегации в Лондоне. По возвращении в Россию примкнул к ЛЕФ. Репрессирован.
 203
203 Arturo Сарра — юрист, брат Бенедетты Каппа, будущей жены Маринетти. Коммунист, автор книги L'Arte e la Rivoluzione (Milano, 1920). Каппа был далеко не единственным итальянским футуристом с коммунистическими симпатиями: см. прим. 9 к статье «Новое искусство на Западе».
 204
204 Николай К. Клышко (1880–1937), старый большевик, во время первой мировой войны член большевистской секции РСДРП в Лондоне (вместе с Литвиновым, Керженцевым и др.). После Октябрьского переворота одно время работал помощником В. В. Воровского в Госиздате, потом служил в советских торговых и дипломатических миссиях за границей, в том числе в Швеции и Норвегии. Репрессирован.
 205
205 Якобсон находился в Ревеле с начала июня по 3 июля 1920 г.
 206
206 По соглашению с Якобсоном, устный рассказ о Теодоре Нетте сконтаминирован с его письмом от 2 марта 1963 г. о знакомстве с латышским дипкурьером, копию которого он мне передал во время нашей работы.
 207
207 Jānis Rainis (Jānis Pliekšans. 1865–1929) — латышский поэт и драматург, в 1897–1903 гг. был сослан в Россию за участие в борьбе за демократию, потом эмигрировал в Швейцарию, в 1920 г. вернулся на родину, стал директором Национального театра, а потом и министром просвещения.
 208
208 «О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским». Прага. 1923. Ср. письмо Ю. Тынянова к В. Шкловскому от конца 1928 г.: „Сидим в кафе «Дерби» с Романом, много говорим о тебе и строим разные планы. Выработали принципиальные тезисы (опоязисы), шлём тебе на дополнение и утверждение” (Тынянов, 1977, 533).
 209
209 Цит. из стихотворения «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926).
 210
210 Поэма вышла без указания автора.
 211
211 Судя по всему, эта заметка не была напечатана.
 212
212 О научной наклонности Нетте свидетельствует тот факт, что в статье «Vliv revoluce na ruský jazyk» Якобсон благодарит его за филологические наблюдения, использованные в этой работе (Jakobson, 1921, 31).
 213
213 Литературовед и фольклорист А.А. Скафтымов (1890–1968) был с 1921 г. профессором Саратовского университета.
 214
214 Павел Николаевич Мостовенко (1881–1939) был в 1921–22 гг. полпредом РСФСР в Литве и Чехословакии. Согласно Шкловскому, Мостовенко помог ему вернуться в Россию: „Один мой знакомый (через Романа), Павел Николаевич Мостовенко, был в Москве и подал заявление о необходимости закончить моё дело. Он говорил об этом с Каменевым, Луначарским и, кажется, с Зиновьевым. Заявление подано Енукидзе и должно идти во ВЦИК” (письмо к жене, ноябрь 1922 г.; Шкловский, 1990, 507).
 215
215 Г.В. Чичерин (1872–1936), министр иностранных дел с 1918 по 1930 год. „Я никогда с Чичериным не встречался, — вспоминает дальше Якобсон. — Он был своеобразный человек, из очень аристократической семьи итальянского происхождения. (Его предок был в Московской Руси, при одном из Иоаннов, переводчиком-итальянцем — cicerone, отсюда Чичерин.) Он кончил историко-филологический факультет в Петербургском университете. Мой знакомый, который тоже кончил [этот факультет], Ястребов, который потом стал профессором, говорил ему: „Я вам завидую, вы же блестяще кончили”. — „Да, — говорит, — но нет ни одного предмета, к которому я привязан”. И он пошёл по дипломатической части, в царской России. И в один прекрасный день пришёл в посольство и заявил, что стал социал-демократом, и ушёл из посольства. Чичерин писал письма [Левину] — я сам их читал: „Пришлите мне книги, я очень люблю чешскую литературу, чешскую поэзию (он в эмиграции был главным образом в Праге). Пришлите мне, если можете, последний том поэта Врхлицкого, я его очень ценю”. Тот ему послал и, кроме того, послал ему Швейка, который его тоже очень заинтересовал. В одном письме он писал Левину: „Вы скучаете в Праге. Вы не правы. Это страна с мещанским лоском, но под ним кроются страсти, те страсти, которые отражаются в славянских танцах Дворжака и в чешской поэзии, в поэзии Неруды. Это будет одна из самых ярких революций”. (МЗ).
 216
216 В.А. Антонов-Овсеенко был советским послом в Чехословакии в 1924–29 гг. См. прим. 116.
 217
217 Ср. письмо ВОКС на имя своего представителя в Чехословакии, советника посольства Наума Калюжного, от 8 февраля 1927 г.: „Едет Маяковский за свой счёт и рассчитывает на организационное содействие при устройстве вечера и на помещение, которое любезно согласился предоставить ему т. Якобсон, так как ему не хотелось бы жить в гостинице” (Архив Л.Ю. Брик). На самом деле Маяковский остановился в Hotel Julius, Vaclavska 22. Ср. описание Маяковским приезда в Прагу в очерке «Ездил я так» (1927): „На пражском вокзале — Рома Якобсон. Он такой же. Немного пополнел. Работа в отделе печати пражского полпредства прибавила ему некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах” (ПСС, 8, 331).
 218
218 Вечер в советском полпредстве состоялся 25 апреля.
 219
219 Перевод Матезиуса вышел отдельным изданием в Праге в 1925 г.
 220
220 Вечер состоялся 26 апреля в «Виноградском народном доме». Ср. очерк «Ездил я так»: „Я прочёл доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150.000.000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи» (ПСС, 8, 332). О разных газетных отзывах о вечере см. письмо Якобсона, посланное Маяковскому через несколько дней после выступления и приводимое поэтом в этом же очерке.
 221
221 Спор Маяковского с Госиздатом по поводу гонораров отражён в переписке поэта с руководителями издательства (ПСС, 13, П2,114-15,127,129-30). Обычно Маяковскому платили за строку, но в письме от 16 марта 1929 г. директор Госиздата А.Б. Халатов пишет, что в связи с „невыгодностью” этой системы „необходимо сделать срочно мотивированное предложение тов. Маяковскому об изменении договора в части системы оплаты (перевести на полистную)” (ИМЛИ, 18-2-35). Маяковский, однако, требовал оплату в 75 коп. за строку и получил справку от Федерации писателей (ФОСП) об оправданности такого требования: „Оплату в 75 коп. за строку по отношению к поэтическим произведениям, выпускаемым первым книжным изданием, принимая во внимание обычную оплату наших из‹дательст›в и квалификацию т. Маяковского как писателя, считаем нормальной” (там же). Судя по письму Халатова к зав. литературно-художественным отделом Госиздата Г. Сандомирскому от 15 июня 1929 г., издательство согласилось на условия Маяковского (там же).
 222
222 На сходство между восприятием России и Франции у Маяковского и Карамзина Якобсон указал ещё в 1931 г., в статье о русском мифе о Франции: „Der treue Sohn des russischen Kaiserreiches, Karamzin, sagt in 1790 vom revolutionären Paris: Ich möchte in meinem lieben Vaterland leben und sterben; aber nach Rußland gibt es für mich kein angenehmeres Land als Frankreich. Und 1925 schreibt Majakovskij, der Dichter Sovjetrußlands, der nie Karamzin gelesen hatte, vom Nachkriegs-Frankreich: Ich möchte in Paris leben und sterben, wenn es kein Land Moskau gäbe. Das gleiche Motiv variiert 1847 Belinskij” (Jakobson, 1931a, 637).
 223
223 Адольф Гофмейстер (Hofmeister; 1902–1973) — чешский художник-карикатурист, 3 ноября 1929 г. Маяковский присутствовал на открытии его выставки карикатур в Париже. См. восп. Гофмейстера о Маяковском (Маяковский, 1988, 347–350); там же воспроизведён шарж Гофмейстера на Маяковского 1927 г.
 224
224 По пути в Париж в середине февраля 1929 г. Маяковский „день гостил у меня в Праге”, вспоминал Якобсон (1956, 187). Согласно письму, цитируемому В.А. Катаняном, переговорам о постановке «Клопа» предшествовало письмо представителя ВОКС в Праге Н. Калюжного в ВОКС от 21 января 1929 г. с просьбой прислать один экземпляр пьесы (Катанян, 1985, 584).
 225
225 Ср. также в поэме «Про это»: „В детстве, может, / на самом дне, / десять найду сносных дней”. Тема времени и старения является лейтмотивом всего творчества Маяковского. См.: Поморска, 1981, 341–353.
 226
226 Ср. статью Якобсона «За и против Виктора Шкловского»: „О драматическом чередовании жанров и о их драматической коллизии, о борьбе лирической и антилирической стихии не раз говорил Маяковский и в стихах и в письменных либо устных свидетельствах о своих стихах. ‹...› Спор за и против, напор лирики, снова зовущей писать про то и про это и ответные атаки на лирику — таков внутренний закон жизненного и литературного пути Маяковского” (Якобсон, 1959, 309) — Идея о цикличности творчества Маяковского развивается Якобсоном в статье «Новые строки Маяковского»: „В творчестве Маяковского любовные поэмы и лирические циклы правильно чередуются с лиро-эпическими поэмами о мировых событиях” (Якобсон, 1956, 180–181). После первого лирического цикла («Облако в штанах», «Флейта-позвоночник») следовала „поэма общественника” «Война и мир», сменившаяся лирической поэмой «Человек», после которой были написаны «150.000.000», и т.д.
 227
227 Маяковский встретился с Татьяной Александровной Яковлевой (1906–1991) в Париже в 1928 г. Знакомство Якобсона с Яковлевой состоялось в Америке, и часть писем Маяковского к ней была опубликована Якобсоном в 1956 г. (Якобсон, 1956). Ср. восп. Эльзы Триоле: „Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж [в 1928 г.] и сказала ей: „Да вы под рост Маяковскому”. Так из-за этого „под рост”, для смеха, я и познакомила Володю с Татьяной. Маяковский же с первого взгляда в неё жестоко влюбился. ‹...› В то время Маяковскому нужна была любовь, он рассчитывал на неё, хотел её…” (Триоле, 1975, 64, 65).
 228
228 Так, например, в декабре 1916 г. Эльза получила от него письмо со строчкой из «Облака в штанах» — „уже у нервов подкашиваются ноги”, после чего сразу отправилась в Петроград. „Всю жизнь я боялась, что Володя покончит с собой” (Триоле, 1975, 331 см. также переписку Маяковского и Эльзы: Маяковский / Триоле, 1990).
 229
229 Комфутами (коммунистами-футуристами) называли себя примкнувшие к революции левые деятели искусств: Маяковский, Брик, Пунин, Кушнер и др. Об истории «Комфута» см.: Jangfeldt, 1976, 92–118.
 230
230 Цит. из стихотв. «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (1926).
 231
231 Ср. автобиографию Маяковского «Я сам»: „Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый калошу оставит”.
 232
232 Событие относится, скорее всего, к 1916 г. (см.: Блок, 1982, 100). Ср. дневник К.И. Чуковского за 8 декабря 1920 г.: „Маяковский забавно рассказывал, как он был когда-то давно у Блока. Лиля была именинница, приготовила блины — велела не опаздывать. Он пошёл к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его книги — с автографом. — Я пошёл. Сижу. Блок говорит, говорит. Я смотрю на часы и рассчитываю: десять минут на разговор, десять минут на просьбу о книгах и автографах и минуты три на изготовление автографа. Всё шло хорошо — Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо — сидит пять минут, десять, пятнадцать. Я в ужасе — хочу крикнуть: скорее! — он сидит и думает. Я говорю вежливо: „Вы не старайтесь, напишите первое, что придёт в голову”, — он сидит с пером в руке и думает. Пропали блины! Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу — немного размазал, благодарю, бегу, читаю: „Вл. Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю” (Чуковский, 1980, 304–305) — Об отношении Маяковского к поэзии Блока см. восп. Л. Брик: „В 1915 г., когда мы познакомились, Маяковский был ещё околдован Блоком” (Брик, 1963, 332).
 233
233 Ср. восп. Якобсона о К.П. Богатырёве: „Нелегко вчитаться в горластую семантику ещё бессознательного человеческого существа, и даже нашего московского гостя Владимира Маяковского передёргивало, когда в комнату вбегал малыш Богатырёв ‹...›” (Богатырёв, 1982, 239).
 234
234 Ср. «Дневник»Л.Ю. Брик от 23 янв. 1930 г.: „До чего Володю раздражают родственники — его форменно трясёт, хотя [старшая сестра] Люда бывает у нас раз в три месяца. Я даже зашла к нему в комнату и сказала: „Надо хоть полчаса поговорить с Людой или хотя бы открыть дверь — она не войдёт”. А он: „Я не мо-гу, о-на ме-ня раз-дра-жает!!!” И весь искривился при этом. Мне ужасно было неприятно” (Архив Л.Ю. Брик).
 235
235 Щен — собака Маяковского в 1919-20 гг. См. восп. Л. Брик, 1942. Свои письма Маяковский подписывал часто „Щен” и рисунком собаки.
 236
236 О схожем высказывании Маяковского вспоминала Анна Ахматова в беседе с Л.Я. Гинзбург: „А помните, что сказал Маяковский: говорите о моих стихах всё, что хотите; только не говорите, что предпоследнее лучше последнего” (Гинзбург, 1989, 361).
 237
237 Л.Ю. Брик вспоминает, что в первые годы замужества они с О.М. Бриком читали книгу Киркегора «In vino Veritas» (Брик, 1934, 63).
 238
238 Е.А. Лавинская рассказывает, как 16 апреля 1930 г. она увидела чекиста Я.С. Агранова, окружённого группой лефовцев: „Я подошла, и он мне передал какую-то фотографию, предупредив, чтобы я смотрела быстро и чтобы никто из посторонних не видел. Это была фотография Маяковского, распростёртого, как распятого, на полу, с раскинутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом. Мне объяснили: „Засняли сразу, когда вошли в комнату, Агранов, Третьяков и Кольцов” (Лавинская, 1968, 330). В восп. В. Полонской, находившейся в квартире, когда Маяковский застрелился, подобной информации нет.
Воспроизведено по:
Роман Якобсон: Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза.
Гилея. 2012. С. 21–112; 215–258.
Поверено англоязычной версией:
Roman Jakobson. My Futurist Years.
Compiled and edited by Bengt Jangfeldt and Stephen Rudy. Translated and with an introduction by Stephen Rudy.
New York: Marsilio Publishers. 1992. P. 3–100; 269–312.
Изображение заимствовано:
Bill Woodrow (b. in 1948 near Henley, Oxfordshire, UK. Lives and works in London).
Listening to History.
Bronze. 1995; cast 2001. 75×68×79 cm.
Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan, US.
www.flickr.com/photos/hanneorla/4062347148/


 чебные годы двенадцатый-тринадцатый и тринадцатый-четырнадцатый (о тех временах я привык мыслить именно в рамках учебных годов) были временем литературного и научного созревания. В те годы казалось несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке — вернее, в науках — эпоху катаклизмов. Тогда я заслушивался лекциями молодого физика, вернувшегося из Германии, который рассказывал о первой работе Эйнштейна по теории относительности — это было ещё до общей теории относительности, — а с другой стороны чередовались впечатления от французских художников и нарождающейся русской живописи, уже наполовину беспредметной, а затем и полностью беспредметной.
чебные годы двенадцатый-тринадцатый и тринадцатый-четырнадцатый (о тех временах я привык мыслить именно в рамках учебных годов) были временем литературного и научного созревания. В те годы казалось несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке — вернее, в науках — эпоху катаклизмов. Тогда я заслушивался лекциями молодого физика, вернувшегося из Германии, который рассказывал о первой работе Эйнштейна по теории относительности — это было ещё до общей теории относительности, — а с другой стороны чередовались впечатления от французских художников и нарождающейся русской живописи, уже наполовину беспредметной, а затем и полностью беспредметной.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Приехал Маринетти, в конце января четырнадцатого года. И мы уже были готовы если не „закидать тухлыми яйцами”, как предложил Ларионов,41
Приехал Маринетти, в конце января четырнадцатого года. И мы уже были готовы если не „закидать тухлыми яйцами”, как предложил Ларионов,41![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()