

1) Принадлежит авангардизм относительно короткому периоду (приблизительно с 1910–1920 гг. по 1932 г.), или отдельные литературные тенденции XIX в. являются авангардизмом sui generis, как было предложено Mario de Micheli в книге «Le avanguardie artistiche del novecento» (Milano 1959)?
2) Ограничивается ли авангардизм революционным искусством? Какова роль буржуазного начала в авангардизме? Преобладает ли оно, как утверждает Н.Е. Holthusen в своей книге «Avangardismus und die Zukunft der modernen Kunst» (München 1964)?
3) Можно ли объединить авангардистские течения первой трети XX так, чтобы их совокупность имела единую системную структуру стилевой формации и соответствовала бы тому, что W. Krauss называет “Wesensbegriff” в его схемах периодизации литературы?1![]()
а) попытка отождествить авангардизм и революцию: только революционное искусство является истинным и авангардистским искусством, и
б) абсолютизация авангардизма как уникального явления в истории литературы, подобно возвеличиванию Октябрьской революции её приверженцами.
В обоих случаях упускают из виду известные закономерности развития литературы, которые вскрыты ещё в 20-е годы в работах т.н. формалистов. Здесь можно найти ценные замечания о смене литературных направлений, которые сохраняют своё значение и поныне.
Уже Р. Якобсон в своей ранней статье «О художественном реализме» (1921 г.) писал о смене направлений как „о деформации, осуществлённой новым учением”, „о деформации данных художественных канонов”. Представитель нового течения, на пороге к реализму, говорит, следуя Якобсону: „Я революционер в отношении к данным художественным навыкам, и деформация оных воспринимается мною, как приближение к действительности”. На это отвечает консерватор, представитель старых норм: „Я консерватор, и деформация художественных навыков воспринимается мною, как извращение действительности”. В скобках отметим, что понятие “деформация” относится и к литературно-эстетическим, и к морально-этическим нормам общества.
Тынянов в статье «Литературный факт» (1924 г.) вторит Якобсону: принципом эволюции являются „борьба и смена”.
Этим представлением о смене стилей Тынянов в известной мере приближается к точке зрения социологии литературы, которая утверждает, что литература и общество образуют единую систему взаимоотношений, в рамках которой литературно-эстетические нормы тесно связаны с философскими и морально-эстетическими. Смена норм в одной подсистеме приводит к перенормировке в другой.
В статье «О литературной эволюции» (1927 г.) Тынянов уже в категорической форме повторяет свою точку зрения:
Смена направлений в литературе связана с общественными процессами, которые зачастую совершаются именно под воздействием литературы. История последних 150–200 лет свидетельствует, что господствующее литературное направление редко удерживает командные высоты более двух десятилетий. При переходе от одного направления к другому налицо элементы борьбы и даже революционных преобразований в обществе и литературе, и они продолжаются до тех пор, пока вся система не придёт в очередное положение равновесия.
Термин ‘авангард’ легко применим к тем литературным явлениям, о которых писали цитированные выше представители формальной школы.2![]()
В литературно-исторических исследованиях указывалось на то, что уже в литературе XVIII в. встречаются зачатки авангардных течений. Едва ли можно говорить здесь о “течениях”, поскольку речь идёт о незначительном количестве текстов, авторов и единичных случаях литературной полемики. Только с начала XIX в. это явление становится массовым. В течение двух десятилетий, предшествующих романтизму, появляется множество авторов и текстов, которых следует причислить к авангарду. При переходе от романтизма к реализму (40-е годы XIX в.) в России на роль авангарда претендует “натуральная школа”. На рубеже столетий реализм сменяет декадентская литература, эстетизм: перед нами очередной авангард. Рассмотрим эти явления более подробно.
Аналогичная переоценка ценностей в искусстве театра привела к полемике вокруг сентиментальной драмы. В 1767 году выходит новый анонимный перевод драмы Дидро «Le fils naturel» с предисловием переводчика, где последний называет Дидро создателем нового жанра в драматическом искусстве. Новизна соответствует сентиментальным нормам. В этом же году в театре идёт комедия Бомарше «Eugénie». Разъярённый Сумароков, представитель отмирающего литературного направления, обращается к Вольтеру с призывом сплотиться для борьбы с новаторами. В предисловии к своей драме «Дмитрий Самозванец» (1771 г.) он публикует ответ Вольтера вкупе со своими суждениями о новом „пакостном роде слёзных комедий”. Намекая на низкое происхождение переводчика драмы «Eugénie» (актёра Дмитревского), Сумароков язвит: „Переводчик оныя драмы какой-то подьячий... Подьячий стал судьёю Парнаса и утвердителем вкуса Московской публики!” Тирада кончается словами: „А ежели ни г. Вольтеру, ни мне кто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пити с солью, кофе с чесноком и с молебном совокупят панафиду”6![]()
Эти зачатки авангардных тенденций заслуживают более пристального внимания исследователей. Уже в преддверии романтизма, в первые годы XIX в. в русской литературе впервые возникли авангардные течения. Им привержены исключительно молодые писатели, которые сошлись в Москве в «Дружеском литературном обществе» (1800–1801 гг.), а в Петербурге в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» (ранний период 1801–1807 гг.). Главным зачинщиком «Дружеского литературного общества» был Андрей Иванович Тургенев, горячий поклонник немецкой литературы “Бури и натиска”. Вот характерное место из речи А.И. Тургенева (1801 г.), которое отражает его отношение к литературной традиции. В скобках заметим, что похожие высказывания можно найти у авангардистов 20-х годов нынешнего века:
В своих выступлениях А.И. Тургенев порицал также эстетические и стилевые нормы, которых придерживались карамзинисты, представители ведущего литературного течения того времени. Он противопоставляет им традицию, восходящую к Ломоносову, но в то же время критически отзывается о его наследниках: „Пусть бы мешали они с великим уродливое, гигантское, чрезвычайное; можно думать, что это очистилось бы мало по малу”.8![]()
Современники или принимали авангардные тексты с энтузиазмом, или осуждали их. Вот пример второго: рецензия анонимного критика на трагедию Нарежного «Дмитрий Самозванец» (1800–1804 гг.):
Нарежный к 1810 году написал шесть драм. Все они соответствуют предромантическим — для того времени авангардным — нормам. В раннем произведении А.Ф. Мерзлякова (1778–1830), «Письме Вертера к Шарлотте», впервые дан образ романтического, ищущего, разочарованного человека, который потерял успокаивающую веру в потусторонний мир:
Те же черты присущи раннему творчеству Н.И. Гнедича (1784–1833), переводчика Шиллера («Die Verschwörung des Fiesko zu Genua») и Шекспира («King Lear»). Гнедич написал два романа: «Дон Корадо де Герерра или дух мщения и варварства Гишпанцев» и «Мориц или жертва мщения». Установлено также, что ему принадлежит авторство анонимных «Плодов уединения» (Москва., 1802 г.). Приведу несколько строк из трагедии «Честолюбие или плоды раскаяния» («Плоды уединения»), где в стиле молодого автора ярко проступают авангардные черты.
Эту тираду следует читать, постоянно держа в уме карамзинский стиль, в то время общепринятый. В драме Гнедича воплотился новый “демонический человек”, о котором пишет немецкий исследователь Korff (Der Geist der Goethezeit, Bd. 1, Leipzig 1940, S. 394).
Представление о человеке, таким образом, резко противоречит нормам того времени и знаменует радикальный разрыв с традицией.
Антидеспотические стихи, с которых началась карьера Дениса Давыдова (1784–1839), несомненно являются важным аспектом авангардного течения начала XIX в. Романтический образ автора-гусара представляет собой новый вариант сильного человека предромантизма.
Наполеоновские войны временно прекратили литературную жизнь. В полемике между «Беседой» и «Арзамасом» середины 10-х годов вновь разгорелась борьба между традицией и авангардом; целое побоище развернулось вокруг поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1820 г.). Вот рецензия ныне забытого писателя, где в анализе текста происходит характерный сдвиг: переключение с литературного на общественный план:
Чуть более известный консервативный писатель А.Ф. Воейков (1779–1839) в том же году откликается на «Руслана и Людмилу» весьма характерным для читательского восприятия авангардных произведений образом: критикуя язык и стиль („он любит проговариваться, изъясняться двусмысленно, намекать ‹...›, у него даже холмы нагие, и сабли нагие и т.п.”), он обвиняет автора в безнравственности.13![]()
Литературно-эстетические нормы романтизма утвердились в течение 20-х гг., однако в 30-е годы это направление уже клонится к упадку: писатели “натуральной школы” принимаются разрушать литературно-эстетические и общественные нормы времени. Авторам, собиравшимся тогда у Белинского, было лет двадцать — двадцать пять. Они ратуют за новые, взятые из философии Гегеля, Фейербаха и произведений французских утопических социалистов идеи общественного развития и за новые представления о человеке и его гражданских обязанностях, вырабатывают новые речевые и стилевые навыки. Эти люди, ясно осознав связь между литературой и обществом, пытаются воздействовать на общество своими литературными текстами. В этом отношении не лишён интереса доклад начальника Третьего отделения графа А.Ф. Орлова (1786–1861) от 23 февраля 1848 года. Шеф жандармов (1844–1856) отмечает не только критическое отношение писателей “натуральной школы” к литературной традиции, но прямо свидетельствует о том, что их литературные тексты воздействуют на общество. Отмечается также и стремление писателей обогатить язык новыми выражениями с целью превращения его в более эффективное орудие борьбы за обновление общества:
В 50-е годы XIX в. реализм становится ведущей системой литературно-эстетических норм и остаётся таковым до конца 70-х годов. В некоторых романах этого десятилетия литературоведы отмечают признаки распада реалистических норм.15![]()
![]()
Таким образом, имеются все основания рассматривать вышеуказанные литературные течения как авангардные.
Итоги нашего обзора порождают ряд замечаний об основных компонентах этого литературного явления, в связи с чем выдвигаются тезисы:
1. Упрочение общественных и культурных норм, их „возведение в абсолют” вызывает движение в противоположном направлении, функция которого состоит в том, чтобы разрушить систему норм.
2. В систему норм, до сих пор не подвергаемую сомнению, вторгается авангардный текст „извне” — из „общественного подполья” или из удаления в духовное изгнание (замыкание в свой внутренний мир и свои переживания). Он разрушает систему, чтобы её возродить. Для этого ему необходимы определённые „точки опоры” вне существующей системы норм. Авангардный писатель зачастую пользуется литературными или философскими иноязычными текстами или текстами личной неканонизированной традиции.
3. Авангардный текст предполагает наличие нового понимания мира и природы, которое противопоставлено действующим нормам. Из чего следует
4. новое представление о человеке, новое понимание роли автора, а также новая концепция отношения автор/читатель, влекущая за собой преобразование запросов и ожиданий читателей.
Это требует
5. новых речевых и стилевых норм. Кроме того, необходимо
6. то, что можно условно назвать адолесцентным поведением авангарда, отчасти объяснимое юным возрастом новаторов. Такому поведению соответствует радикальный образ мышления и бескомпромиссное творчество.
7. Общественная система норм, прежде всего по отношению к этике, и литературно-эстетическая система норм представляются авангардным писателям настолько неприемлемыми, что только радикальная оппозиция способна разрушить их.
8. Важным является и тот факт, что общественно-политическое значение литературы воспринимается и переживается авангардным писателем особенно интенсивно, что проявляется в тематике его произведений.
Некоторые наши тезисы далеко не новы. А. Флакер в своей содержательной работе «Je li nam pojam avangarda potreban?» насчитывает около десяти характерных черт авангардизма 1910–1930 гг., и добрая половина их совпадает с нашими (например, „razbijanje postojećih struktura”, „dehijerarhizacija”, „načelo semantičkoga obogaćivanja”17![]()
Бóльшая часть положений, выдвинутых Бюргером (например, „шокирование читателя” как основной художественный принцип или „ликвидация” искусства), тоже соответствует нашим формулировкам.18![]()
Кроме того, у авангардных течений XIX и XX вв. налицо существенные различия. Чередование стабильных норм с авангардными течениями на протяжении XIX в. завершилось победой критического реализма и разлагающими его авангардными течениями 1880–1890 гг. Символизм, который обычно рассматривается как последнее ведущее направление до появления авангардистских течений, не смог утвердиться в той мере, как его предшественники. В XX в. авангардистские группировки, начиная с футуристов и кончая обериутами, не породили господствующей системы норм. Самые разнообразные авангардистские группы сменяют одна другую в течение первого и второго десятилетий. Причину такой чехарды, как нам кажется, следует искать вне литературно-эстетического и общественно-политического уровня, а в плане общеевропейской культурной и общественной эволюции. Первая треть XX в. ознаменовалась не только распадом крупных государств, громадным техническим подъёмом, открытиями в области естественных и общественных наук, повлекшими за собой коренные преобразования, — но и возникновением того, что на Западе сейчас называют плюралистическим обществом. Изменился алгоритм литературной эволюции: свойственного литературе XVIII и XIX вв. перехода от одной фиксированной литературно-эстетической системы норм через авангардное течение к другой фиксированной системе норм в наши дни не наблюдается. То, что в диахронной проекции XIX в. предстаёт как упорядоченная последовательность, ныне реализуется одновременно. Внутренне разобщённой традиции противостоит авангард, тоже структурно раздробленный. Литературный процесс имеет меньшую глубину, зато приобрёл изрядную динамичность. Авангард продолжает отрицать литературную традицию, но перерождается за более короткое время.
Переход к модели литературного процесса, коренным образом отличающейся от предыдущих, укладывается в границы периода, трактуемого нами как авангардизм (1910–1930 гг.). Движение к этой модели в России было насильственно прервано в 30-е годы созданием Союза писателей, на Западе — Второй мировой войной. После окончания войны оно там возобновилось и по сей день определяет ход литературной жизни. Если относительно Запада можно говорить о принципиально новой, соответствующей предпосылкам плюралистического общества модели литературного процесса, то русская литература принудительно загнана в русло старой модели XIX в., привязана к фиксированной литературной системе норм, более того — ограждается государством от “разлагающего” влияния авангардных течений.
Из намеченного здесь вкратце воззрения на литературу следует: претензии на эксклюзивность, выявляемые иногда при анализе авангардизма XX в., не оправданы. Следует учитывать три фактора:
Только в том случае, если литературоведение будет рассматривать авангардизм (1910–1930 гг.) в свете указанного тройного преломления, появится возможность дать адекватный анализ и написать его историю.
На отсутствие единства в современном авангардизме уже указал Renato Poggioli.21![]()
Разногласия в определении авангардистских течений были всегда. Имажинисты, Серапионовы братья или сторонники Пролеткульта по-разному оценивались ещё современниками. Луначарский в 1922 году называл имажинистов „дошедшими до полного абсурда выродками футуризма”.22![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Рассмотрение авангардных течений первой трети XX в. в синхронном плане и стремление найти в них „zajednička književna obilježja onih kultura koje uvjetno možemo zvati avangardističkim”,27![]()
С этой точки зрения постулат о единой стилистической формации авангардизма представляется надуманным. Поскольку указанный период не имеет канонизированного, господствующего литературного направления, которому противостоит ряд враждующих между собой авангардистских течений, правильнее охарактеризовать его как общий период авангардизма, причём этот термин соответствует понятию “Ordnungsbegriff”, а не “Wesensbegriff”.28![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 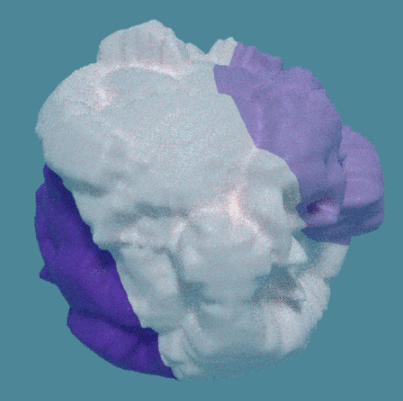 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||