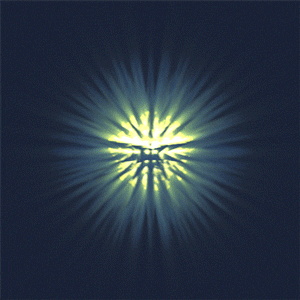В. Силлов
Шапочный разбор лесов
Литературная судьба Хлебникова не менее легендарна и фантастична, чем его человеческая биография.
Он пришёл в литературу уже сложившимся поэтом — пришёл как деканонизатор и разрушитель.
Встреченный обывательским благожелательством Чуковского и руганью и плечепожиманием критики и литературной науки, он быстро понял значение слова — ‘мы’.
Стоять на глыбе слова ‘мы’ среди моря свиста и негодования.
Бурлюк, Кручёных, Маяковский, Хлебников —
Грамоты и декларации русских футуристов, 1914.
Неумолимые в своей загорелой жестокости,
Встав на глыбу захватного права,
Подымая прапор времени,
Мы обжигатели сырых глин человечества.
Правительство земного шара. 1917.
Первыми литературными выступлениями он органически связал себя с историей русского футуризма.
Хлебников, Гуро, Д. Бурлюк, Маяковский, В. Каменский, Кручёных — неразрывная цепь имён старшего поколения футуристов.
Воинствующий новатор, непримиримейший среди непримиримых, не желая того, он заставлял признавать себя людей, для которых вся его работа была объективно сплошным оскорблением, опротестовыванием привычных вкусовых ощущений и догматов.
Он шёл по зелёной улице литературной критики, завоёвывая признания.
Характерно, что большинству признаний сопутствовало разъяснение, что данные строки Хлебникова, данная вещь или сам Хлебников в целом отношения к футуризму не имеют.
Изолированный от футуризма, Хлебников был приемлем для литературных мещан всех рангов.
Так было до революции, когда Хлебников во многом определял собою футуризм.
Октябрь деформировал футуризм, выведя его прежде всего за рамки только литературного течения и за пределы искусства вообще. Обобщённые гуманитарные построения футуризма сменились чёткой социально-оконкретизированной целеустремленностью (комфуты, «Искусство коммуны», дальневосточное «Творчество», Маф, Леф).
Оставаясь „одним из наших (Асеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, Маяковского. — В.С.) поэтических учителей и великолепнейшим и чистейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе” (В. Маяковский. Велимир Хлебников. Красная новь, 1922 г., IV), Хлебников абстрактностью своего творчества не мог характеризовать собою развивающийся футуризм.
С другой стороны, годы гражданской войны, вызвавшие самомобилизацию левой литературы на агитплакатную работу, не способствовали возможностям собрания и печатания произведений Хлебникова, хотя и за эти годы вещи Хлебникова были помещены более чем в пятидесяти повременных изданиях и более чем в десяти отдельных книгах. (См. В. Силлов. Библиография Велимира Хлебникова 1908–1925. Москва. 1926.) Немалая доля этих изданий осуществлена по инициативе, при посредстве и участии его подлинных друзей и единомышленников футуристов.
Конечно, все эти моменты способствовали усилению активности людей, стремящихся во что бы то ни стало отделить Хлебникова от футуризма. Обременённые в большей мере кликушеским энтузиазмом, чем элементарной литературной грамотностью, выступили пропагандисты Хлебникова и защитники его наследства.
...Не стая воронов слеталась...
Результаты не замедлили сказаться. Появились воспоминания и характеристики, обладавшие всеми возможностями надолго скомпрометировать Хлебникова.
• Как Сакия-Муни, отказавшись от земных почестей для достижения духа — шёл он по земле.
• Если бы он был королём ‹...› он мог бы ‹...› сняв с себя драгоценную корону, надеть её на голову ребёнка.
• Он мог бросить свою королевскую мантию жнущей рожь красавице и навсегда пройти мимо.
• Его судьёй была красота.
Воспоминания Веры Хлебниковой
Это провинциальное дамское рукоделие, мусолящее имя Хлебникова, приняло на свою канву ряд клеветнических намёков по адресу Бурлюка, Кручёных, Маяковского, намёков, выходящих за пределы литературных споров, но в литературной своей части отмежёвывающее Хлебникова от футуризма.
Наконец, в брошюре нэпманских недорослей «Собачий ящик» было опубликовано письмо Митурича к Маяковскому. В нём Маяковский обвинялся в присвоении рукописи Хлебникова или в передаче их Роману Якобсону, „который, — пишет Митурич, следуя стилистике гимназических романов, — сбежал с ними в Прагу”.
Насколько существенно это обвинение, показывает небольшая справка о судьбе рукописей, перечисленных в письме Маяковскому. Рукописи были переданы Романом Якобсоном в Московский Лингвистический кружок, где они хранились в несгораемом шкафу до 1924 г. В 1924 году они были переданы Г.О. Винокуру и мне.
О каких рукописях говорит Митурич?
1. Ряд стихотворений и две поэмы к наступлению войны. Одна поэма „К наступлению войны”, надо думать, «Война в мышеловке», была подготовлена мною к печати и опубликована с моим предисловием в пятом выпуске серии брошюр «Неизданный Хлебников». Рукопись хранится у меня. Другая поэма о войне, возможно «Война — смерть», была напечатана в «Союзе молодёжи» ещё в 1913 году. Что же касается ряда стихотворений, то несколько стихотворений были переданы мною А. Кручёных и напечатаны в той же серии и в «Новом лефе». Неразобранные стихи и рукописи Хлебникова хранятся у меня. Недавно с ними ознакомился по приезде в Москву ленинградский редактор Хлебникова, Н.Л. Степанов.
2. «Памятник Пушкина» — неизвестная мне вещь.
3. Повесть «Есир» подготовлена к печати Г.О. Винокуром и напечатана в 1924 году в «Русском современнике». Рукопись хранится у Г.О. Винокура.
4. «Семь крылатых» — отрывки рукописи у меня.
5. «Тринадцать в воздухе» — тоже.
6. «Распятие» — кажется так называется одно из многих стихотворений, рукопись которого находится у меня.
7. «Ладомир» — четырежды отпечатанная поэма (литографированное издание в Харькове в 1920 году, в 1923 году во втором номере Лефа, в 1928 году в четвертом выпуске неизданного Хлебникова и, наконец, в 1 томе собрания произведений).
8. «Разин» — напечатана в 1 томе по рукописи, находящейся в распоряжении Ю. Тынянова и Н. Степанова.
9. «Царапина по небу» — та же судьба, что и «Распятия».
10. «Перун и Изоанаги» — неполная рукопись хранится у меня.
11. «Каменная баба» — тоже.
12. Статьи по филологии — у Г.О. Винокура.
Вот и весь реестр Митурича. Беспочвенность его обвинений очевидна так же, как очевидна ставшее уже традицией намерение этим письмом вырвать Хлебникова из контекста футуризма.
В вышедшем на днях первом томе собрания («Собрание произведений Велемира Хлебникова» под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова, том первый. Поэмы. Редакция текста Н. Степанова. Издательство писателей в Ленинграде. 325 страниц. Цена 3 р. 15 коп. Перепл. 45 коп. Тираж 2 500 экземпляров. Ленинград, 1928). Н. Степанов в статье «Творчество Велемира Хлебникова» говорит:
Хлебников до сих пор был заслонён лесами футуризма.
С. 34
Разборкой лесов футуризма вокруг Хлебникова заняты оба редактора на протяжении 5 печатных листов редакционных статей. Занятие не новое, как мы знаем из краткого обзора отношений к Хлебникову, но отличающееся от прежних попыток большими иллюзиями наукоподобности. По существу, все леса уже должны быть разобраны, и Тынянов–Степанов пришли, можно сказать, к шапочному разбору этих самых лесов. Но академии не свойственно торопиться. Не важно, чья была завязка, — важно по возможности полнее и научнее канонизировать Хлебникова, изолировать его от футуризма и Лефа, а между прочим заодно и от литературного времени и литературной среды.
Н.Л. Степанов при всей внешней убедительности своих построений на протяжении двух страниц тщетно примеривает Хлебникова то к символизму:
По своему пониманию “дела поэта” Хлебников был несомненно близок поэтам эпохи символизма и в этом отношении далёк от многих теоретических принципов футуризма
С. 39
то к футуризму:
Хлебникова объединяла с футуристами общность в отношении к искусству как к словесному мастерству, “ремеслу”.
С. 40
Казалось бы, что “понимание дела поэта” и “отношение к искусству” — понятия близкие, но в первом случае Хлебников оказывается символистом, во втором футуристом. Отношение к искусству как к мастерству в противовес религиозно-философскому “теургическому” пониманию значения и роли поэта у символистов страхует Хлебникова от насильственных причислений к символистическому лику.
Поэтические эпохи и школы не имеют водораздела: здесь кончаются рубежи символизма, здесь начинается футуристическая территория. Бесплодное в методологическом отношении занятие: отыскивать у поэта черты чуждой ему в основном соседней поэтической тенденции.
Эти черты могут существовать, но не они существенны.
Вопросы литературных взаимовлияний и зависимостей мало разработаны, тем осторожнее стоит относиться к ним.
Первая книжка Пастернака «Близнец в тучах» носит на себе следы неполностью преодолённых влияний символизма. Последние стихи Брюсова окрашены лексикой и синтаксическим строем Пастернака. Можно ли на основании этого говорить о символизме Пастернака и футуризме Брюсова?
Андрей Шемшурин мог (Футуризм в стихах Брюсова. М. 1913). Но ведь и книга его осталась на полке литературных курьёзов.
Нужно говорить о специфике литературных фактов, а не о контрастирующих им деталях.
„Футуризм и Хлебников — понятие, не покрывающее друг друга” (стр. 36), — пишет Н.Л. Степанов.
Получается несерьёзный разговор.
Пусть Николай Леонидович укажет, когда направление или школа и писатель „покрывали друг друга”.
Ю. Тынянов в начале своей статьи достаточно убедительно говорит об условности школ и направлений. К этому надо прибавить значение тактических моментов, формирующих литературное направление, расшифровку самого понятия “литературной школы” спецификой, которой мы никогда не считали сумму литературных приёмов.
И наконец, совершенно неубедительно заявление Степанова: шумиха и внешний эффект слома, произведённого футуристами в 1909–1913 годах, самая обстановка литературного скандала отпугнули читателя от Хлебникова, исказили его поэтический облик в призме раннего футуризма (стр. 34).
Расценивать период становления футуризма как шумиху и внешний эффект могут Полонский и Ольшевец, но не историк литературы.
Полемическая тенденция, которой проникнуты обе статьи редакторов (и в особенности статья Н.Л. Степанова), снижает значение первой большой работы по объединению произведений Хлебникова.
Значение выпуска этого тома заключается в том, что впервые печатается Хлебников не в сырых и разрозненных заготовках, а в виде цельных, законченных вещей.
Правильно отмечает Н.Л. Степанов:
‹...› Рукописи свидетельствуют о тщательной и неоднократной шлифовке Хлебниковым своих произведений, а отнюдь не о безразличном или небрежном к ним отношении.
С. 35
У меня имеется написанный Хлебниковым план подбора к изданию его стихотворений, где очень тщательно размечены все страницы, выборки из напечатанных уже вещей (листок частично приведён в VI выпуске «Неизданного Хлебникова»).
Версия об исключительной фрагментарности творчества Хлебникова, о небрежном отношении Хлебникова к своим работам, опровергаются материалом тома.
Редакторы собрания поступили вполне правильно, издав в первую очередь именно законченные крупные вещи.
Первый том содержит 21 поэму. Из них впервые печатаются 9: «Царская невеста» (1907–1908 г.), «Поэт» (1919 г.), «Три сестры» (1920 г.), «Лесная тоска» (1920 г.), «Разин» (1920 г.), «Труба Гуль-муллы» (1921 г.), «Ночной обыск» (1921 г.), «Переворот во Владивостоке» (1921 г.), «Синие оковы» (1922 г.).
В примечаниях ошибочно указывается, что «Ночь перед Советами» печатается впервые. Бóльшая часть поэмы помещена в журнале «Новая деревня» № 15–16 за 1925 г.
Шестнадцать поэм печатаются по рукописям, что придает точный характер всему изданию.
«Уструг Разина», «Ладомир» и «Ночь перед Советами» значительно исправлены и дополнены по рукописям. «Мария Вечора», «Шаман и Венера», «Гибель Атлантиды» и «Хаджи Тархан» проверены по рукописям.
И только пять поэм («Журавль», «И и Э», «Вила и Леший», «Сельская дружба» и «Ночь в окопе») печатаются без рукописи, по ранее напечатанному тексту.
Издание, помимо статей Ю. Тынянова и Н. Степанова, снабжено краткой, но обстоятельной биографической сводкой и примечаниями.
Укажем замеченные при первоначальном просмотре издания неточности.
В 1918–19 гг. Хлебников живет не в Харькове и Ростове, как сообщают «Биографические сведения», а в Красной Поляне, иногда наезжая в Харьков.
Художница Мария Михайловна Синякова во Владивостоке не была, поэтому поэмы «Синие оковы» и «Переворот во Владивостоке» не могли быть написаны на основании её рассказов. О Владивостоке Хлебникову могли рассказывать Н. Асеев с женой Оксаной Синяковой (Асеев был во Владивостоке не в 1921 г., а в 1918–1919–1920 гг. В начале 1921 г. Асеев и О. Синякова уехали из Владивостока).
Первый том включает далеко не все известные поэмы Хлебникова. Заметно отсутствие таких вещей, как «Война в мышеловке», «Война — смерть», «Правительство земного шара», «Змеи поезда», «Внучка Малуши».
Конечно, первый том не мог претендовать на полность собрания даже поэм, как справедливо отмечает предисловие. Издание не загружено излишними комментариями, обычными спутниками “академического” издания. Для настоящего времени такая точность в издании Хлебникова была бы излишней. Но воспроизведение текста везде сделано возможно более точное.
Вызвавшее у Л.Н. Степанова сомнение в разделении строк в поэме «Вила и Леший» (воспроизведённой по ранее напечатанному тексту в сб. «РЯВ») по проверке с авторской черновой рукописи, отрывки которой имеются у меня, оказалось вполне правильным.
Приведу не напечатанные отрывки и вариации поэмы по рукописи:
Лежит, как сноп травы, простерт —
Мертвец так падает на землю.
Его могучее заплечье,
Его роскошная брада
Всё указует: человечья
Природа спящему чужда.
Усы пучком сухой травы
Закрыли клюв кривей совы.
На теле морщинок резьба:
То жизни с временем борьба.
Он телом стар, но духом пылок,
И сед и желт
Его затылок.
Давно, давно ли стал он стар?
Какая скорбь, каков удар.
Лёг посох возле его ног.
Она дика; кругом плющи
‹...›
Кругом теснилась мелюзга,
Блестя мерцанием двух крыл.
А ветер вечером закрыл
Долину, зори и луга.
Сверчки свистели и трещали
И прелесть жизни обещали.
‹...›
Куда ушёл, в его конец
Бросала дева-сорванец
Хвою, зелёной липы ветки,
Сердито горькие заметки,
Немного желчные надсмешки,
Сухие листья, сыроежки,
Бело-малиновые крышки
Семьи изящной мухомора,
Клок меха белого зайчишки
Летят как способ разговора.
До прочь сорванных шляпёнок
Семейства нежного опёнки,
А с ними вместе сосен шишки,
Залоги верные победы,
Глухонемой разгар беседы
О неуважении к летам.
Она за ним шла по пятам.
Неутомима, как Суворов,
Горя огнем воздушных взоров.
Его настойчиво преследуя,
Землёй и ветками беседуя.
Эти отрывки значительно отличаются от напечатанного в сборнике «РЯВ», но построение строк совершенно соответствует редакции Н. Степанова.
Так же были размещены строки в отрывках поэмы, напечатанной в сборнике «Мирсконца» (1912 г.) и во 2-м издании сборника «Старинная любовь».
Датировать её правильнее 1912, а не 1913 годом.
Таковы итоги первоначального просмотра первого тома «Собрания».
Полемическая заострённость редакционной подачи материала, помимо воли редакции вызовет споры и обсуждение роли поэтической работы Хлебникова в общем контексте истории футуризма.
В конце своей статьи Ю. Тынянов пишет:
Ни в какие школы, ни в какие течения не нужно зачислять этого человека. Поэзия его также неповторима, как поэзия любого поэта.
Это верно. Но история посмертной канонизации поэта, насильственное отмежевывание его от эпохи литературной среды — эта история традиционна.
Только раньше это не называлось „разборкой лесов”.
Воспроизведено по:
Новый ЛЕФ. 1928, №11. С. 37–44
————————
Владимир Александрович Силлов (1901, Санкт-Петербург – 16 февраля 1930, Москва).
Учился во Владивостоке. Там же в 1920–1922 годах входил в литературно-футуристическое объединение «Творчество», редактировал местные журналы «Восток» и «Юнь». Затем учился в Москве, после чего преподавал в Высшем литературно-художественном институте. Работал ответственным секретарём журнала «Рабочий клуб», печатался в журнале «Леф» и пролеткультовских изданиях.
Автор статей о Маяковском и Бурлюке, составитель библиографии Хлебникова (опубликованна в 1926 г.) и Маяковского (в первом томе его Собрания сочинений, вышедшем в ноябре 1928-го).
8 января 1930 года арестован, 13 февраля 1930 г. осуждён коллегией ОГПУ и приговорён к расстрелу за “шпионаж и контрреволюционную пропаганду”; через три дня приговор был приведен в исполнение.
Реабилитирован 5 августа 1988 г.
В чём состояло “преступление” В.А. Силлова, не совсем ясно. По версии троцкиста Виктора Сержа, он оказал услугу сотруднику ОГПУ, поддерживавшему оппозицию. «Бюллетень оппозиции» связывает расстрел Силлова с “делом” Блюмкина:
Летом 1929 года Троцкий встретился в Стамбуле с Я. Блюмкиным. Блюмкин в 1918 г. убил немецкого посла графа Мирбаха и принял участие в вооружённом восстании левых эсеров против советской власти. Но тогда он не был расстрелян, и долгие годы верно служил советской власти. Расстрелян же он был в 1929 г. за то, что встретился с Троцким в Стамбуле. Перед тем, как расстрелять Блюмкина, ГПУ старалось построить вокруг “дела” Блюмкина какую-то амальгаму. Но из этого ничего не вышло.
Вскоре после расстрела Блюмкина, в том же 1929 году, в Москве были расстреляны два левых оппозиционера — Силов (так! — В.М.) и Рабинович (даже так: Салов и Рабинович, см. http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=12419 — В.М.). Они были расстреляны после неудавшейся попытки связать их с делом о каком то “заговоре” или “шпионаже”.
web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/BO-52.shtml
Роман Бракман в книге «Секретная папка Иосифа Сталина. Скрытая жизнь» (Roman Brackman. The Secret File of Joseph Stalin. A Hidden Life. First publishrd in 2001) объясняет убийство Силлова соучастием в попытке вывоза досье агента царской охранки Иосифа Джугашвили за рубеж, Льву Троцкому:
‹...› В Гражданскую войну Блюмкин служил в штабе Троцкого, где вступил в партию; в 20-е годы часто выезжал в разные страны по заданию ГПУ. Троцкий, находясь в ссылке в Турции, просил выделить ему агентов ГПУ для охраны (он боялся покушения на свою жизнь со стороны белогвардейцев, вроде бы хотевших ему отомстить за поражение в Гражданской войне).
Но незадолго до его отъезда один из друзей Блюмкина, заместитель начальника секретно-политического отдела ГПУ Рабинович, разбирая личный архив Дзержинского, обнаружил среди бумаг ту самую папку Сталина. Для коммунистов его поколения даже мысль о том, что лидер коммунистической партии и вождь мог быть агентом охранки, казалась верхом кощунства. В 1929 году разоблачить Сталина было уже нелегкой задачей: ГПУ с множеством агентов и осведомителей, охрана, армия и партийный аппарат были полностью в его руках.
Рабинович понимал, что, если Сталин узнает, где его агентурная папка, он легко ею завладеет, а всех, кто о ней знает, беспощадно уничтожит. Убедившись в том, что найденные документы подлинные, Рабинович предложил Блюмкину вывезти их за границу и передать Троцкому.
Однако Блюмкин не смог сохранить свою миссию в тайне. Он поделился информацией с Карлом Радеком, в прошлом сторонником Троцкого. Но в это время Радек уже переметнулся на сторону Сталина, который разрешил ему вернуться из ссылки в Москву и допустил к “партийной кормушке”. Неясно, что конкретно Блюмкин сказал Радеку о своих планах по поводу документов агентурной папки, но точно известно, что Радек помчался в Кремль и передал Сталину всё, что узнал от Блюмкина. Сталин отложил убийство Троцкого: необходимо было заманить Блюмкина в “ловушку” и получить папку.
Чтобы не вызвать у Блюмкина подозрений, Сталин приказал Менжинскому, Ягоде и Трилиссеру арестовать Блюмкина на вокзале, когда тот будет уезжать за границу. Было организовано наблюдение за всеми, c кем Блюмкин встречался. Он должен был уехать 21 декабря, в день рождения Сталина. Получив фальшивый паспорт и чемодан с иностранной валютой, он положил папку на пачки с валютой. Заметив по дороге на вокзал слежку, Блюмкин стал лихорадочно соображать, как поступить. Ему пришла в голову идея достать чужой паспорт с фотографией похожего на него человека, и он вспомнил о художнике Фальке, незадолго до этого вернувшемся из Парижа. Дома была жена Фалька, Раиса, его знакомая с гимназических времен. Получив категорический отказ дать ему паспорт мужа, Блюмкин попросил её спрятать чемодан и вышел из квартиры.
В подъезде Блюмкина схватили агенты ГПУ и повезли на Лубянку. Несколько агентов постучали в квартиру Фальков. После краткого допроса Раиса указала на чемодан. Агент, вскрыв отмычкой чемодан и приподняв папку увидел пачки валюты: „Вот чем занимался Блюмкин!” В тот же день были арестованы Рабинович и Силов (здесь и ниже выделено мной. — В.М.), участвовавшие в провалившейся попытке вывезти папку.
Чемодан был доставлен главе ГПУ Менжинскому, который, просмотрев документы в папке, сразу понял, почему Сталин охотился за Блюмкиным. Он понял и то, что, если он отдаст папку Сталину, тот его уничтожит. И решил спрятать её подальше. Менжинский немедленно выполнил приказ Сталина: расстрелять Блюмкина, Рабиновича и Силова. Теперь необходимо было убедиться, что Раиса Фальк ничего о папке не знает. Её допрашивал сам Менжинский, не называя себя. Она не видела его лица, но хорошо запомнила подчёркнутую вежливость. Раиса сказала ему, что знала Блюмкина с гимназических лет и ничего не знает о его “контрреволюционной деятельности”. Этот вежливый собеседник не спросил её о чемодане.
Через много лет, после смерти Сталина Раиса Фальк рассказала своему сыну и нескольким близким друзьям о визите Блюмкина и о том, что он ей рассказал об агентурной папке Сталина.
www.neystadt.org/ilya/Stalin.pdf
Важные подробности биографии В.А. Силлова и менее хлёсткую версию причины его расстрела находим в книге Дм. Быкова о Борисе Пастернаке:
С Владимиром Силловым и его женой Ольгой Пастернак познакомился летом 1922 года у Асеевых, на девятом этаже дома Вхутемаса на Мясницкой. Молодожены Силловы — ей 20, ему 21 — только что по вызову Луначарского приехали из Читы (? — В.М.) в составе литературной группы «Творчество». Группу при посещении Читы открыл Асеев, восхитился эрудицией и дерзостью молодых провинциалов (Силлов, например, уже составил к тому времени обширную библиографию Хлебникова, отлично знал современную поэзию, сам писал стихи) — и устроил через наркома вызов в Москву: учиться и расширять горизонты.
Силловых пустил к себе пожить Асеев. Однажды вечером с женой зашёл Пастернак. Речь зашла об устройстве поэтического издательства. Пастернак говорил сложно, вел себя просто, молодожёнам очень понравился. Потом они встречались часто — талантливых читинцев надо было где-то устраивать, комнаты найти не могли, и Маяковский, по вечному своему гостеприимству и невниманию к быту, пустил их в Водопьяный. Пастернак там ещё бывал регулярно. Потом им приискали наконец комнату на Арбате — пустую, почти без мебели, но с огромным роялем посередине. После возвращения из Берлина Пастернак часто приходил туда с Волхонки, благо до Силловых было двадцать минут ходу; иногда импровизировал на рояле — нащупывал мелодию, обрывал, тут же наплывала другая…
Силлов стал журналистом, лектором Пролеткульта по истории и теории литературы. Его жена снялась у Эйзенштейна в «Стачке», поступила в Высший литературно-художественный институт (им руководил Брюсов, на экзаменах лично спросивший её, кого она ценит из современных поэтов, — и после робкого ответа „Пастернака” на два голоса с нею прочитавший стихи «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе»; Пастернак, узнав об этом, смущённо и польщённо хохотал). Впоследствии Ольга сосредоточилась на переводах с английского, Владимир занялся историей революционного движения, Пастернак брал у Силловых комплекты журнала «Былое» и консультировался с отцом Ольги, сочиняя «Девятьсот пятый год».
Своей жене он признавался: „С этими молодожёнами хочу дружить — мне нравится их любопытство”. Дело, конечно, было не только в любопытстве, пылкости и провинциальной чистоте Силловых, не в том, что Пастернак нуждался в молодой влюблённой аудитории (хотя и это играло свою роль), — но в том, что Владимир и Ольга олицетворяли для него то, что в лефовских теоретических положениях всё чаще становилось мёртвой схемой: это были новые люди, и ими многое было оправдано. А в таких оправданиях он нуждался.
„По чистоте своих убеждений и по своим нравственным качествам он был, пожалуй, единственным, при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он — не марксист и т.д. и т.д.”, — писал Пастернак отцу. В другом письме — Николаю Чуковскому — он вспоминал: „Из лефовских людей в их современном облике это был единственный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по её полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой (безуспешному и лишь словесному) весь Леф служил ценой попрания где совести, где — дара. Был только один человек, на мгновение придававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был В.С. Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещенье которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силловых в пролеткультовском общежитии на Воздвиженке”.
После разрыва с ЛЕФом он отошёл и от Силловых да и вообще мало с кем из старых друзей виделся в конце двадцатых. Молодость кончилась, нечего было и раны бередить. А 17 марта, на премьере «Бани», куда позвал его не Маяковский, а Мейерхольд (спектакль получился скучный, Мейерхольд сам это чувствовал и не мог сладить с пьесой), — Пастернак встретил Кирсанова, и тот ему сказал о расстреле Силлова.
— А ты не знал? — равнодушно удивился Кирсанов. — Давно-о-о…
После этого Пастернак… не то чтобы возненавидел Кирсанова, — он вообще мало склонен был кого-то целенаправленно ненавидеть, — но вычеркнул его из сердца и памяти, что делать как раз умел. „Он так это сказал… будто речь шла о женитьбе!” — негодовал он при пересказе.
Силлова расстреляли в феврале тридцатого. Выбежав из театра, Пастернак кинулся на Воздвиженку, к Ольге. У неё уже зарубцевался шрам на руке — узнав о расстреле мужа, она кулаком разбила стекло и хотела выброситься в окно, но её удержали.
Пастернак не мог понять, что происходит. Силлов был праведнейшим, чистейшим коммунистом. Пастернак мог говорить о терроре — „это иррационально, это как судьба”, — только когда речь шла о терроре вообще. Здесь же всё случилось совсем рядом, с другом, — „в моей собственной жизни”, писал он молодому Николаю Чуковскому. Отцу он объяснял происходящее так: „Он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы. ‹...› Ему было 28 лет. Говорят, он вёл дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции и слишком много думал, что и ведёт иногда к менингиту в этой форме”.
Лиза Гозиассон приходилась Пастернаку двоюродной сестрой, мужа её расстреляли в начале революции. Никакой чёрной иронии тут нет — Пастернак отдавал себе отчёт в том, что его письма, в особенности адресованные за границу, перлюстрируются. Отцу он вредить не желал, не желал также, чтобы его упрекали в отсылке за границу антисоветских писем, — но с соотечественниками мог позволить себе откровенность. Однако и письмо к Чуковскому, догадывался он, вызовет повышенный интерес; нельзя не отметить вызова, который так и слышится тут:
„Если по утрате близких людей мы обязаны притвориться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет; если мое письмо может навлечь на вас неприятности, — умоляю вас, не щадите меня и отсылайте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами)”.
В этой скорби по безжалостно и бессмысленно убитому другу был оттенок благородной демонстративности; с этой же демонстративностью — а почему, собственно, надо скрывать трагедию и делать вид, что ничего не произошло? — Пастернак упомянул О.С. (умный читатель легко узнавал Ольгу Силлову) в «Охранной грамоте»: он пишет, что вызвал её на квартиру только что покончившего с собой Маяковского, надеясь, что эта трагедия „даст выход и её собственному горю”. Так же громко, на все окрестные дворы, сообщал Пастернак в Переделкине, что идёт к Пильнякам, — после того, как Пильняка арестовали. Он упорно не желал превращать террор в обыденность, продолжал упоминать тех, кого после исчезновения начинали дружно замалчивать, словно человек и в природе не существовал, — и это был единственный доступный ему способ выразить отношение к происходящему, а может, и вызвать огонь на себя, чтобы перестать терзаться чувством вины перед мёртвыми друзьями.
История с расстрелом Силлова не то чтобы темна — в девяностые годы обстоятельства его гибели раскрылись, — но иррациональна, так же бессмысленна, как смерть Гумилёва в двадцать первом. Идёт кампания, хватают всех поголовно, убивают самого непричастного — просто потому, что он чист, что за него некому просить или плохо просят… Кампания была — борьба с троцкизмом; и как за десять лет до того “таганцевским” делом в Петрограде интеллигенции дали понять, что шутки кончились и за фронду начинают расстреливать (без доказательств, по оговору или самооговору, из-за романтической бравады, как в случае Гумилева), — так в начале тридцатого давали понять уже партийцам, что разномыслие и фракционная борьба в прошлом, что за троцкизм будут теперь не прорабатывать, а убивать. Первой жертвой слома времён стал авантюрист, большой негодяй и эсеровский романтик Блюмкин (вот же загадочная преемственность — именно его называл Гумилёв в числе своих идеальных читателей: „Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошёл пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи...”). Разумеется, подобным романтическим типажам в сталинской России места уже не было; Блюмкин фанатично верил в свою удачу и вернулся в СССР из Персии (где был личным агентом Глеба Бокия) с письмами Троцкого. Его немедленно взяли и расстреляли. То ли в силу болезненного тщеславия, то ли желая предупредить сторонников о том, что времена сломались, — он попросил сотрудников ГПУ широко объявить о его смерти, и такое обещание было ему дано, — по крайней мере, такова версия Виктора Сержа, известного троцкиста. Тем не менее расстрел Блюмкина скрыли, известие о нём появилось только на Западе в немецкой «Кёльнише цайтунг». По версии Сержа, молодой коммунист, сотрудник ГПУ Рабинович допустил “утечку”, написав некий документ о гибели Блюмкина и распространяя его среди единомышленников, — а Силлов оказал ему в этом содействие. По Москве и Ленинграду было схвачено в это время около 300 троцкистов — но многие, в том числе убеждённые сторонники Троцкого и давние его сподвижники, отделались тюремными сроками или даже ссылкой. Силлов притягивал гибель чистотой и абсолютным бескорыстием, он весь принадлежал эпохе, которую уже начинали забывать, возводя над ней здание новой империи.
Дмитрий Быков. Борис Пастернак. ЖЗЛ. Глава XXI. «Охранная грамота». Последний год поэта
http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/bykov-pasternak-zhzl/glava-xxi-ohrannaya-gramota.htm
После смерти Силлова его имя исчезло и для современников, и для потомков. В книге «Охранная грамота» (1931) Пастернак ссылается на него, используя инициалы его жены О.С, в остальном же его имя не упоминается ни в одном из многочисленных воспоминаний о группе «Творчество» и Лефе; отсутствует оно даже в мемуарах о жизни в Сибири, написанных его женой (по крайней мере в версии, увидевшей свет в 1980 г.); впервые инициалы О.С. были дешифрованы — и тем самым судьба Владимира Силлова освещена — в статье французского слависта Мишеля Окутюрье (Michel Aucouturier) «Об одном ключе к Охранной грамоте», опубликованной В 1975 году.