

“Мудреное” слово Хлебникова включает языческий пантеизм, традицию мифа и мифотворчество, своеобразное славянофильство, научную утопию, непосредственно в стиле — архаические элементы XVIII века и нечто детское, инфантильное в передаче мысли, странную по новизне и неожиданности поэтическую этимологию и многое другое. Об этих сложных явлениях мировоззрения и стиля Хлебникова написаны многие статьи и книги.
Для Хлебникова, по определению М. Гофмана, поэта-рационалиста, строгий, устойчивый комплекс рационалистических представлений о сущности бытия, о будущем человечества, о способах познания человеком самого себя и природы — был естественен. В то же время Хлебникова почти сразу же назвали “визионером”. У такого поэта, как Хлебников, для каждого поэтического факта система — лишь основание, на котором вырастают стихи, родственные стихии. В письме А. Крученых от 31 августа 1913 г. он пишет: Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родство стиха и стихии. Неповторимо острое столкновение интуитивного, “стихии” и рационалистической системы создало необычную поэзию Хлебникова. Разумеется, для поэзии XX века самое значительное у Хлебникова — не столько его теоретические умозаключения, сколько “стихия” его поэзии, вернее, поэтический результат, в котором поэты находят много возможностей для новых решений.
Уверенность в священности, таинстве своих знании о мире, открывшихся поэту через язык, слово — напоминает о нем наивность первобытного язычника, поверившего в возможность власти над природой через таинство условленной и колдовской, магической речи. Знание язычника фантастично и таинственно, в нем почти нет места индивидуальному, личной эмоции, в нем предельная объективность, язычник обожествляет природу и уподобляет себя ей. Все это довольно легко обнаружить в поэзии Хлебникова. Но “языческая” поэзия Хлебникова тем необычна, что в ней родилось индивидуальное хлебниковское язычество, со своими законами, своими божествами, своими магическими условностями.
Одна из самых таинственных языческих поэм Хлебникова «Гибель Атлантиды» рассказывает о жреце, который, как и автор поэмы, уверен, что он постиг законы чисел, законы времени. Но жрец стал пленником открытых им законов:
Род человеческий стал рабом звездным, рабыня, воплощенная радость бытия, радостная, как сама природа, кощунственно смеется над ним и его богами, и жрец убивает рабыню; за все это следует жестокое и заранее предсказанное, законное возмездие. Герой «Гибели Атлантиды» и ее автор трагически воспринимают дисгармонию в отношениях человека и природы, рабскую зависимость от природы. Жрец Хлебникова мучается противоречием между знанием, которое делает его богом, и природой, ее естеством, от которого он отвержен. Он мстит за отверженность и получает возмездие. Язычник Хлебникова дисгармоничен. В двух “легких” поэмах «Вила и леший», «Шаман и Венера» жизнь мифических существ, богинь и колдунов только уподоблена человеческой, но избавлена от каких-либо серьезных противоречий. Языческие существа в легких, комических поэмах Хлебникова — персонифицированная природа, отвлеченная от страданий и смерти, условно отъединенная от человека.
Смысл своего “язычества” Хлебников разъясняет, насколько это возможно, в поэме, названной «Поэт». Празднуется языческий праздник. Среди плясок, стремительного движения, всеобщего смеха поэта поразило лицо нищенки, богоматери в одежде нищенки. Очень краткое, мгновенное видение, живая богоматерь с нездешним ликом:
Толпа лишь на мгновение затихает и беснуется снова. И только поэт, чуждый этому всеобщему безумству, мучает свой давно уже измученный ум мыслями, далекими от праздности и веселья. Он — из другого, нездешнего мира:
И у него — власть над русалкой, девой воды, которую он подчинил разуму, которой он предсказал смерть в будущем, когда природа подчинится науке. Но русалка не может согласиться с его пророчеством:
Она не согласна быть смертной, не согласна не быть бессмертной девой воды. И тогда всесильный поэт спасает ее от “научной” смерти, устанавливая родство русалки с богоматерью:
Добровольное изгнанничество, суровый, подвижнический путь объединяют в некий тройной союз русалку, поэта и богоматерь. “Язычник” Хлебникова, таким образом, не только отверженный от природы и людей, но и подвижник, суровый аскет, в его облике многое противоречит сложившемуся представлению о язычестве. Так стихи, посвященные Перуну, у Хлебникова не гимн языческому богу и не сожаление об утраченном людьми, об изгнанном, униженном громовержце. Перун — будущий бог, приближенный к людям, объединяющий их на каком-то новом пути.
Язычество Хлебникова обращено в будущее, преобразовано сознанием утопического мечтателя, бог язычников у него похож на живого оскорбленного человека, он близок самому поэту, самоотверженному изгнаннику, пророку, провидцу, обреченному на скитальчество.
Лирический герой Хлебникова очень остро чувствует, как непреодолима граница между человеком и морем, деревьями, звездами, как далек от них человек, как непохож он на них. Сопоставление голоса человеческого и природы ведет к парадоксальности выводов, к броской контрастности поэтического языка. Море может маяться, как человек, может кричать о своем горе, но в этом клике оно не родственно человеку, потому что и в клике дивно ясно море ‹...› (Неизданное, 93).
Не потому ли, чувствуя оторванность человеческого сознания, противопоставленного всему бессознательному, человек у Хлебникова, в надежде на чудо, на силу слова, часто заклинает природу стихами — заклинаниями, заговорами. У Хлебникова много таких стихов. В них магия слова, не подвластная привычной логике. Заклинание может быть похоже и на игру слов, но в нем всегда есть торжественность тайны:
До многозначительности пророческого предсказания вырастают такие наивно-страшные заклинания, когда речь идет о времени, о смерти:
В стиле заговора-заклинания создано одно из лучших стихотворений Хлебникова «Усадьба ночью, чингисхань!». Это стихи, которые для языческой стихии Хлебникова могут считаться программными. Пропасть между природой и человеком преодолевается через слово, магической властью слова. Слово рождено человеком, его сознанием, разумом, но его создает и немая природа, по повелению человека. Поэт, как владыка слова, чародей, шаман, заклинает небо, сад, зарю, березы, облака, чтобы родились мысль, искусство, мудрость:
Не однажды возникает в стихах Хлебникова высокая мысль о единстве, некоем высшем, не вполне еще нам понятном родстве искусства, творчества, личности художника, мыслителя — с природной стихией, с ее внутренней жизнью:
В стихи о деревьях, о жизни деревьев-воинов вдруг врывается неожиданная и странная строка, в которой имя Ницше: И каждое утро шумит в лесу Ницше ‹...› (Неизданное, 278).
В некоторых стихах поэта возможность словотворчества, “книжности”, мысли в природе — лишь одно из множества его сложных, утонченных, изысканных метафорических сближений между человеком и природой, но многозначительно уже само движение поэтической мысли именно в этом направлении:
Власть самого поэта над природой через слово в стихах Хлебникова не провозглашается прямо, как безусловная истина или как единственно возможное решение противоречий. Лирический герой Хлебникова многолик, разнообразен, многочисленны и многозначны его поэтические задачи.
Но при этом, как бы ни менялся облик поэта, почти всегда, “за текстом”, остается сознание, что лирический герой Хлебникова несет в себе необычную власть над миром, над природой — как бремя, обозначенное роком. Иногда сознание этого как бы всплывает на поверхность, и мысль оформляется в стихах, наивных, но очень серьезных:
Он на одном уровне с вечностью, его величавый аскетизм дает ему на это право:
И природа, ее таинственная жизнь, доступна ему, охотнику скрытных далей, подвластна, понятна, если облечь ее в мыслимый мной фантастический образ, нареченный моим, поэтическим словом. Тогда жизнь природы, сложная и прекрасная, от которой я, бывун не в этом мире, далеко — открывается мне:
Вдохновение творчества дает поэту величайшую свободу:
Но поэт только провозглашает свою власть над природой и человечеством — через число и слово, эта власть для него самого — лишь мгновение, как редкое вдохновенное прозрение в строке. Она всегда лишь безграничная возможность, которая приподымает поэта над бытом и временем, но не всегда спасает его от растерянности, разочарования, одиночества. И в том, что природа, как и человек, способна творить разумное и прекрасное, не вполне и не всегда уверен герой Хлебникова. Он ищет в природе признаки, возможности этого, но не всегда их находит. Так, в романтической балладе «Смерть в озере» трагическим итогом звучит строка Моцарта пропели лягвы. Здесь и трезвый скептицизм, и зловещая ирония мудреца. Смерть примчалась к погибающим завоевателям на тройке холодных коней, и все, что видят и слышат они, умирая, лишь фантастический бред, предсмертный сон:
Сама прекрасная природа только внешне божественно высока и гармонична, в ней лишь внешнее сходство с гармонией, красотой, создаваемой художником:
Может быть, в природе, есть, как и у человека, патриархально спокойная привычка жить по инерции:
Но последнее, зловещее, как знак смерти, сравнение уничтожает даже намек на идиллическое благополучие того, что происходит в природе, независимо от человека:
Жизнь природы — бесконечная война, деревья в лесу — воины:
Самое непостижимое в природе — смерть и рождение новой жизни, бесконечная работа природы при помощи смерти, посредством смерти. Перед этой загадкой всего земного постоянно останавливается настойчивый разум поэта. Эта главная загадка мироздания заставляет его признать, что в гибком зеркале природы все происходящее слепо и стихийно, что и человек и его сознание подчинены законам природных стихии.
Такой безутешный итог — не единственное решение, лишь одно из возможных. Поэтическое сознание мудреца и мыслителя разлагает проблему, рассматривает ее по “частям”, пытается найти если не оправдание, то хотя бы разумное истолкование смерти и метаморфоз в природе, происходящих через смерть, гибель, небытие. В одной из статей Хлебникова, которые у него больше похожи на стихи, он стремится осмыслить превращения в природе как рождение новой жизни, новой красоты: колебания сложных волн переходят в другие, новые, и цвет василька переходит в звук кукушки или плач ребенка (Неизданное, 318).
Но как бы ни было притягательно и прекрасно такое примиряющее созерцание природы, рано пли поздно сознание поэта сталкивается с самой смертью, се вечной властью, которой бессмысленно подчиняется все живое или мимо которой все равнодушно движется и живет, не сознавая ее роковой власти.
В смерти нет равенства между человеком и деревьями, хотя есть нечто похожее на “равенство”. В «Шествии осеней Пятигорска», рассматривая осень, время, когда умирают растения, поэт видит их страдания похожими на человеческие, видит, что погибающие растения тянутся к людям, гибель, предсмертное страдание сближает их с людьми:
Люди включаются в жестокую систему взаимных превращений:
Есть лишь внешне примиряющая особенность смерти растений — она золотая, сады одевают сны золотые, она прекрасной кажется, но тем страшнее она: черепа растений — золотые, трупики веток — золотые... И, наконец, мысль и образ становятся все острее, прозрачнее, изысканнее:
Поиски исключительного места в механизме природных метаморфоз нигде не приводят Хлебникова к счастливому благополучию. В черновиках 1907–1916 гг. встречаем строки, где решение дается с покорностью и бесстрашием мудреца, осознавшего вселенскую жестокость законов природы:
Может быть, это лишь видимая “покорность”, видимое согласие. Среди черновиков издатели сочинений Хлебникова поместили поэму «Письмо в Смоленске», очень важную для понимания его поэзии. Стихи этой “поэмы” (термин здесь очень условный) напоминали бы во многом научный трактат, если бы не тонкая поэтическая образность и речитативный, стиховой характер размышлений. Из всех стихов, размышлении Хлебникова о смерти, о метаморфозах природы, «Письмо в Смоленске» — самое прямое и категоричное изложение мыслей поэта о природе. Здесь она похожа на зловещий ад, с бесконечными убийствами, и в самой “изысканности” грубых метафор здесь много открытой иронии:
Логика поэтических размышлений приводит к мысли, что все на земле не что иное, как труп солнца:
Торжественная, упрямая, строгая последовательность умозаключений, мысль внушается настойчиво до назойливости, по в конце словно бы не хватает сил подчиняться ей: начинается спор уже со своими выводами, с самим собой:
Многие интуитивные решения, наивные пророчества и вопросы, остро поставленные в стихах Хлебникова о человеке и природе, о месте художника в царстве природы, возникли и живут в контексте философской поэзии прошлого и настоящего. При большой, принципиальной самостоятельности в художественных решениях, Н. Заболоцкий принимает сложнейшие темы философской поэзии как единственно необходимые, как некую искупительную жизненную ношу. У него было много поэтических учителей, и Хлебников — один из них: некоторые поэтические “итоги” в стихах Хлебникова для Заболоцкого — истина непреложная, истина, не требующая проверки разумом и творческим опытом.
Прозрачные, классически простые стихи поэта, лишенного каких-либо иллюзий, скептика и мудреца, говорят о сложности, о мучительной неразрешимости „огромного мира противоречий“ в „печальной природе“, „где от добра неотделимо зло“ (61). На Хлебникова он как бы сам ссылается, имя Хлебникова дважды названо в стихах Заболоцкого. В поэме «Торжество земледелия» фантастический диалог, спор животных о своем будущем завершается наивно-торжественной, как все в этой поэме, эпитафией Хлебникову. Поэт заставляет своих героев узнать, что такое Хлебников и его «Доски судьбы», „умные свидетели его жизни“, знак его бессмертия. Это торжественная эпитафия человеку и поэту, который своими странными, утопическими “домыслами” „прекрасный образ человека в душе природы заронил“ (265). Отделенная от человека вечная природа в минуту размышлений о смерти, в неповторимый миг вдохновения, открывается поэту, он слышит ее таинственный голос, видит невидимое раньше, ее слияние с человеческим разумом открылось как родство, единство природы с гениальной поэзией, с глубокой мыслью:
Но как бы ни оптимистична была счастливая мысль:
Заболоцкий всю жизнь беспокойно и горестно, и в стихах, и в поэмах, задает себе и читателю трудные вопросы, на которые ответ оказывается почти невозможным. Его постоянно, все годы, преследует мысль о “новой” жизни человека и всего живого, о превращениях после смерти. У Заболоцкого несогласие с жестокой логикой смерти как бы выкрикнуто в лицо самой смерти с безграничным сарказмом и великолепной, демонстративной фамильярностью, со зловещим и вызывающим натурализмом. И все это в стихах, названных по-библейски мудро — «Искушение». Метаморфоза “девы” в гробу по жестоким правилам прекрасной природы выглядит так:
Заболоцкий не только принимает величавую и открыто наивную по форме мысль Хлебникова о том, что у рыбы есть тоже Байрон и Гете, он стремится оправдать умом превращения в природе, он воспринимает эту мудрость сердцем, как личное страдание, как свою ответственность за неразумность мира. Он ищет возможность примирения:
Примирение не идиллическое, не спокойно-созерцательное, примирение условное, но высоко поэтическое, потому что остается прекрасная и трагическая надежда сохранить себя в вечности через творчество, поэзию, живую мысль:
И более значительно и торжественно в «Завещании»:
Примирение бесстрашное, в котором все же нет до конца согласия с инерцией земного существования, ибо „нет в мире ничего прекрасней бытия“:
Природа, которую Хлебников с царственным величием рассматривает глазами всевластного пророка, перед Заболоцким встает главной, трагической загадкой. И он видит ее и думает о ней, как и Хлебников, с безжалостной прямотой:
У Заболоцкого человек не только страдает от того, что его разум не может принять эту жестокую правду. Он испытывает сострадание к деревьям, реке, животным, он ищет выход из страданий природы, он лично ответственен за дикий беспорядок ее, за первобытный мрак бессознательного бытия животных и растений. В поэзии Заболоцкого природа становится на всю жизнь частью души человека, и в своих личных, как будто только человеческих страданиях он всегда остается сопричастным к страданиям природы, к ее битвам и несчастьям.
В стихах Хлебникова мудрец, созерцатель, с наивным любопытством анализирует происходящее в природе, он проницателен и лишен иллюзий, но он не осознает результат своих наблюдений как личное непоправимое несчастье. Сознание собственного избранничества, мессианства как бы предостерегает его от отчаяния или уводит хотя бы на время от трагического осмысления противоречий. Заболоцкий открывает свободу своей мысли к личному чувству, он ведет их до последнего предела, на край пропасти, доводит до кощунственного ропота, протеста против всего мироустройства, до отчаянного крика:
Как бы случайно, как мгновенное прозрение возникла у Хлебникова в стихах, заклинающих, заговаривающих природу, поэтическая мысль о способности, о возможности природы творить красоту, мудрость, мыслить и созидать. (Он призывает природу к творчеству, заклинает ее искусством). Философской поэзии Заболоцкого такое художественное решение оказалось близким, но решение у него новое, хотя и родственное хлебниковскому прорицанию.
В поисках выхода из неразрешимых проблем человеческого бытия, выхода природы и с нею человека из рабства железных бесстрастных законов „природы-тюрьмы“, Заболоцкий в 20 гг. как бы проверяет иронией свою любимую идею, надежду на духовную эволюцию животных и растений. Он испытывает „бессмертную иллюзию духа“, жестоко истязая ее сарказмом, беспощадной, дьявольской, тяжелой иронией в поэме «Торжество земледелия»:
В 40 гг. ирония смягчается до снисходительной улыбки, мысль становится увереннее и торжественнее:
Но по-прежнему это “иллюзия”, с которой невозможно расстаться, и вечным вопросом стоит она перед сознанием:
Даже в самых скептических стихах о жестокости природы («Лодейников», «Торжество земледелия») поэт все же находит надежду в самом человеке, который творчеством ума и рук, может быть, внесет стройность в „тяжелый мрак миро-творенья“. Но надежда открылась Заболоцкому и в другом — в сознании того, что „в каждом дереве сидит могучий Бах и в каждом камне Ганнибал таится“ (Строки в стихах 1932 г. «Осень», которые повторены в «Лодейникове» 1932–1947 гг.). Если бы природу-тюрьму удалось освободить от самой себя, то разъединение ее с человеком могло бы быть преодолено, преодолено через творчество, новое, незнакомое человеку и высокое. Эта мысль создала странные утопические стихи «Лицо коня»:
И затем торжественно, как в гимне, словно утопическая мечта уже осуществилась:
В форме слегка назидательной Заболоцкий строго логично говорит однажды о задачах своей поэзии: не музыка, не мысль, не просто мысль, но соединение “безумия” с умом («Предостережение», 249). Если природа нема и “безумна”, или если ее разум и речи скрыты от нас, то поэт должен стать ее своеобразным переводчиком, каких бы это ни стоило усилий, жертв:
Это поэзия аскетического духа, то бунтующего, то отчаявшегося. Предполагаемые творческие возможности, скрытые в природе и не разгаданные нами, становятся у Заболоцкого не только любимой темой, мыслью, но и естественным и удивительно новым, необычным метафорическим материалом:
Естественны, обычны в стихах Заболоцкого — музыка, музыкальные “концерты” дождя, цветов, насекомых. Но самое прекрасное в поэзии Заболоцкого, что у него эта музыка, язык природы не только и не просто метафора, поэтическая условность. Он убеждает себя и других, что искусство природы не может быть только условностью поэтической речи, потому что в природе живая душа, и у нее свой, величественный язык:
Существуют мгновения, когда природа оказывается лицом к лицу с человеком и становится на один уровень с его духовной жизнью, с его творческими возможностями. Тогда преодолевается их трагическое разъединение, величественный, тайный язык мирозданья превращается в человеческое слово. В эти мгновения уже нет различия между молнией и человеческой мыслью, между звучанием грома и словом, предгрозовым сумраком и предчувствием вдохновения. Произошло счастливое, непостижимое логикой разума долгожданное соединение „безумия с умом“:
Только творчество, вдохновение гениального художника способно разделить в этом мире неделимое, отделить добро от зла. Это мог сделать, быть может, только Бетховен:
В год смерти Заболоцкий написал стихи, в которых снова и в последний раз, с несказанной горечью сознает, что душа человека замкнута, слепа, что мир природы чужд и равнодушен к ней, что творческие усилия человеческой души остаются без отклика (176–177). Речь в этих стихах идет, разумеется, не только об отклике березового леса на поэтическое чудо художника. Речь идет о том, как человеку соизмерить два мира:
Стихи Заболоцкого, неповторимо своеобразные и мудрые, ставят знак равенства между этими двумя мирами, несмотря на то, что их автор был убежден, что для него между этими мирами „несоответствия огромны“.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 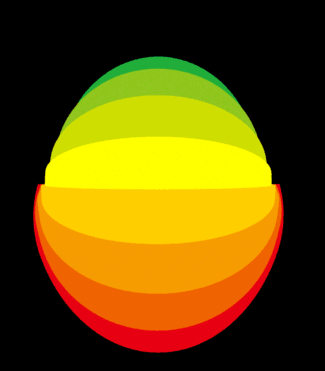 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||