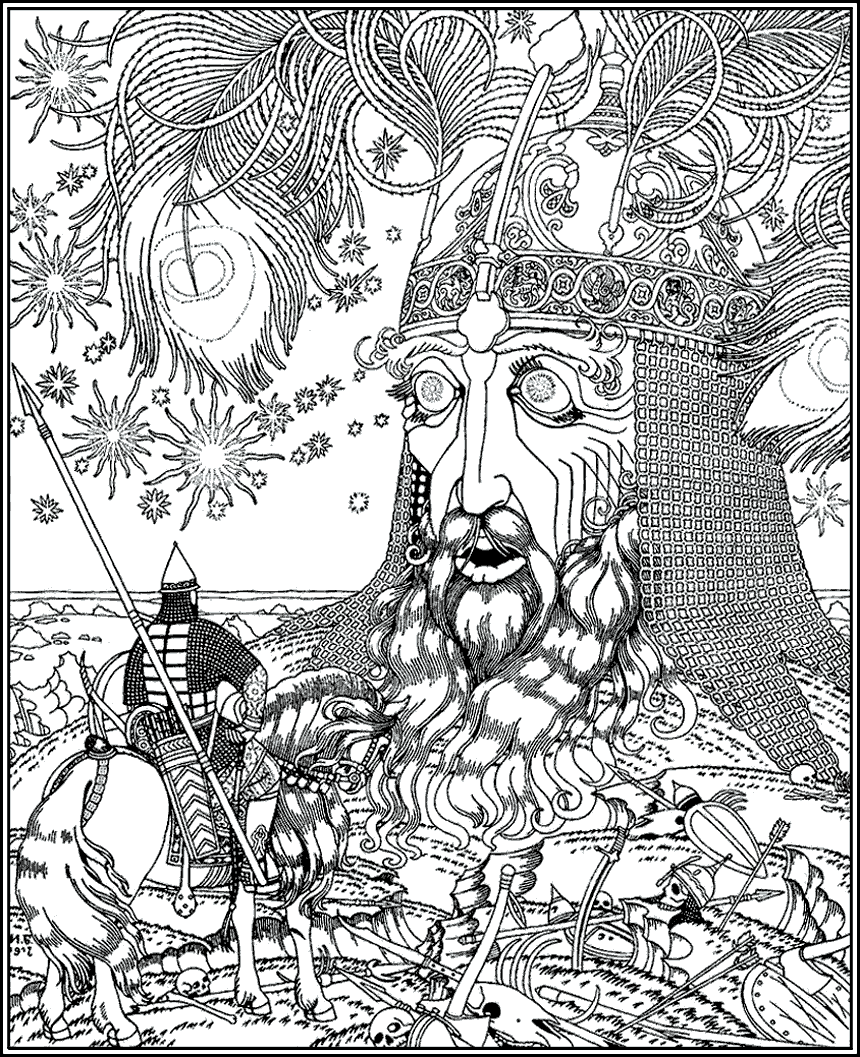
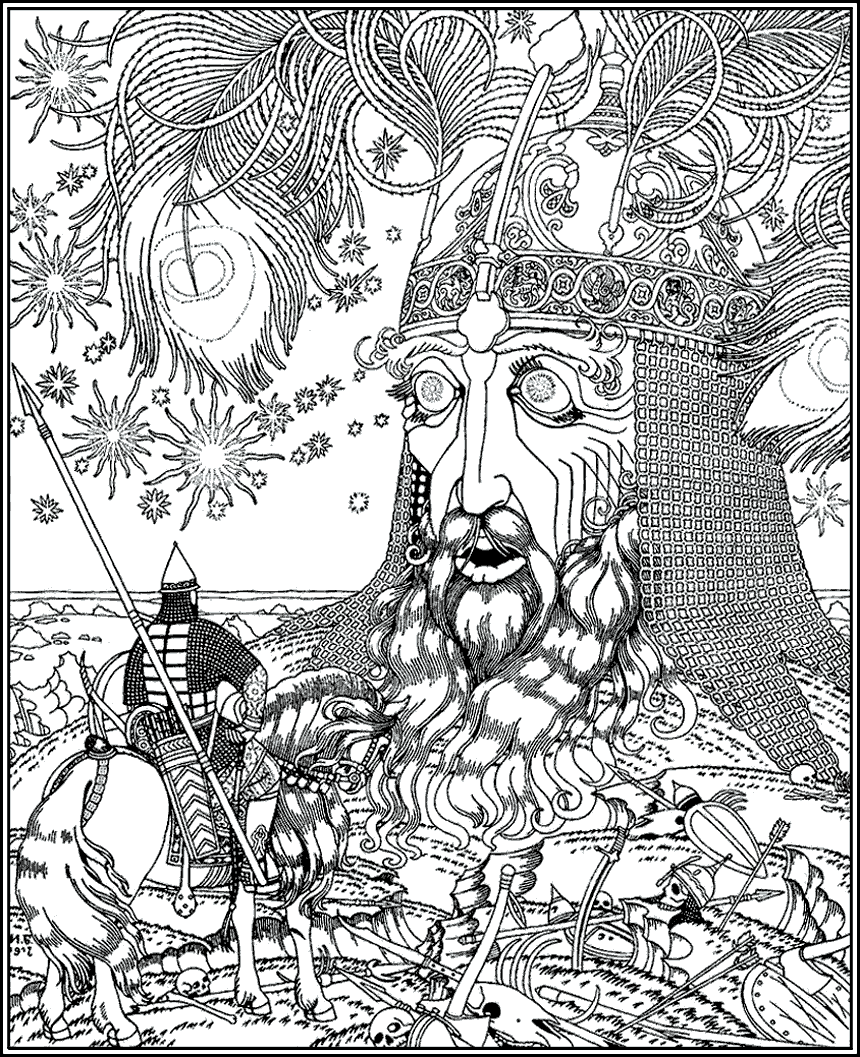





Уже с первых лет творческой деятельности Хлебников сознаёт себя не только поэтом, но и провозвестником нового учения о законах времени. Это сказалось и на его поэзии, не замыкавшейся в традиционных жанрах, но включающей в самую свою структуру элементы научного познания: математику, физику, астрономию. Хлебников в своих поисках закономерностей охватывает судьбы народов, материков, пути развития человечества. В изданной им в 1912 году брошюре «Учитель и ученик» (с подзаголовком «О словах, городах и народах») он писал:
В годы между двух революций это осознание исторической перспективы, чувство кризиса, переживаемого современным обществом — выступало особенно остро. Этим объясняется и предвиденье Хлебниковым еще в 1912 году грядущих перемен, падения в 1917 году государства: Не следует ли ждать в 1917 году падения государства? — спрашивал он в своей брошюре (5, 179).
Он не ограничивал себя одной литературой и отнюдь не смотрел на неё только как на профессиональное занятие. Хлебников интересовался прежде всего судьбами человечества, закономерностями истории. Поэтому для него поэзия и наука были неразрывно слиты.
Хлебников — утопист; его стремление к поискам абсолютной истины, единого начала в мироздании — утопично, потому что основано на субъективном её (истины) понимании, а не изучении всего исторического развития человечества. Ф. Энгельс, критикуя утопический социализм в своей работе «Развитие социализма от утопии к науке», говоря об „образе мыслей утопистов”, с иронией писал:
В известной мере это приложимо и к Хлебникову. Он мечтал об объединении революции, стихийного мятежного начала — с наукой, с познанием закономерностей исторического развития человечества и даже космоса. Ему грезилось платоновское государство учёных-философов, Председателей Земного Шара, и в то же время оно в его представлении сочеталось с революционной энергией масс, с пламенем народного “пугачевского” восстания:
Поискам числовых закономерностей он придавал даже большее значение, чем своей поэзии. Ему представлялось, что открытие законов времени преобразит жизнь всего человечества.
Он предлагал ввести исчисление труда в единицах ударов сердца и закончить великую войну первым полётом на Луну. Будущее заботило его постоянно так, как других заботят повседневные бытовые нужды.
Сочетание фантастики, мифологии, утопии с принципами науки и точных знаний отличают мировоззрение и художественный метод Хлебникова. Возражая против утверждения, что „искусство должно равняться по науке и технике”, он подчёркивал значение фантазии не только для искусства, но и для развития самой науки: ‹...› разве не был за тысячелетия до воздухоплавания сказочный ковёр-самолёт? Греки Дедала за два тысячелетия? Капитан Немо плавал под водой в романе Жюль Верна ‹...› (5, 275).
Там, где, как в «Ладомире», утопические взгляды Хлебникова воплощены были в поэтические картины и образы, эти произведения впечатляют своей свежестью, непосредственностью восприятия, своеобразием художественных образов. Но нередко («Царапина по небу», отдельные плоскости «Зангези») его вычисления и перечни исторических повторов и аналогий приобретают дидактически-самодовлеющий характер, теряют свою поэтическую, художественную выразительность.
Жажда цельности мира, трагическое восприятие его раздробленности и хаотичности приводили Хлебникова не к покорности перед роком, не к “отчуждению” личности, а к созданию утопического представления, мифа о гармоническом единстве, о Гамме Будетлянина, “ладе мира”, достигаемом через открытие законов времени. Гамма будетлян, — писал он, — особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца (5, 237). Власть числа, повторы во времени кажутся ему ключом к пониманию закономерности вселенной. Свою брошюру он назвал «Время мера мира» (1916), подчеркнув этим заглавием значение организующего начала “меры” и “числа”. Идеи Хлебникова о повторяемости явлений истории и числовых закономерностях восходят к философским воззрениям пифагорейцев. Он и сам в одном из своих стихотворений (1915) ссылается на Пифагора и его учение:
В неизданной статье «Одиночество» Хлебников писал о теориях Пифагора:
Пифагор считал, что „между всеми силами природы в их взаимодействии существуют числовые соотношения, на которых зиждется подвижное равновесие вселенной, ритмически правильная смена ее различных состояний”.2![]()
![]()
Одна из основных мыслей Хлебникова — идея неизменного круговорота материи. Он называл людей мыслящими печами. Материя после физического распада приобретает новые формы, продолжая своё вечное существование. Провозгласив равенство людей и вещей, подчинённое незыблемым числовым формулам, Хлебников пытался создать своего рода новую космогонию, которая при всей своей утопичности была основана на материалистическом понимании физических закономерностей, во многом связанных с его пониманием слова. В понимании слова, как и в поэтической практике, Хлебникову присуща двойственность. Следует различать у Хлебникова два подхода к языку: заумный язык и язык понятий — «Азбука Будетлянина». В первом случае он обращался непосредственно к эмоциональной выразительности звука, пытаясь увидеть в звуковой стороне слова субъективно постигаемый смысл. Другой путь, противоположный первому, — это путь языка понятий, наделение звуков (и даже букв) определённым кругом значений. Уже в 1912–1913 годы Хлебников писал, что ‹...› кроме языка слов, есть немой язык понятий из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым) (5, 188). Именно из этого понимания “языка мысли” исходит он в своих попытках создания всеобщего или звёздного языка.
Так обращение к языку разума (стоящего над единичными эмпирическими значениями) приводило к сложной идеологической символике. Каждому начальному звуку, “управляющему”, по мнению Хлебникова, словом, приписывается круг определенных значений. Так, например, звук Ч: ‹...› если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т.д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат одно тело в оболочке другого; Ч — значит оболочка (5, 235).
Удивительно, что это породило ряд замечательных поэтичных, образных стихов, вроде «Слово о Эль», в которых подлинный талант поэта, его влюбленность в слово победили абстрактную метафизическую рассудочность:
Здесь (как и дальше во всём стихотворении) отвлечённое понятие получает конкретную, образную изобразительность. Перед нами проходит ряд образов-картин, общность которых подчёркнута как понятийной идеей распространение волн на широкую поверхность, так и фонетическим нагнетанием звука л (эль), скрепляющим все эти внешне далёкие образы звуковой близостью. Тем самым обретается новый смысл слов независимо от их обычного значения и морфологической формы, потому что за значением слов естественного, бытового языка стоят логические категории, тот звёздный язык, значение которого скрыто за бытовым, коммуникативным словоупотреблением.
Хлебников сравнивает обычную речь с игрою ребёнка в куклы: ‹...› в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, — участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек (5, 234). Вот такой игре в куклы Хлебников противопоставлял азбуку ума, общих понятий.
Что же осталось от всех языковых экспериментов Хлебникова? Прежде всего, он показал пример пристального внимания к слову, проникновения в его внутреннюю форму, чувства его звуковой выразительности. Он открыл разнообразие и ещё неизведанные возможности слова в стихе. В то же время многое из того, что делал Хлебников, не получило своего продолжения. Да и в творчестве самого Хлебникова оказалось неудачей. Так получилось с его заумью, за пределами поэзии оказался и его звёздный язык логических иероглифов.
В одном из своих докладов Хлебников провозгласил многозначительный тезис: Мир как стихотворение (5, 259). Мир должен быть понят поэтом как некое единство, как гармоническое целое, и поэтому стих — не только проявление эстетического начала, но и элемент этого мира.
Хлебников мечтал соединить науку и поэзию. Методы точных наук — математики, физики, астрономии — казались ему идеальной моделью для произведений искусства, прежде всего поэтического творчества, и числовые “закономерности”, которые он находил в точных науках, следует распространить на слово и звук. Но в утверждении мир как стихотворение кроется и другой, более широкий смысл. Самый мир основан на тех же структурных принципах, что и стихотворение.
У Хлебникова свой особый поэтический мир, в котором, как и в мире народного творчества, смешаны боги и люди, одушевлённая природа и реальные явления. Это смешение, неразрывное переплетение наивного и серьёзного, эпоса и лирики, высокой патетики и бытовой конкретности определяет его неповторимое своеобразие.
В начале 1921 года Хлебников пишет своего рода мистерию — чудесавль «Влом вселенной», в которой развивает свою мысль о возможности на основе знания законов времени управлять судьбами человечества, постичь законы космоса. Мир, вселенная, по представлению поэта, движется согласно закономерностям отдельных волн, в зависимости от чего находятся и судьбы народов, всего человечества и отдельных людей.
Хлебников передаёт диалог участников мистерии (Ученик, Учитель, Старший, Молодой вождь). В монологе Сына он выражает свои заветные чаяния:
Вера в науку, вера в неограниченные возможности человеческого разума сближали Хлебникова с такими творцами новых, не признанных прежде официальной наукой теорий, как Лобачевский (которого Хлебников особенно почитал), Циолковский, самоотверженно служивших своей идее. Хлебников был убеждён, что найденные им числовые “закономерности” (выражаемые степенями двоек и троек) и есть новые пути человечества. Если существуют чистые законы времени, — писал Хлебников в «Досках судьбы», — то они должны управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это душа Гоголя, «Евгений Онегин» Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги земной коры и страшная смена царства змей царством людей, смена Девонского времени временем, ознаменованным вмешательством человека в жизнь и строение земного шара.4![]()
Поэзия Хлебникова никогда не замыкалась внутри сложившейся поэтической системы, внутри эстетически ограниченного ряда. Она всё время соотносится то с лингвистикой. то с историей, то с математикой, то с космографией. Поэтому научные выкладки и теории, при всей видимости научного метода, превращались в своеобразное мифотворчество, дававшее простор поэтической фантазии. Поэтический вымысел здесь срастался с математическими выкладками, статистическими данными, астрономическими формулами, в то же время превращаясь в поэтическую утопию, научную фантастику, сохранявшую, однако, для самого автора несомненность научной достоверности.
Но многое из того, что выглядело фантастикой в голодной, истерзанной войной и разрухой России, сейчас стало реальностью. Напомним статью Хлебникова «Радио будущего». Помимо тех достижений, которые теперь уже осуществлены, Хлебников мечтал о том времени, когда по радио будут передаваться выставки художников (что и осуществлено сейчас телевидением), когда возникнут новые источники питания (озера щей — планктон).
А сколь прозорливыми оказались раздумья Хлебникова об архитектуре будущего в его статье «Мы и дома». Там он говорит о домах, построенных из стеклянных ячеек, о домах-башнях, обвитых кольцами из стеклянных комнат, о домах-мостах, дуги и опорные сваи которых должны быть заполнены помещениями из стеклянно-железных сот:
В стихотворении «Город будущего» (1920) конкретный и вместе с тем поэтический индустриальный пейзаж сочетается с образами языческой мифологии:
Хлебников мыслит мировыми масштабами, создаёт образы мифологической значимости явлений и событий. Именно это и придавало его произведениям сходство с космогоническими эпосами. Он стремился передать целостную картину мироздания. Образы несут в себе мифологическую обобщенность и реально-историческую конкретность:
Для Хлебникова характерно переключение понятий и масштабов, неожиданность ассоциаций. Буквально всё в мире входит в его поэзию, входит не на правах своей “поэтичности”, а как запись голосов многоликого, разнообразного мира. Именно это сближение различных явлений и вещей между собой, изменение их масштабов и составляло основу его поэтического метода. Его образы и стихотворения не символичны, они конкретны, но в них смещены привычные пропорции, нарушена общепринятая иерархия предметов.
Философские взгляды Хлебникова больше всего имеют сходство как с пифагорейством, так и с лейбницевской монадологией. Лейбниц стремился к универсальному объяснению всех явлений, придавая большое значение математическим закономерностям. По его представлению, все тела находятся в беспрестанном течении, подобно рекам. Хлебниковская Гамма Будетлянина, опираясь на пифагорейское учение о числах, вместе с тем отдалённо напоминает теорию „предустановленной гармонии” Лейбница. Знакомство с Лейбницем подтверждается не только близостью отдельных принципиальных высказываний и общностью рационалистического построения, но и прямыми ссылками на Лейбница.5![]()
Он усиленно занимался чтением книг по механике, физике, астрономии, называя в своих статьях имена Бальмера, Френеля, Фраунгофера, Планка, Гаусса, Кеплера.6![]()
Мифотворчество сочетается у него с признанием объективной закономерности законов мироздания, овладение которыми сулит человечеству невиданные возможности. Поэтому философия Хлебникова в основе своей оптимистична и направлена против философии безнадежности и обречённости человеческого бытия. В этом он решительно расходится с современным западным модернизмом и экзистенциализмом, стоящими на позициях распада и дегуманизации личности, пессимистической обречённости, отрицания смысла бытия. Мифологемы Хлебникова знаменовали не отказ от разума, не признание трагического хаоса мироздания и бессилия личности ему сопротивляться, а наоборот — утверждение единства космоса и человека. Личность, индивидуальность человека сливается с мирозданием. Постигая его законы, человек и приобщается к природе, перестаёт быть одиноким. Если, по словам Хлебникова, человек отнял поверхность Земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок (4, 299), то знание законов бытия приносит счастье, возвращает человеку, зверям и растениям право на жизнь.
Человек — также частица вечного кругооборота материи. В этом вечном изменении материи и видит Хлебников закономерность развития вселенной. Хлебникову чужда мистика: он всегда стремился к рационалистическому объяснению явлений.
Стихи Хлебникова нередко на первый взгляд кажутся каким-то хаосом, обломками грандиозного здания. Но при внимательном чтении всё отчётливее проявляется их общий замысел, архитектурный план. Бессюжетность, отступления от основной темы, прихотливый алогизм ассоциаций, неожиданная немотивированность образов — таков обычный “рельеф” произведений Хлебникова, прежде всего его поэм. Но за этой хаотичностью, загромождённостью, — как удачно сказал Г. Винокур, — возникает „та подлинная, благородная и возвышенная простота, проникновенность, которая чистым и светлым ключом бьет из самого родника поэтического сознания”.7![]()
![]()
Хлебников нарушил традиционную соотнесенность жанров, вновь канонизованную символистами в начале XX века. В сущности, его стихотворные произведения лишь весьма условно можно разделить на стихотворения, поэмы, драматические произведения в стихах. Особенно характерна для него фрагментарность, незавершённость. Причина этого не только в способе его работы, но и в самом характере его творчества.
Ведь большинство стиховых фрагментов, черновых набросков — в особенности послереволюционных лет — врастало чаще всего в поэмы, рассматривалось Хлебниковым как “заготовки”, основа его эпических произведений.
Композиционная свобода, “несобранность” Хлебникова передают особенность его ощущения мира как беспрерывного протекания, процесса. В этом движении может быть взята любая точка, любой отрезок, в котором проявится всё многообразие целого. Даже поэмы Хлебникова — это не поэмы в обычном понимании этого жанра. Это чаще всего — бессюжетное движение словесного потока на основе пересечения разных тем, сцепления неожиданных ассоциаций.
Внутренней текучести, немотивированности тематических переходов, даже хаотичности — соответствует и свобода стиховых форм. Хлебников не соблюдает правильности в повторении рифмы, не членит обычно свои стихи и поэмы на канонические строфы, всё время изменяет размер и метрическую правильность стиха. Многие его произведения представляют как бы не оформленный “поток сознания”, движущийся путем сцепления ассоциаций.
Вот характерное для Хлебникова стихотворение (1920):
В этом стихотворении цепь образов-ассоциаций скрепляется фонетическими повторами. Так глагол ‘синеют’, несколько раз повторяющийся в стихотворении, приобретает разные смыслы и оттенки, в то же время развивая и оттеняя основную его тему, углубляя основной образ: Русь — поцелуй на морозе. С этим образом связаны — и образ молнии, обегающей шубы, и в то же время синею молнией слиты уста. Недосказанность, пропуск мотивировочных фраз, неожиданное толкование метафор, алогизм — всё это те особенности поэтической системы Хлебникова, которые затрудняют восприятие его стихов и в то же время предоставляют широкие возможности для „остранения” поэтического образа, для установления через голову логической связи — связи специфически поэтической, обусловленной звуковой близостью, контрастом, столкновением образов, их “цепной реакцией”.
Сравнение и метафора нередко становятся у Хлебникова способом композиции, организации поэтического повествования, вовлекая в круг стихотворения ряд явлений и предметов, не вызываемых непосредственным развитием темы. Авторское сознание, авторское восприятие мира стремится зафиксировать его текучесть. Это не означает, конечно, отказа Хлебникова от реальности. Мир, возникающий в его стихах, отнюдь не плод авторской фантазии. Он стремится показать окружающий его мир в его соотношении с человеком, даже в тех случаях, когда обращается к мифологическим образам или космогоническим обобщениям.
Метафоры и сравнения Хлебникова поражают своей необычностью, смелостью ассоциаций, точностью и зоркостью видения мира:
Или о ките:
В отличие от имажинистов, Хлебников стремился, однако, не к парадоксальному алогизму образа, не к субъективному “эксцентризму” метафоры, а к уточнению понятия, к образу, оправданному всем семантическим строем стихотворения, вещными, зримыми, глубоко пережитыми автором ассоциациями.
Особенность его метафор в сочетании резкой контрастности смысловых планов, далёкости ассоциаций с конкретностью самого образа. Он говорит о Прометее:
Кувшины не только неожиданно, но удивительно просто, конкретно, в особенности потому, что их льют века.
Самый принцип построения образа у Хлебникова на редкость разнообразен. Часто это нагнетание эмоционально окрашенных, экспрессионистских метафор:
Излюбленный приём Хлебникова „остранение” — перифраза, замена предмета или понятия иносказательным, описательным выражением (нередко перифраза сливается с метафорой). В перифразе заключено как бы “узнавание” предмета. Это узнавание достигается точным описанием, а главное, изображением его как увиденного впервые, воспринятого с полной непосредственностью. Отвлечённое понятие у Хлебникова обрастает целым роем конкретных ассоциаций, метафор, необычайно вещных подробностей.
Для Хлебникова важен не сюжет, а развитие образа. Центральный образ порождает цепь метафор и перифраз, начинает собою своего рода цепную реакцию, непрерывное возникновение ассоциаций, уже далеко отошедших от первоначального образа-символа. Так, говоря о тополе, Хлебников называет его Весеннего Корана весёлый богослов. Эта удивительная в своей свежести метафора влечёт за собой развитие сложного и своеобразного метафорического строя:
Сравнение тополя с рыбаком, улавливающим своими ветками-мрежами (сетями) шумы, запахи весенней природы — подсказано необычайно острым и смелым восприятием природы. Мы как бы присутствуем при зарождении мифа: дерево превращается в символ весенней природы, наделяется признаками живого существа.
Или образ, передающий сельскую тишину, примирённость:
По мнению Хлебникова, в самых звуках слова заложены отдалённые намёки на явления действительности. Поэтому такую большую роль в его стихах играет своеобразная этимологизация слов, в которой звуковые переклички приобретают смысловую многозначительность:
В этом стихотворении повторяются многозначительные сопоставления, приобретающие новый смысл (Шкуро и Мамонтов — шкура мамонта).
Образы-метафоры Хлебникова своей смелостью и широким смысловым диапазоном вызывают неожиданный круг значений, и осмысление их может носить и субъективный характер. Как пример такого осмысления приведу объяснение столь чуткого стилиста, как Ю. Олеша, двух хлебниковских метафор из фрагмента незаконченной поэмы «Морской берег»:
Олеша на полях отмечает:
Мне представляется данное истолкование хлебниковских метафор во многом произвольным. Смысл их следует искать в общем контексте поэмы, а не исходя из изолированных метафор. Здесь речь идёт о тополе из выстрелов, грохнувшемся наземь свинцовой листвой на толпы, на площади, то есть о залпе по толпе в первые дни Октября. В результате этого ветками смерти закрыты лица у многих. И отсюда и дальнейшие образы: карканье звёзд ночью над мертвецами и ночные крыши, напоминающие мертвецкую; и самая темнота ночи темней голенища оттеняет и усиливает мрачную картину смерти, жертв, понесённых в дни восстания.
Свобода ассоциаций, принцип “наплыва” метафор и сравнений с их смысловыми вспышками, освещающими лишь отдельные звенья словесной цепи, здесь даны в своем крайнем выражении. Едва ли можно назвать метафоры Хлебникова и “локальными”:“ локальная метафора”, принятая конструктивистами в 30-е годы, конкретно-однозначна, тогда как метафора у Хлебникова многозначна.
В стихотворении «Ласок груди среди травы...», полном какого-то тревожного чувства, говорящего о страсти, возникает неожиданно сравнение взора с хатой:
Эта метафора, ничем не подготовленная и не мотивированная, придаёт стихам какой-то особый простор. Необычность этого сравнения, вырастающего в конкретную картину сельской жизни, расширяет содержание образа. Воспринимается этот образ как бесхитростно-доверительный, по-домашнему милый. Но ведь речь идёт о женском взгляде, взоре, значение которого косвенно определяется этой картиной. Далее следует новый метафорический образ, не связанный ассоциативной цепью с предыдущим:
Смысловая немотивированность ассоциаций, необычность и “сдвиги” образных представлений — вот что прежде всего делает стихи Хлебникова трудно читаемыми. Но в этой, до конца не объяснимой их образной системе есть своеобразие, заставляющее вновь и вновь возвращаться к ним и перечитывать, вдумываясь в их скрытый смысл.
Это стихотворение о весне, о радостном пробуждении поэта в светлый голубой день. Оно всё выдержано в голубой гамме: голубые медведи, пробежавшие по ресницам, чаша глаз, синяя вода, вторично подхвачено кругло-синей, передающей этот момент весеннего пробуждения. Сложная цепь ассоциаций и метафор, связанных с морем, мне представляется, передаёт впечатление голубого неба: ведь море “протянуто” на серебряной ложке протянутых глаз (оттого парус в воде кругло-синей). Об этом говорят и заключительные строки о первом громе. Таково метафорическое “развёртывание” темы весны, данное как цепь импрессионистических ассоциаций.
В стихотворении «Весны пословицы и скороговорки» (напечатанном вместе с предыдущим в 1920 году) передано образное видение мира, ощущение весны, её пейзажа:
Какое тончайшее чувство языка надо иметь, чтобы сказать об еще замерзшей, не оттаявшей весенней земле записки стыдесной земли! В этом слове сочетается и нечто студеное, ледяное, стужа — и другой ряд замечаний: стыдливость, скромность. Какая точная и богатая образность второго четверостишия! Как выразительно и свежо передает она впечатление от лучей и пятен солнечного света, запутавшихся среди весенних тенёт — ветвей тополя! А ползущая золотой черепашкой, отсвечивающей на весеннем солнце, мать-мачеха, жёлтый, скромный весенний цветок, — как просто и наглядно сказано. В целом прелесть фетовского импрессионистского восприятия природы. И в то же время новое, обострённое ощущение её, которое впоследствии с такой полнотой осуществится в лирике Пастернака.
Великолепным мастером слова Хлебников оставался до конца. Но в последние годы жизни его палитра обогатилась всеми красками современной, уличной речи, народной частушки, стала необыкновенно ёмкой и многогранной. Образы и метафоры приобрели в послеоктябрьской поэзии Хлебникова большую точность и весомость:
В этих образах поражает их конкретность и в то же время огромный простор обобщения. Сломанный сук на старом дереве напоминает поэту о трагической, сломленной позе Гоголя после сожжения рукописей. (В частности, таким он изображён на известной картине Волкова «Гоголь сжигает свои рукописи».) Это “переключение” в круг литературных ассоциаций делает образ дерева необычайно ёмким и многозначительным. Вторая цитата из стихотворения «Где волосы, развеянные сечью...» рисует портрет участника гражданской войны (вероятно, Д. Петровского). Такая приметная черта, как дерзкие губы, гиперболически усилена сравнением с полководцами страстных орд. Именно далёкость ассоциируемых рядов создает ту многозначительность и смелость образа, которая так поражает в стихах Хлебникова.
В тулупе набата / День пробежал — выражает порыв стихийного, мужицкого мятежа. Слова-сигналы: набат связан с призывом к восстанию, с пожаром, тулуп — несёт ассоциации мужицкого начала, зимы. Метафора день пробежал придаёт этим образам завершённость, конкретность и вместе с тем создает картину стихийности народного мятежа.
Однако, восстанавливая смысловые связи, Хлебников сохраняет резкую выразительность образов, не стремится к синтаксической гладкости и упорядоченности.
Хлебников не ограничен какой-либо замкнутой стилевой манерой. Его стих разнообразен. Поэтому наряду с усложнёнными “ассоциативными” стихами он пишет стихотворения классической ясности и высокой, выверенной простоты. Таково стихотворение «Ручей с холодною водой», написанное осенью 1921 года после возвращения из Персии. В нём рассказывается о вызове Хлебникова на допрос — краткий эпизод из его жизни. Но с какой эпической простотой и величавостью рассказано и о горной дороге, и об утренней прохладе. Как точно и наглядно определение кисти винограда, куска сыра и чурека:
Столь же точными чертами передана картина вечера в ауле:
Одной из поэтических удач Хлебникова является стихотворение «Сегодня Машук, как борзая...», написанное в Пятигорске (осенью 1921 года) под непосредственным впечатлением от Кавказских гор. В нём переплетается точная зарисовка осеннего пейзажа и глубокое лирическое переживание, чувство одиночества, желание преодолеть тусклую жизнь, на которую он обречён условиями быта.
При всей метафорической образности в этом стихотворении всё точно и реально. И вид зимнего Машука, напоминающего из-за снега белую борзую с проступающими огненно-красными пятнами осенних берёз. И птица, летящая с гор в тёплое ущелье Пятигорска, и картина осени, собирающей в подол колосья, — всё это высокая и чистая поэзия. Этим первым двум “пейзажным” строфам противостоят две заключительные, в которых переданы горечь и разочарование. Птица на озябших крыльях летит обратно, так как холод мещанского эгоизма, грубые, как грабли, очи людей с их счётом денег, страшнее зимнего холода Машука. В этом стихотворении всё точно, предметно, и вместе с тем оно основано на сложном комплексе метафор и сравнений. Ведь и птица, летящая с гор, не только реальная птица, но знак настроений и мыслей поэта.
За исключением некоторых экспериментальных его стихотворений, за каждым образом Хлебникова стоят точные реалии. Сложен бывает лишь ассоциативный ход от образа к предмету. Самый строй ассоциаций по-своему логичен и точен — и в то же время метафоричен: от одной метафоры Хлебников непосредственно переходит к другой, благодаря чему получается сложная метафорическая система, своего рода цепная реакция образов.
Нередко Хлебников прибегает к вещной, наглядной метонимии, называя лишь один признак, часть целого. Эта конкретность сочетается с „остраненностью” восприятия, с необычностью и точностью как бы впервые увиденного предмета. Например, в поэме «Уструг Разина»:
Речь идёт о пороховнице из рога, какую носили во времена Разина, и о шапке из овчины. Столь же конкретен образ, передающий подвиги Разина и его сподвижников:
Человеческие жизни здесь представлены в виде поля ржи, колосьев, которые срезаны ножом. Этот образ сохраняет предметную наглядность.
Если спросить, что же больше всего поражает в стихах Хлебникова, то наиболее точный ответ будет: полная свобода, небоязнь любого “непоэтического” выражения, слова, нарушение любой “нормы”. Рядом с “прозаизмом” соседствует образ, изумительный по своей изобразительной силе и найденности. В стихотворении «Какой остряк, какой повеса...» вила — саранча говорит:
Вековать ночь на ветке полёта — это поистине дерзко-вдохновенная метафора.
И тут же иронически сниженный образ плачущей вилы:
Роль В. Хлебникова в дореволюционной поэзии была весьма значительной. Вокруг него, отправляясь от его работы над словом, возникло движение русского футуризма, к которому примыкал такой большой поэт, как Маяковский, в дальнейшем ставший поэтическим глашатаем Великой Октябрьской революции. Творческие переклички Хлебникова с Маяковским, роль его поэзии для поэтов-современников и соратников по футуризму несомненны. Так, в некрологе о Хлебникове В. Маяковский писал: „Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе” (XII, 28).
Существенно значение Хлебникова для советской поэзии. Его творчество первых лет Октябрьской революции — достоверное свидетельство современника, непосредственно пережившего эти героические и пламенные годы. Такие поэмы, как «Ночь в окопе», «Ладомир», «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», передают взволнованное восприятие событий, овеяны тем же пафосом революции, что и «Двенадцать» А. Блока, вошли в историю советской литературы. Круг идей Хлебникова, его утопические мечты о будущем человечества, его мысль о разуме природы — нашли отражение в поэзии Н. Заболоцкого. В творчестве ряда современных поэтов можно проследить черты, восходящие к поэтическим открытиям Хлебникова, свидетельствующие, что поэзия его — не музейный экспонат, а живое, творческое явление.
Творчество Хлебникова сохранило свою жизненность не в силу пристального внимания к форме, слову, как таковому, а прежде всего благодаря расширению поэтического горизонта, обращения к большим проблемам современности и истории человечества, поэтическому бесстрашию. После Хлебникова самые неожиданные перемены в стихе, ритмические и интонационные новшества, сочетания разных стилистических систем, звуковые построения, смелые образы и метафоры стали достоянием всей нашей поэзии.
Хлебников завоёвывает признание и в зарубежных литературах. Отдельные издания избранных произведений Хлебникова вышли на польском языке в переводах Я. Спивака (1962), на сербохорватском в переводах В.и M. Николич и В. Чосича (1964), на французском языке Л. Шнитцер, на чешском языке И. Тауфера (1966), на итальянском языке в переводе А. Рипеллино (1968).
За рубежом Хлебников объявляется предшественником авангардистских течений в поэзии: дадаизма, сюрреализма, абстракционизма и проч. При этом на первое место выдвигаются его заумные стихи, его эксперименты над словом.
Подобные утверждения преувеличивают роль бессознательной зауми в творчестве Хлебникова и не учитывают его послереволюционного пути, когда он решительно преодолевает экспериментальную замкнутость своего творчества. Для сюрреализма же важно было прежде всего очищение “я” от всех наслоений социального, нравственного, индивидуального порядка, творчество должно было отражать лишь чистую духовность.
Хлебникова следует сопоставлять не с сюрреалистами, а с такими поэтами, как К. Сэндберг, Пабло Неруда, Назым Хикмет, хотя, конечно, никакой непосредственной связи между ними и не было. Их сближает чувство единства человечества, стремление к его освобождению от косных и уродливых условий собственнического, буржуазного мира, оптимистическая обращённость к будущему. Общностью отношения к миру объясняется и эпическая широта этих поэтов, создание ими монументальных эпических произведений, охватывающих судьбы человечества, вобравших самые разнообразные пласты жизненного материала.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 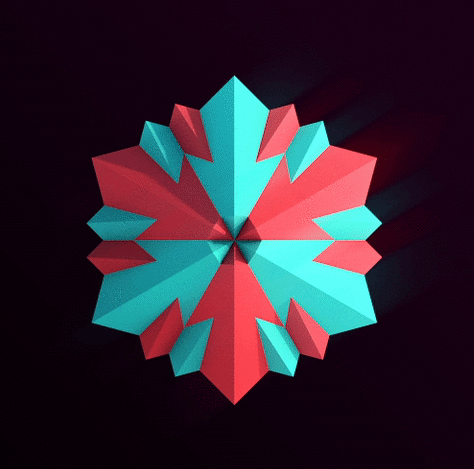 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||