




Ориентально-исторический мир поэта чрезвычайно многоаспектен. Любое, даже косвенное, обращение его к историческому материалу имплицирует в его художественном сознании и прикосновение к Востоку. В Хлебникове как бы живет постоянное ощущение неавтономности явлений, воспринимаемых им как национально-временные категории; История, Россия, Восток, — может быть, важнейшие из них.
Движение русско-восточных взаимоотношений (как контактов и как конфронтации) наиболее часто привлекает Хлебникова по той причине, что он всегда решал вопрос о России, о ее месте в развивающемся пространственно-временнóм социуме.
«Вам» (1909), «Дети Выдры» (1911–1912) «Хаджи Тархан» (1912), Бех (1913), «Кубок печенежский»1![]()
Остановимся прежде всего на стихотворении «Кубок печенежский»2![]()
Русский поэт, избирая темой и материалом своего произведения ту или иную эпоху отечественной истории, связанную с проблемой взаимоотношений Руси и противостоящего ей Востока, обычно занимал позицию “по эту сторону” национального барьера. Пробуждая в соплеменниках национальную гордость, поэт вкладывал в свое творение определенный — социальный, нравственный, политический — функциональный смысл. Этим была детерминирована и соответствующая художественная структура вещи, где Восток изображался “извне”, а взгляд на мир был взглядом русского человека.
Речь здесь идет, повторим, не о русской ориентальной поэзии вообще, где национальная трансформация, начатая пушкинскими «Подражаниями Корану», сделалась к началу XX века художественной традицией, закрепленной “арабскими” перевоплощениями Бунина. Разговор ведется именно о произведениях исторических, т.е. тех, в основу которых был положен материал прошедших эпох, начиная с древнейших, отражающий коллизию “Русь — Восток”. Поиск национально-патриотических корней свободолюбия русского народа, задачи политической аллюзии почти всегда закономерно вытесняли из произведений подобного рода тот полнокровный художественный ориентализм, которого требовало объективно-реалистическое освещение русско-восточной истории. Не случайно именно русские романтики, наиболее часто обращавшиеся к героическим сюжетам из истории борьбы Руси с восточными племенами, не пытались заглянуть в инонациональный стан: они просто перелагали стихами мотивы и образы древних летописей, избирая те из них, которые могли служить конкретным целям и задачам. Эти цели и задачи могли быть различными по политической направленности; но почти всегда было сходным определяемое ими отношение к историческому материалу, к самому выбору не только героев, но даже определенных моментов их реальных жизнеописаний, запечатленных некогда пером Илариона или Нестора и одушевленных впоследствии мастерством автора «Истории государства Российского».
Одним из таких героев древнерусской истории был князь Святослав. Его фигура интересует нас потому, что именно Святослав стоит в центре стихотворения Хлебникова «Кубок печенежский». Но если предшественники Хлебникова, начиная с автора «Повести временных лет», рисовали князя с точки зрения узконациональной, то в «Кубке печенежском», может быть, впервые в русской художественной историографии сделана попытка взглянуть на знаменитого исторического героя несколько иначе — встать по “ту сторону” русско-восточного барьера и воссоздать черты облика и характера храброго воина Киевской Руси, реальные события, нравы, реалии эпохи, ее сшибок с печенегами с точки зрения человека Древнего Востока.
Прежде чем рассмотреть «Кубок печенежский», зададимся вопросом: как изображали известного исторического героя поэты — предшественники Хлебникова? К каким фрагментам его детального жизнеописания в «Повести временных лет» они обращались?
Образ Святослава запечатлен в стихотворении В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812) и в думе К.Ф. Рылеева «Святослав» (1822). Прежде всего отметим, что оба поэта великолепно знали летописный источник и биографию своего героя, так сказать, в полном ее объеме, т.е. не только то, о чем говорится в их произведении, но и то, что осталось за рамками “сюжетов”. Эта проблема весьма важна, ибо в данном случае речь идет не о вложенных в стихи о Святославе функциональных идеях, а прежде всего о масштабах мировосприятия и поэтического сознания художников, имеющих сходные источниковедческие возможности, но избирающих различные (по сравнению с Хлебниковым) национально-эстетические аспекты воссоздания фактов и характеров живой истории.
Нетрудно доказать, что Жуковский и Рылеев знали не только о героическом походе Святослава на греков, но и о его стычках с печенегами и трагической гибели от рук степных кочевников, о знаменитой истории с изготовлением кубка из черепа поверженного врага.
В письме к А.И. Тургеневу от 12 сентября 1810 г. В.А. Жуковский отмечал, что хотя „сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснословным блеском” и „читатель легче верит вымыслам о Владимире, нежели вымыслам о Святославе”, „последний по героическому характеру своему ‹...› более принадлежит поэзии, нежели первый”.3![]()
![]()
Тем не менее драматическую гибель Святослава в бою с печенегами — эпизод, горестно описанный и в летописи, и у Карамзина, — Жуковский не делает предметом своей поэзии, хотя для романтика его типа эта тема давала богатый эмоционально-этический материал. Напомним текст «Повести временных лет»: „В год 6480 ‹...›, когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него”.5![]()
Может быть, Жуковскому не был известен этот эпизод? Вопрос, конечно, риторический: поэт был отменным знатоком русской истории, в том числе и запечатленной в летописях, известных ему по переводу Шлецера. Однако приведем и более достоверные свидетельства. Внимательно читая первый том «Истории государства Российского», Жуковский, по наблюдениям Ф.З. Кануновой, подчеркнул не только слова Карамзина о „любопытных характерах русской истории (отметив, в частности, “подвиги Святослава”), но и те разделы оглавления, которые связаны с обстоятельствами его гибели: «Гл. VII. Нашествие Печенегов. Наружность Святослава, кончина его».6![]()
Несмотря на глубокое различие социально-исторических позиций Жуковского и Рылеева, последний, обращаясь к характеру Святослава, идет тем же путем: избирает для художественного воплощения лишь “героические” страницы летописи, не замечая событий и сцен, не менее драматических по тому напряжению, какого так жаждала романтическая лира, но не отвечающих конкретным идейно-эстетическим целям поэта. Исходя из них, Рылеев тоже делает духовно-художественной кульминацией строф о Святославе именно победный поход „в Болгарию Дунайскую”; герой думы, участник русско-турецкой войны 1773 года, как и “певец” Жуковского, с восторгом вспоминает те же знаменитые слова Святослава: „Позор на мертвых не падет”.7![]()
![]()
Можно полагать, что трагические события на Днепровских порогах не привлекли внимания русских романтиков не только по причинам политического и эстетического характера. Им, помимо прочего, явно не доставало “пушкинской” масштабности взгляда на мировую историю как на единый диалектический процесс взаимодействия и противоборства.
Упоминание о Пушкине здесь не случайно. «Кубок печенежский» — одно из произведений, подтверждающих ту мысль, что Хлебников (естественно, не повторяя духовно-художественного пути Пушкина) в какой-то мере повторил движение его от человека Запада к человеку Востока, придя к идее человеческой общности через постижение человеческой истории. Для этого (в частности) следовало взглянуть на древние эпохи не только взором русского художника, ищущего в прошлом примеров для подражания потомкам, но и глазами человека Востока.
Напомним, что в ранних стихах современного содержания Хлебникову это не удавалось. Размытость национальных идеалов, восприятие мира лишь через узкий и “перевернутый” бинокль славянского внесоциального “патриотизма” нередко приводило его к стихам, где картины “попранной” Руси (например, в стихах о Цусиме) сопровождались угрозами в адрес не только конкретного азиатского соперника (Ниппон), но и всего “стоящего за ним” восточного мира.9![]()
Развитие “пушкинского” взгляда на историю Запада и Востока, приведшее Хлебникова и к «Кубку печенежскому», отнюдь не означает, что поэт наложил “вето” на стихи национально-патриотического плана, в том числе и на те, что основывались на материале и характерах русско-восточной истории. Это подтверждают такие произведения, как «Бех» или «Курган». Однако унаследованная Хлебниковым главным образом от Пушкина широта исторического и национального мышления, развившаяся к середине 910-х годов, раздвигает национально-исторические и социально-эстетические границы его поэзии, диапазон которой позволяет ему, опираясь на те же источники, что и его предшественники, выходить за пределы национального мира, к иной национальной среде и характерам, к более гибким формам взаимодействия с реальным содержанием русско-восточной истории.
Думается, серьезную роль в этой эволюции сыграло и непосредственное обращение Хлебникова к текстам русских летописей. Их объективный и сурово-сдержанный тон, стремление русских древних писателей показать русско-восточные и русско-западные отношения в истинном свете, а русских князей — не только как защитников отечества, но и как завоевателей чужих земель (как, скажем, того же Святослава в «Повести временных лет»), — все это в известной степени помогло Хлебникову постигнуть движение мира человеческого во Времени, и сквозь призму национального взгляда, и с позиций “пушкинского” органичного интернационализма. Именно обращение к истории, формирование историзма, пусть не всегда последовательного и четкого, но сущего — как внутренней важной черты художественного сознания Хлебникова (в частности, и под влиянием русской летописной историографии) — во многом увело поэта с путей “славянофильских” к пушкинским идеям “всемирной отзывчивости”. В Хлебникове все острее проявляется стремление постичь историю как общее диалектическое движение Запада и Востока, с их сшибками и столкновениями, распрями и национальной рознью, — постичь прежде всего в человеческом содержании этого процесса, который может быть понят лишь в том случае, если художник способен встать и по “ту” и по “эту” сторону национального барьера, поднявшись до исторической объективности и художественного воплощения закономерностей жизни и смерти героев, племен и народов.
Именно эту способность проявляет Хлебников (уже прошедший “школу” «Детей Выдры», «Медлума и Лейли») в стихотворении «Кубок печенежский», натолкнувшем нас на столь пространные, но теоретически необходимые предварительные размышления.
Если «Бех» воспринимается как монолог русского человека, перенесшегося воображением во времена битв с врагами, не забывшего, как билась Русь и сто татар и дающего клятву вечно помнить бой, то «Кубок печенежский» — это тоже монолог, но уже человека Востока, печенежского мастерового, выполняющего поручение, о котором в «Повести временных лет» говорится: „Сделали чашу из черепа, оковав его”:10![]()
В русской поэзии, делавшей источником летописные исторические сюжеты, «Кубок печенежский», может быть, впервые восполняет этот значительный духовный пробел.
При этом важно подчеркнуть не только тот факт, что у Хлебникова (по сравнению с его предшественниками) вместо голоса современного „певца” или „младого гусара” звучит рассказ человека из тюркского племени печенегов, но и то, что в «Кубке печенежском» смещение акцентов идет одновременно и по национальной, и по социальной линии. Романтическая баллада (так определяет жанр стихотворения Хлебникова Н. Степанов)11![]()
Фигура Святослава в «Кубке печенежском» в достаточной степени романтизирована; однако характер персонажа, ведущего монолог, накладывает на нее известный “сниженный”, “бытовой”, социально-простонародный отпечаток, выражающийся в отдельных реалиях и деталях облика князя, в самой форме речи печенега (диалектизм насады, означающий ‘лодки’, выражения идти бичевой, нипочем, мы, в увечьях убогие и т.п.):
Весьма примечательной особенностью «Кубка печенежского» (как и многих других стихотворений Хлебникова о Востоке) является “неориентальная” поэтика, отражающая стремление художника идти и в этой сфере творчества своей тропой. Это касается прежде всего отказа от метода национальной трансформации, от перевоплощения в “восточный” характер, особенно, казалось бы, эстетически необходимого в тех произведениях, где повествование ведется от имени человека Востока. Как мы уже могли убедиться, ни в приведенных отрывках, ни в иных строфах «Кубка...», где монолог печенега обретает строй более поэтичный, метафорически-ассоциативный, близкий к стилистике романтической, баллады, — нигде мы не обнаруживаем того явления, которое именуется “западно-восточным синтезом” и выступает как органичный элемент русской ориентальной реалистической поэзии, следовавшей традициям «Подражаний Корану» или «Тазита».
Хлебников, полностью следуя пушкинской национально-философской концепции единства мира, формуле диалектической связи Запада и Востока, развивая идею человеческой их общности и национальной неповторимости, как художник часто избирает иной путь поэтического воплощения этих идей и концепций, опираясь, на собственные представления о возможностях воссоздания стилевой и речевой стихии в произведениях о Древней Руси и Древнем Востоке:
Этот и другие отрывки из «Кубка печенежского» удивительно верны фактологической канве летописи; ниже станет ясно, почему именно здесь ведется разговор о соответствиях стихотворения и «Повести временных лет». По сути, нарушая с помощью романтической условности логику реалистического характера автора монолога, печенега, который не мог знать о событиях, предшествовавших нападению на Святослава, Хлебников устами героя фантастически точно пересказывает эпизод летописи: старый воевода Свенельд, служивший еще отцу Святослава, Игорю (воин дальнего вождя), говорит ему: „Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги”12![]()
![]()
![]()
Почему речь здесь зашла о верности Хлебникова историко-литературным источникам? Потому что, на наш взгляд, именно стремление поэта сохранить эту верность фактологии летописи в значительной степени имплицировало у него и спонтанное воссоздание поэтики не только «Повести временных лет», но и вообще всей древнерусский литературы, которую он знал блестяще. Из нее выбираются и сюжеты, и характеры, и эмблематическая образность, и стилевые особенности “русско-восточных” исторических произведений. Даже “передоверяя” авторство повествования герою-печенегу, Хлебников вкладывает в его уста известный традиционный образ древнерусских “воинских повестей”, правда, лишь как пересказ речи русского воеводы: Беги от стрел дождя Д.С. Лихачев говорит об этом сравнении, как о часто повторяющемся тропе древнерусской прозы.15![]()
![]()
Поэтика древнерусской прозы отразилась, видимо, и в той “бинарности” стиля,17![]()
Как видим, Хлебников, не делая бесплодных попыток заговорить “no-печенежски”, подделаться под никому не ведомую восточную стихию речи героя (ибо язык печенегов не запечатлен в исторических источниках), опирается, — если рассматривать различные уровни текста, — главным образом на поэтику древнерусской литературно-исторической прозы, в чем-то разделяющей, а в чем-то смыкающей (в поэтическом сознании автора «Кубка печенежского») простого человека древнего Востока с его собратом-соперником — человеком Древней Руси.
Через поэтику стилевого, композиционного, фонетического единства все повторы и переклички стихотворения (естественно, восходящие не только к арсеналу древнерусских источников «Кубка...»), несут в себе идею исторической повторяемости, общности явлений. Затмевая контрастность самого бинома “Запад — Восток”, поэтика Хлебникова выражает общую философскую способность и закономерность пересечения и сближения того, что национально-исторически противостоит друг другу, но в то же время объективно-исторически содержит в себе предпосылки “внутривидового”, человеческого родства — не столько биологического, сколько духовного.
Особенно рельефно и активно выражена концепция цельности “восточно-языческого” (а по сути — авторского восприятия мира в системе фонических повторов, составляющих как бы единую, цельную звуковую струю стихотворения и группирующиеся вокруг ключевой фонемы — корня слав. Эта фонема многократно варьируется в самом имени князя (Святославовы насады, Святослав, суров ‹...›, ‹...› кровью Святослава), в однокорневых словах того же смысла и звучания (прославлена, слава, славя). Наблюдения показывают, что три опорных звука, составляющих “каркас” фонемы (с, л, в), проходят через все стихотворение как некий его фонемно-семантический стержень; при этом Хлебникова, на наш взгляд, интересует не инструментовка произведения, а выделение кардинального корня всего содержания — конечно, не просто в грамматическом смысле, а в поисках корневого пласта исторически-конкретного и национально-определенного уровня сознания его героя.
Проследим вначале за концентрацией опорных звуков:
Помимо целых строф, этот звуковой ряд выстроен Хлебниковым и в отдельных строках: Смерть ВоитеЛю принеС, Степи моЛВиЛ предВодитеЛь, ‹...› наЛи-Вая В гЛубь гЛаВы, Стану пить я, ВСпоминая СВетЛых кЛич: „Иду на Вы!”.
Фонетический уровень художественного текста в стихотворении тесно связан с уровнем лексическим: система звуковых повторов опорных согласных спонтанно фиксирует внимание читателя на лексеме ‘слав’, которая представляет собой смысловой ключ к монологу печенега.
Содержащееся в этом слове понятие отнесено автором монолога и к образу Святослава: ему печенег (хоть и подчеркивая, что князь был волком), отдает дань уважения как воину, личности мужественной и готовой к битвам и жертвам. Однако вместе с тем кочевник Хлебникова главным образом поет славу победе своих соплеменников, а также тому, может быть, временному, но желанному затишью в войне, миру, который приходит в печенежское кочевье вместе с окончанием борьбы против извечного врага. Н. Степанов справедливо писал о “философической” теме войны и мира в «Кубке печенежском»:
Вместе с тем мотив славы все-таки в первую очередь связан с тем взглядом “из-за национального барьера”, о котором говорилось выше. Хотя, воссоздавая характеры героев древности, Хлебников, как мы стремились показать, использовал стилевой и металогический опыт древнерусской “военно-исторической” прозы, “восточная” принадлежность характера печенега, чья речь и составляет содержание «Кубка...», не вызывает сомнений. Не только уже приведенное выше изображение печенежского табора — живой среды, включающей в себя детали и “этноса”, и “демоса”, — но и сам взгляд автора монолога на известные исторические события, соотношение в его сознании двух противоборствующих сил, которые получают фактологически достоверную и в то же время национально-окрашенную оценку, — все это раскрывает не во внешних ассоциативных рядах, а в самом типе мышления героя ясно ощущаемый национальный тон. Смерть Святослава изображена не как конец воина под ударом судьбы или более сильной, мудрой личности предводителя степи — вождя печенегов. Нет, автор монолога подчеркивает, что Святослава сокрушила из засады печенегова свобода.19![]()
Думается, вряд ли имеет смысл вести полемику о преимуществе “хлебниковского” или “бунинского” способа изображения человека Востока. Да, Бунин в своих ориенталиях стремился к перевоплощению в араба или нубийца, к изображению восточного характера “изнутри” («Зеленый стяг», «Потомки пророка», «Тонет солнце, рдяным углем тонет...», «Зейнаб»), близко подходя к “пушкинской” национальной трансформации; Хлебников же создает восточный тип личности, опираясь на иные возможности и передавая главным образом внутренний психологический смысл национального восприятия исторического лица, события, факта человеком Древней Степи.
Важно не это (хотя известные нам слова Блока о том, что у каждого поэта “свой” Восток,20![]()
«Кубок печенежский», написанный в пору разгула национального шовинизма, своеобразно и талантливо утверждал пушкинскую концепцию “всемирной отзывчивости”, разрушая европоцентристскую схему восприятия Древней Руси и древней истории. Утверждая возможность взгляда на них “со стороны” Востока, раскрывая одновременно как тип мышления кочевника, так и мысль о всечеловеческом содержании и единстве русско-восточного мира, стихотворение Хлебникова развивало доминантные линии пушкинской концепции масштабного, всеобъемлющего художественного воссоздания бытия, истории, общества в их многомерных разнонациональных связях.
Известно, что Пушкин не был удовлетворен художественным воплощением в русской поэзии древней отечественной истории и крупнейших ее фигур. В письме к Гнедичу от 23 февраля 1825 г. он подчеркивал:
В исторических произведениях Хлебникова мы находим и “тень Святослава”, и отзвуки битвы на Калке, и курган — памятник славы над могилой Ермака или его “сурового” сподвижника... Однако вряд ли можно было бы говорить о некоем “ответе” Хлебникова на вопросы, поставленные Пушкиным. Связи здесь нет. Но есть связь с теми художественно-историческими задачами, которые на протяжении столетия ставило перед наследниками Пушкина как бы само прошлое, — грандиозные и трагические эпохи древней русской истории, на каждом новом этапе требовавшие своего эпического духовно-художественного осмысления, ибо речь шла (как и в письме Пушкина) не о “проходных”, случайных временных отрезках и мелькнувших в них фигурах, а об эпохах и исторических лицах, всегда оказывавших решающее воздействие на все дальнейшее движение Руси в мировом историческом процессе, в становлении объективно складывавшегося и причудливо-закономерно связанного прочными социально-историческими нитями мира Запада и мира Востока.
Конечно, и до, и после «Кубка печенежского» „тень Святослава” продолжала „скитаться не воспетой” в русской поэзии, если говорить о том смысле, в каком понимал задачу Пушкин. Однако Хлебников внес в сам процесс возможного художественного воплощения этой фигуры новые, по сравнению с пушкинским пониманием, оттенки, каких мы не находим и в самой постановке вопроса у Пушкина.
Ведь хотя Пушкин и воплотил первым в русской литературе, так сказать, право различных народов на “художественное самоопределение”, даже он почти не замечал возможностей связи между теми или иными эпохами, монументальными фигурами национальной истории и их изображением с инонациональной, восточной точки обзора. Правда, однажды такая возможность была Пушкиным мельком намечена. В «Воображаемом разговоре с Александром I», написанном примерно в то же время, что и послание к Гнедичу, Пушкин, предполагая, что царь, рассердившись, должен был бы сослать его в Сибирь, тут же переносится воображением не только в историческую эпоху Ермака, но и в известные обстоятельства, связанные с русско-татарскими битвами XVI века. И далее следует мгновенная реакция художника: там, в Сибири, „он написал бы поэму «Ермак» или «Кочум» русским размером с рифмами”.22![]()
Обратим внимание: не только «Ермак» (что сообразуется и с письмом к Гнедичу, где это имя названо среди других великих имен древнерусской истории), но и «Кочум». Другими словами, Пушкин видит для себя возможность поставить в центр поэмы о русско-восточных сшибках, определивших во многом дальнейшее развитие России и ее движение на Восток, фигуру поверженного Ермаком, но привлекавшего поэта своей национальной мощью, колоритом, темпераментом татарского хана, весьма красочно описанного в «Истории государства Российского».23![]()
Один из закономерных парадоксов литературно-исторического процесса заключается в том, что, возвращаясь назад, к кардинальным прогрессивным идеям предшественников, художник нередко опережает самых “модных” и “злободневных” современников.
Постигнуть одну из граней этого явления можно, сопоставив хлебниковское стихотворение с написанным почти в ту же пору «Заветом Святослава» Валерия Брюсова.
Стихи Брюсова, помимо “патриотического” духа („В наши грозные, тяжкие дни // Вспомним снова завет Святослава!”), обретающего особый смысл в год своего создания (1915), поражают удивительным невниманием к историческим фактам и событиям: зафиксированный летописью монолог Святослава, обращенный к воинам перед решающей битвой под Адрианополем, Брюсов переносит на год вперед — ко времени, предшествующему последней, гибельной для князя стычке с Курей на Днепровских порогах; у него Святослав погибает в битве с „коварными греками”, а не с печенегами.24![]()
Причины подобных явлений редко лежат в сфере обыкновенной аберрации памяти большого художника. Суть здесь, видимо, не в степени эрудиции, а в идеологической точности художественного сознания поэта. В «Завете Святослава» Брюсов уходит от возможности установить логически напрашивавшуюся связь между явлениями, социально-исторически сходными: захватничсскими походами Святослава (у Хлебникова он, вспомним, предстает именно в этом ракурсе) и событиями современности — войны, в которой русские солдаты гибли за интересы национального капитала. Наоборот, задача Брюсова, — обойдя острые углы проблемы, воззвать к национальной гордости, пробуждаемой „в грозные, тяжкие дни” доблестью предков. Задача эта, по сути, невыполнимая, так как здесь налицо противостояние исторического материала его эстетическому осмыслению. Поэтому призыв Брюсова вспомнить „завет Святослава” не только повисает в воздухе, но получает в сознании эрудированного читателя обратный заряд.
Видимо, отсюда и временные смещения, исторические неточности в стихотворении Брюсова; в их основании — неточность и размытость социального, а потому и эстетического идеала поэта в пору первой мировой войны, смещение понятий исторической и национальной справедливости, гордости, патриотизма, чуждое Хлебникову, уже обладавшему в эту пору не только стремлением к исторической точности и установлению связей числа и имени, времени и факта, но и общим верным взглядом на исторический процесс взаимоотношений племен и народов — взглядом “поверх барьеров” национальной ограниченности шовинистического “патриотизма”.
«Кубок печенежский», в частности, показывает, что, несмотря на многие мировоззренческие пробелы в социально-историческом мышлении Хлебникова, он как художник способен был прозревать историческую связь явлений в их всемирной интернациональной сущности. Это давало возможность художественному сознанию Хлебникова-поэта корректировать и нередко исправлять ошибки Хлебникова-“вычислителя” истории, позволяя ему в самые напряженные годы развития русской предоктябрьской поэзии опережать многих собратьев по “цеху” в очень сложных вопросах художественного осмысления русско-восточной истории.
Взгляд Хлебникова на русско-восточную историю был, естественно, не только таким, как в «Кубке печенежском». В стихах подобного плана поэт стремился быть прежде всего исторически конкретным и достоверным в деталях и фактах, что в известной степени формировало и непосредственно его позицию. Не случайно в тех произведениях Хлебникова, где репрезенты Востока выступают в качестве захватчиков (скажем, в “русско-татарской” теме), акценты полярно меняются.
“Русско-татарской” эта тема может быть названа условно, потому что она проходит в творчестве Хлебникова не только по эпохам татаро-монгольского нашествия, но касается и значительно более поздних исторических периодов. В таких случаях сам термин ‘татары’ получает одновременно конкретно-историческое, соответствующее точно обозначенному времени, и вместе с тем общесимволическое значение. Собственно, это уже традиционный образ,25![]()
![]()
Однако есть у Хлебникова вещи, где нашествия татар на Русь выступают как внимательно изученный и обратившийся уже в импульс поэтического сознания конкретно-исторический материал не просто для метафоры или “частного” образа, а для целостного художественного осмысления эпохи, привлекающей его своим напряженным драматизмом, а еще в большей степени — возможностью ощутить и воссоздать некоторые корневые духовно-исторические пласты национального характера соплеменников в их сложных связях с инонациональным миром.
В таком духе написан, например, «Бех». Не менее любопытно стихотворение «Курган», где находит своеобразный отзвук (естественно, ненамеренный) уже известный нам замысел Пушкина написать поэму о Ермаке или Кучуме как равноправных фигурах русско-восточной истории и равно возможных героях воображаемого произведения; вместе с тем национально-патриотическая тема звучит здесь у Хлебникова весьма остро.
Образы “татарской” темы как символа беды и горя (Копье татар чего б ни трогало, // Бессильно все на землю клонится) здесь, как и в других произведениях подобного плана, не автономны — они выступают как одна из составных двуединого художественного целого, сочетаясь с символами веры, верности, исторического опыта русской нации, ее вечного движения и неумирающего бытия. Курган над могилой воинов, павших в сшибках с татарами, полон образов и звуков живого бытия, а стихи — динамических глаголов действия (Вокруг земля, свист сусликов, нора и — // Курганный день течет скорее. // Семья лисиц подъемлет стаю рожиц, // Несется конь, похищенный цыганом, // Лежит суровый запорожец // Часы столетий под курганом): курган — это не гранитный памятник, а сама земля (Вокруг земля ‹...›) с ее живыми соками: травами, звериным миром, — земля как символ не праха, который в ней схоронен, а жизни, взрастающей из этого праха и вечной, как природа, как память о тех, кто лежит под курганом часы столетий.
Ощущение движения в «Кургане» связано прежде всего именно с течением времени, с осмыслением его сцепленности с человеческим, национальным, общественным содержанием истории. Отсюда национально-историческая наполненность и смысловая сгущенность образа времени у Хлебникова. Попытаемся показать это.
Наблюдения подтверждают, что понятия движения и неподвижности (по отношению к образу времени) в «Кургане» смещены в соответствии с соотнесенностью конкретных национально-исторических связей России и Востока в поэтическом сознании Хлебникова. Это выражено и в самой архитектонике произведения, и в его сложной образной системе, полной художественных “сдвигов” и парадоксов.
«Курган» можно условно разделить на две неравные части.
В первой, обращенной в прошлое (“татарская” строфа), воссоздан образ времени бурного кучумовского натиска, уничтожающей быстроты, воплощенных в понятиях и метафорах стремительности, полета: Копье татар ‹...›, Летит ‹...› Сибири конница ‹...›.
Во второй, “русской” части стихотворения (2-я и 3-я строфы) в монументальном образе кургана должны были бы господствовать метафоры неподвижности, символизирующие смерть, забвение и одиночество (как, например, у А.К. Толстого: „Курган одинокий стоит”; „По-прежнему гордо стоит”; „Безмолвен курган одинокий”; „С кургана забытого прах”).27![]()
Однако у Хлебникова глагол неподвижности, бездействия, смерти (лежит суровый запорожец) явно связан с мотивом движения, звучащим в неожиданном художественном парадоксе, невероятно объединяющем понятия времени сегодняшнего, вообще быстротекущего (часы) и времени вечного (столетий): часы столетий. Этот же мотив движения (причем не живой природы, а самого символа неподвижности, забвения и одиночества — кургана) столь же внезапно выражен в еще одном парадоксальном образе: Курганный день течет скорее.
Так образ времени осуществляет связь условных национальных частей стихотворения. То, что бессильно клонилось и ложилось в землю под смерчем татарских копий, осталось живо, и жизнь эта воплощена, конечно, не в свисте суслика, рожицах лис и несущемся коне, а в ощущении неумирающей народной силы и ее символов: и в бессмертном курганном воине, и в стремительном течении курганного дня. Эти символические образы “русской” части «Кургана» — отражение внутренне неостановимого, движущегося времени, которое противопоставлено как бы остановившемуся времени первой строфы, выраженному лишь метафорами преходящего движения, не связанного с символикой исторической памяти.
Во всех произведениях этого ряда главным было осмысление Хлебниковым времени не просто как некой объективно движущейся от прошлого к будущему философской субстанции, а как художественного образа, развитие которого отражает национально-историческое восприятие мира, реальный исторический процесс в сознании народа и поэта.
Современник писал:
Не будем здесь полемизировать по поводу отношения Хлебникова к настоящему — думается, в этом автор воспоминаний неправ, о чем у нас еще будет повод поговорить. Что же касается прошлого (так же как и будущего), то наблюдение мемуариста точно и глубоко: Хлебников действительно „дышал веками”, и историзм мышления — одно из главных свойств его творчества, в частности — русско-восточной проблематики его поэзии.
Перекличка исторического с современным всегда проходила у Хлебникова сквозь призму философского осмысления бытия человека и человечества. Так, эпоха татаро-монгольского ига, помимо опытов, где она получала освещение с национально-патриотической точки зрения, в стихах предвоенных и военных лет (1912–1915) воспринята поэтом именно с позиций философского гуманизма. “Ориентальное” и “историческое” привлекается теперь прежде всего для более художественно-конкретного, закрепленного в эмблематической формуле или имени, воплощения идеи. Это позволяет выразить ее в максимально рельефной символико-метафорической форме, обусловливающей возникновение в сознании читателя ассоциаций и связей между еще, быть может, не постигнутым настоящим и уже известным и пережитым прошлым.
Подобный историко-ориентальный рисунок обретает тема смерти, которую несет с собой война, в стихотворении, где оба эти понятия вынесены непосредственно в заголовок: «Война — смерть». Опрокидывая события первой мировой войны в прошлое, во времена татаро-монгольского ига, Хлебников отнюдь не стремится изобразить здесь столкновение Запада и Востока, Руси и Батыя. Он, так же как и в поэме «Дети Выдры» (в чем мы убедимся ниже), видит истоки зла в сшибке войны и мира, смерти и жизни. Человек его эпохи как бы сам движется к концу, к гибели, к наву, ибо не может противостоять войне. Конечно, здесь нет художественного анализа социально-исторических корней той мировой бойни, которую развязал империализм в середине 910-х годов. Но здесь есть естественный и эмоционально закрепленный системой художественных ориентально-исторических символов ужас поэта перед кровавой бойней, его крик, вопль, призыв остановить смерть, которая распростерла крылья над державой (2, 191).
Входя в мир истории, Хлебников начинает мыслить категориями прошлого. Его человек — это витязь жизни; так образуется неологизм жиязь, образованный из лексем обоих слов. Но его жиязь бессилен перед смертью, обретающий облик, “привычный” для потомка русских воинов, не устоявших когда-то перед такой же тупой, смертоносной и рушащей все на своем пути силой:
Уподобление “смерть — татарский хан” (или ханьша ) продолжено в еще более конкретном, живом образе:
Таким образом, тема война — смерть обретает ту историческую эмблематику, которая восходит к древним, но не забытым эпохам татарского владычества, олицетворенного как бы в пробудившемся образе-воспоминании грозного татарского хана и узкоглазой Смерти-ханьши, — к эпохам, когда слова ‘татары’ и ‘смерть’ были понятиями однозначными.
Их синонимическое сдвижение в сознании человека Древней Руси и использует Хлебников, образуя иное метафорическое сдвижение: с подменой одной из составных частей художественного бинома (‘татары’) ее новой, философски-расширенной и современной формулой — “война”. Эту формулу он и закрепляет непосредственно названием стихотворения: «Война — смерть». Древнеисторическое и ориентальное становится одним из способов эстетического воплощения проблем, волнующих Хлебникова в 1913 году и связанных с его общей концепцией единства человеческой культуры и бессмысленности взаимного уничтожения главной ценности всех эпох и народов — человека.
В этом же плане воспринимается и весьма частое обращение поэта к историческому образу Александра Македонского, прошедшему в дооктябрьской поэзии Хлебникова известную эволюцию.
Впервые он появляется в стихотворении 1909 года «Вам», посвященном Михаилу Кузмину, которого Хлебников называл своим учителем.29![]()
Здесь названы три прозаических произведения М. Кузмина: «Кушетка тети Сони» (1907),30![]()
![]()
![]()
Тем не менее в тексте «Вам», где речь идет о Кавказе (Каргебель и Гуниб), неожиданно, как всегда у Хлебникова, сквозь удивительно своеобразные картины дагестанской природы прорывается историческая тема, связанная с восточными походами Александра Македонского — тема, восходящая, судя по смыслу некоторых образных вкраплений, именно к повести М. Кузмина. Стихотворение завершается следующим четверостишием:
Судя по историческим и историко-художественным материалам, никто из писавших об Александре, в том числе и М. Кузмин, никогда не упоминал Кавказ как поле его военных действий и тем более как место смерти “победителя” многих восточных народов. Прослеживая путь Искандра из Македонии в Северную Африку, Междуречье и Восточный Иран, в Среднюю Азию и Индию, древние историки и художники (среди которых М. Кузмин перечисляет „Каллисфена, Юлия Валерия, Викентия из Бовэ, Гаултерия де Кастильоне ‹...› Лампрехта, Александра Парижского, Петра де С. Клу, Рудольфа Эмского ‹...›, Ульриха фон Эшенбаха и непревзойденного Фирдоуси”33![]()
![]()
Можно выдвинуть несколько гипотез относительно “ошибки” Хлебникова. (Априори это слово берется в кавычки: эрудированнейший поэт ошибок в сфере исторической фактологии не допускал).
Первая гипотеза маловероятна и может быть упомянута лишь, так сказать, в качестве “оправдательной” версии. Суть ее заключается в том, что Хлебников, возможно, обращался не только к современным или названным Кузминым, но и к некоторым другим историкам, среди которых были отдельные античные авторы, иногда именовавшие “Кавказом” южную оконечность Каспийского горного побережья (Западный Иран), где действительно воевал, преследуя Дария, Александр Македонский. После битвы при Гавгамелах „Дарий бежал в Мидию, а потом в горные, малонаселенные и труднодоступные местности на юг от Каспийского моря”,35![]()
![]()
![]()
Мысль о том, что Александр побывал на Кавказе, могла возникнуть у Хлебникова и по той причине, что некоторые линии его творчества генетически восходят к «Искендер-наме» Низами, где пространство и время существования и царствования главного героя — Александра Македонского, Искендера — не ограничены никаким реальным регионом и никакими реальными эпохами. У Низами он действует одновременно и в своем времени (IV в. до н.э., битвы с Дарием), и в X в. н.э. (появление в царстве Берда’а), возникает не только там, где он действительно побывал, но и в Китае, в области русов, в Армении, в Грузии (где он, по Низами, закладывает новый город — Тбилиси), в Азербайджане, где он, согласно «Искендер-наме» освобождает от русов царицу Берда’а Нушабе (территория нынешнего Карабаха) и т.п.38![]()
Однако наиболее плодотворной кажется иная гипотеза. Хлебников, думается, включал Кавказ в общую систему понятия “Восток”. И потому трижды повторенное слово здесь в концовке стихотворения «Вам» (Здесь лег войною меч Искандров, // Здесь юноша загнал народы в медь, // Здесь истребил победителя ‹...› и т.д.) относится к Востоку вообще, а не к конкретному, локализованному в предшествующем тексте стихотворения понятию, связанному с дагестанскими впечатлениями Хлебникова.
Если осмыслить тему западно-восточных сшибок и отношений, связанных с походами Александра Македонского, с его “политикой слияния”, „объединения Азии и Европы ‹...› на равных началах в государстве, охватывавшем население почти всей ойкумены”,39![]()
![]()
Появление темы Искандра в стихах, где мысль поэта обращена прежде всего к России (Думал о далекой Волге ‹...›, думал о России ‹...›), в которой, как известно, не побывал великий македонец, может показаться нелогичным. Но для понимания проблемы необходим не частный, а общий взгляд на мировосприятие и жизнь художественного сознания Хлебникова. Россия для него — средоточие Запада и Востока, их исторических сшибок и исторического взаимотяготения. Если условным символом России в стихотворении «Вам» является Волга, то эмблематическими образами Запада и Востока, очевидно, служат меч Искандров и остающийся “за кадром” персидский царь Дарий, побежденный Александром. Связь всех этих социально-исторических фигур, понятий и символов в мироощущении Хлебникова осознанно-закономерна: она не только проявлена в художественном потоке его сознания («Вам»), но и декларативно заявлена в «Свояси» (1919), где поэт раскрывает замысел «Детей Выдры», которые рассказывают о Волге как реке индоруссов и используют Персию как угол русской и македонской прямых (2, 7).
Эта декларация объясняет, по сути, не только движение важных идей поэмы «Дети Выдры» (к которым мы еще вернемся), но и смысл возникновения “неожиданного” образа Александра Македонского и упоминания о его персидских походах в стихотворении, где магистральными являются раздумья автора о России как социально-исторической субстанции, воплощающей в себе угол и стык взаимопритяжения Запада и Востока. Этот мифопоэтический “Востокозапад” Хлебникова есть точка отсчета его историко-художественного мышления.
Историческая, а по сути полуфантастическая повесть М. Кузмина, использовавшего многие античные и поздние апокрифы и легенды,41![]()
![]()
![]()
![]()
Упоминание повести М. Кузмина в стихотворении «Вам», так же как и возможное использование ее отдельных образных элементов или сюжетных версий, вместе с тем не дает оснований для того, чтобы обнаружить какую бы то ни было духовную, внутреннюю связь между этими произведениями. М. Кузмин, по сути адаптируя сочинения древних историков, легенды об Александре Македонском и творения великих восточных поэтов, писал легкое чтиво для потребителей “масскультуры” той эпохи; Хлебников воссоздавал абрис национально-своеобразного и онтологического мира Востока и Запада, переплетая, пересекая в своем художественном сознании их историю, географию, природу и человека.
При этом Россия представляется ему пространственно-временным континуумом, который, сохраняя свое многообразие одновременно воплощает в себе единство. Мысль эта выражена в художественных структурах, избираемых, как обычно у Хлебникова, из сложного и удивляющего своей неожиданностью ряда тропов — уподоблений, метафор и эпитетов. Связующим звеном ассоциируемых субстанций является понятие целостности, вне которой, по Хлебникову, не может существовать ни Россия, ни поэзия. Их диалектическое многоцветье, в котором отдельное не существует вне общего, а общее неразложимо на составные, показывает, что Хлебников воспринимает родину и искусство, пространство и поэзию, время и стих как соотносимые сквозь призму национально-гуманистического взгляда системы, объединенные причинно-следственными связями, выразить которые способен лишь художник и его творение — божественно-звучащий стих.
Конечно, здесь легко обвинить Хлебникова в идеологической нейтральности подхода к понятию “Россия”; однако не следует забывать, что у молодого поэта не было осознанного стремления обойти проблему социально-исторических и национальных противоречий, раздиравших Россию его времени, избежать сложных вопросов и их художественных решений. Отнюдь нет. Просто у раннего Хлебникова на полотно ложатся прежде всего краски непосредственных впечатлений от увиденного и познанного — от только что прочитанной повести «Подвиги Великого Александра» с ее весьма живописной палитрой и образностью, восточным духом и содержанием, в свою очередь вызывающим в памяти картины живого Востока, где недавно путешествовал сам Хлебников: заросших цветами горных полян Дагестана, диких ущелий Каргебиля, исторических преданий Гуниба:
В этом контексте остались незатронутыми весьма важные социально-исторические пласты поднятой в стихотворении проблемы, ибо оставались неразбуженными еще очень значительные глубины политического сознания Хлебникова. Однако формальный и содержательный уровни произведения не оставляют впечатления намеренного ухода от острых социальных проблем. Наоборот, там где Хлебников касается их, даже попутно, он мыслит именно социально. Не случайно ведь Каргебель и Гуниб не просто упомянуты в стихотворении как некое географическое понятие — метафора могилы вольности включает их в систему категорий социально-оценочного ряда: в Гунибе когда-то был пленен Шамиль.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что пока этот ряд не выступает у Хлебникова как основной. Главным ему кажется иной, общегуманистический подход к истории и современности, который, повторим, ни в коей мере нельзя назвать идеологически нейтральным, ибо в своей сущностной магистрали этот взгляд смыкался с теми элементами национальной культуры России, которые через несколько лет Ленин назовет демократическими и важными для понимания общего развития человечества.45![]()
Ход мысли и ее художественное воплощение в приведенных выше стихах ясны. Через эстетическую систему контрастных, порой взаимоисключающих сопоставлений, оксюморонов, антитетичных или разнородных художественных рядов (“то бег, то рысь”; “их — нас”; “Кавказ — Волга”; “бело-красные”; “страшной прелестью”; “дика — мила”) Хлебников парадоксально утверждает мысль о возможности единства различного, несходного, даже, как мы видели, взаимоисключающего — как одного из важнейших условий исторического бытия человечества. Не случайно поэт завершает стихотворение о кавказской природе, о Кавказе и России “неожиданным” четверостишием об Александре Македонском: Хлебников вновь, как и в других, казалось бы, “неисторических” стихах, опрокидывает сегодняшний день в прошлое, стремится уловить всеобщую связь явлений (которую не может ни отменить, ни изменить ни течение времени, ни отдаленность их друг от друга в пространстве) в измерениях национального, психологического, этнического и любого иного человеческого ряда.
Обращаясь в прошлое, Хлебников, в отличие от тех, кто искал в нем образцы для подражания, чаще всего (особенно в годы первой мировой войны) избирает сюжеты и мотивы из истории битв, сшибок, сражений, противоборств Запада и Востока, раскрывая эти исторические факты и события прежде всего в том аспекте, который на современном языке именуется идеей сосуществования разнонациональных общностей, невмешательства народов и племен в жизнь друг друга. Даже “проходной” мотив в любовном по основному содержанию произведении «Я» (экспозиция стихотворения), кажется, не связанный с течением лирического “сюжета”, но обращенный к истории, сразу же включает нас не просто в древний мир, воссозданный воображением поэта, но в мир его отношения к далекой эпохе западно-восточных столкновений.
Образ чуждого Востоку завоевателя-зумзумима здесь предельно типизирован с помощью множественного числа собственного имени римского диктатора (О, Цезари, идите мимо!), которое должно было быть написано со строчной буквы.46![]()
Все это вместе взятое призвано передать не столько противоборство “западного” и “восточного” в определенный момент истории, сколько “всемирно-историческую” идею необходимости противостояния гуманистического — античеловеческому, закрепленную в образе самого автора, вмешивающегося в “реальный” исторический сюжет: Идите мимо // Так к зумзумимам я воззвал. Немаловажно, что это вмешательство, так же как в «Кубке печенежском», “исходит”, так сказать, с “обратной стороны” (ведь враждебное по отношению к зумзумимам мнение Востока разделяет и выражает Волгарь — тоже человек “чужой крови”). Но еще более существенна общая позиция Хлебникова, осмысляющего движение времени с точки зрения принципа единства людей разной крови. История — утверждение в Древнем Египте Гая Юлия Цезаря, убийство Помпея, отстранение от престола юного Птолемея XII, воцарение с помощью римлян Клеопатры, враждебное отношение к ним египтян — все это (естественно, известное Хлебникову, называющему конкретный источник) становится в экспозиции стихотворения лишь подразумевающимся и знакомым осведомленному читателю ориентально-событийным фоном.47![]()
Так же как мифология, фольклор, восточная классическая поэзия (в чем мы еще успеем неоднократно убедиться), история, привлечение в качестве сюжетов реальных исторических событий, а в качестве героев реальных исторических лиц (в частности, Александра Македонского, Цезаря и др.), — все это переработано в творческой “лаборатории” Хлебникова для того, чтобы донести до читателя именно данную кардинальную идею, владевшую его художественным сознанием и определявшую и выбор тем, проблем и героев, и поиск адекватных стилевых средств ее поэтического воплощения.
Хлебников представлял собой удивительный тип художника (а может быть единственного художника), соединяющего в своем сознании способность поэтически мыслить категориями сегодняшнего дня, исторической науки его времени и — одновременно — представлениями о мире в его миллиардолетней протяженности: забираясь в эпохи доисторические и дочеловеческие. Это не синтез современного художественного сознания с мифологическими представлениями о Вселенной: это — способ художественного проникновения в общемировое движение бытия от момента его возникновения до момента сиюминутного восприятия.
Поэтому так неожиданны переходы от мысли к мысли, от картины к картине, от образа к образу в произведениях Хлебникова, так причудлива их композиция, архитектоника, “сюжетные”, временные, пространственные перебросы; но то, что напоминает при первом чтении хаос, совсем иначе воспринимается, когда стихотворение поставлено в ряд с другими творениями художника. Творчество Хлебникова — это поэтическая вселенная, где все частицы могут быть познаны и поняты лишь в их единстве, ибо только в единстве доисторического, исторического и настоящего, дочеловеческого, человеческого и сверхчеловеческого воспринимал мир Хлебников.
В этом потоке художественного сознания единство, естественно, не возникает как некая чисто эстетическая категория: оно есть прежде всего единство мысли. Что это за мысль? Используя известные философские формулы, можно определить ее так: всеобщая связь и взаимообусловленность явлений. Эта закономерность “выведена” Хлебниковым, конечно же, не абсолютно стихийно, ибо, сын своего века, он, даже будучи далеким от осознанного изучения социально-философской теории марксизма, естественно, не мог избежать влияния и спонтанного постижения тех реальностей, которые совпадали с его собственным опытом, знаниями, мировосприятием.
Для нас важно установить, что при всем понимании разделенности мира — в плане пространственном, временном, социальном, национальном, т.е. и физическом, и духовном, — Хлебникову всегда была дорога и важна идея неизбежной и закономерной нерасторжимости и связи “атомов” этого мира. Эта связь могла в его мышлении быть воспринята и как соответствие, и как несоответствие; и как единство сходства, и как единство противоположностей; и как слиянность, и как контраст. При решении той проблемы, которую мы избрали как одну из магистралей хлебниковского художественного мировоссоздания, проблемы “Запад — Восток”, понимание этих “краеугольных камней” его восприятия мира, вселенной, человеческого общества дает, нам кажется, необходимый угол зрения, позволяет находить точку отсчета для частных анализов и установления некоторых общих закономерностей ориентального творчества Хлебникова. Ибо именно эта часть и сфера его наследия всегда лежит на пересечении взаимосвязанных и взаимоисключающих понятий, что раскрывается в самом смысловом контексте формулы “Запад — Восток”, которая воспринималась Хлебниковым как символ человечества в его закономерной сцепленности, слияннности и его несходстве, разделенности, наконец, вражде.
В течение первого десятилетия своей поэтической деятельности Хлебников отразил все грани и формы этих связей Запада и Востока: от откровенного шовинизма откликов на Цусиму до деклараций о братстве народов Запада и Востока. Примерно с 1909 года в его поэзии укрепляется тенденция гуманистического воплощения формулы “Запад — Восток”, ее восприятия и воссоздания как поэтического символа единства человеческой культуры. В любом стихотворении 1909–1917 гг. (не говоря уже о стихах пооктябрьского периода) возникновение ориентального образного ряда (к какой бы эпохе, теме, семантико-стилистической наполненности он ни относился, как неожиданно бы ни звучал) так или иначе воплощает именно эту тенденцию.
Проследим этот процесс восприятия и воплощения “восточного” как одного из атомов “вселенского” хлебниковского поэтического сознания, вернувшись к стихотворению «Вам», хотя бы к той его части, где, рассказывая о путешествии по Кавказу, художник описывает камень на поляне среди цветов. Конечно, его ассоциации и образные перебросы всецело сцеплены непосредственно с кавказской, т.е. восточной, средой: с воспоминаниями о преданиях, посвященных пленению Шамиля (Могилы вольности — Каргебель и Гуниб), с уже цитированными картинами первозданной дагестанской природы.
Однако это лишь поверхностный пласт размышлений поэта, чья мысль постоянно движется вглубь и, развиваясь, захватывает сферы пространства и времени, по сути, беспредельные и бесконечные.
Связь вещей, предметов, существ разных эпох возникает в движении поэтического взгляда от наблюденного к воображаемому, от реального к фантастическому; но и воображенное, и фантастическое у Хлебникова не вымысел, а лишь представление о той или иной исторической (или доисторической) реальности, в основании которой лежат научные или мифологические истины: ведь и мифология есть система представлений — о мире, опирающаяся если не на познанное, то на угадываемое или воображенное.
Камень, похожий на надгробье пророка, видимо, — ракушечник (мощи старинной раковины ‹...› на камне выступали). Отсюда — образ моря: Кавказ, его горы, ущелья, пропасти были моря ощеренным дном — когда-то миллионы лет назад; отсюда и образ чудовища, обитавшего тогда на Земле, — тысячекостного, грознокрылатого, полуморского, полуземного: взор поэта, проникая сквозь толщу не веков, а эр, видит быстроглазую ракушку — современницу, свидетеля этого чудища, а сегодня — изогнутую в козлиный рог частицу камня, увенчанного чалмой и похожего на надгробье над могилой пророка...
Так замыкается круг Времени в мгновенном раздумье художника, в котором вещно-сегодняшнее и вещно-доисторическое образует некое единство — материальную историю Земли. Но в это единство вступают и духовные ассоциации, в которых образы восточной мифологии, связанные с поклонением богам и пророкам (цветочная поляна у Хлебникова — моляна “священному камню”; цветы обступили его, как учителя дети: это образ пророка-вероучителя, соответствующий восточным, в частности, кораническим представлениям и т.п.), перекликаются с образами русских былин (новгородская былина о Садко, композиционно и семантически слитая с темой морского дна, которым теперь стал Кавказ).
Все это спонтанно и вместе с тем художественно-цельно выражает мирочувствование Хлебникова как систему, в которой ориентальные образы, символы, реалии естественно становятся рядом с собственно-национальными вещными и духовными эстетическими рядами — даже в тех случаях, когда его воображение переносит нас в те далекие периоды существования Земли, когда еще не было ни Запада, ни Востока. Подобное сцепление, слияние разнонациональных ассоциаций во “всеобъемлющем” взгляде поэта на миллиардолетний ход времени создает ощущение неразложимости человеческого мира в его художественном сознании. Он так же диалектически жив и вечен, связан незримыми нитями земных закономерностей бытия, как живущие, казалось бы, лишь одну весну цветы — и древний зоркий камень, глядящий на мир глазом ракушки; как текущая в море Волга — и бывший морским дном Кавказ, как полунеземная тоска доисторического чудовища — и ужас самого героя, скачущего на коне по легкой складке бездны; как македонец Искандр — и персидский царь Дарий, образами которых завершается стихотворение «Вам»...
То, что у многих других поэтов выступает лишь как система приемов, воспринятых инонациональных образов, запечатленных картин Востока, ориентальных перевоплощений, создающих глубокие реалистические характеры и среду Востока (что дает возможность исследовать проблему как двусоставную: “Имярек и Восток”), у Хлебникова неразложимо: отдельного “Востока Хлебникова” нет — есть мир Хлебникова, в котором “восточное” не составляет дискретной системы, а может быть воспринято лишь как грань духа, художественного сознания, объемлющего пространство и время в их человеческом и потому своеобразно-национальном единстве.
Поэзию (в частности, и свою собственную) Хлебников воспринимал как мощный импульс и средство взаимопонимания и взаимотяготения культур, как явление, символизирующее (и одновременно стимулирующее) высокое единство разнонациональных сил человечества.
В стихотворении «Воспоминание» поэт утверждает свою цель в излюбленном синтетическом образе, пока еще бинарном (в «Единой книге» 1920 года этот образ масштабно разветвляется), сливая географические понятия-олицетворения, относящиеся к разным континентам (Миссисипи и Нил), в символ некой духовной общности, что подчеркнуто эпитетом: умный Нил:
Чтобы углубить ощущение не просто “горизонтальной”, пространственно-географической, но прежде всего “вертикальной”, исторической связи народов и их культур, здесь использован типичный для Хлебникова прием расширения “единичного” ономастического знака (Эхнатон — ‘Благой для Солнца’ — имя, взятое себе египетским фараоном Аменхотепом IV) до уровня общеассоциативной метафоры-символа: превращение имени в явление закрепляет впечатление историзма, осмысленного художественным сознанием поэта. Образ автора здесь важен не в самопредставленном местоимении “я”, а в его профессиональной ипостаси, воплощенной в традиционных эмблемах Слова и Поэта: в моем пере, в певучем скрипе. Именно художник призван воплотить духовную связь всех, кто жил или живет при Эхнатоне или сегодня — на Миссисипи и на Ниле, на Западе и на Востоке.
Таким художником и был Велимир Хлебников. Его поликультурная ориентация и гуманистическое начало художественного сознания лежат в основании той западно-восточной концепции, которая с максимальной глубиной проявилась в эпических опытах поэта. Их анализом мы и завершаем рассмотрение дооктябрьской “ориентальной” поэзии Велимира Хлебникова.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 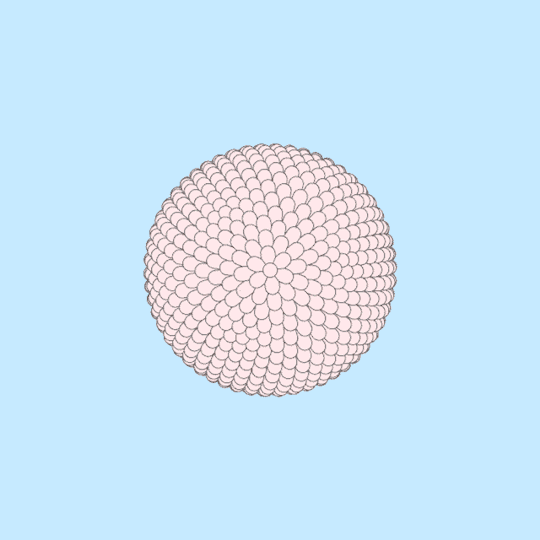 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||