

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колеблет, относит, толкает.
Борис Пастернак. Степь
Но мне милей в глуши садов
Тот ветер тёплый и игривый,
Что хлещет жгучею крапивой
По шапкам розовым дедов.
Иннокентий Анненский. Ветер
Из отдыха и вздоха
Весёлый мотылёк
На край чертополоха
Задумчиво прилёг.
Велимир Хлебников. Любовь приходит страшным смерчем…
Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый,
в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется “татарином”
и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники,
чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета.
Лев Толстой. Хаджи-Мурат
Ни на чем не настаиваем — игра есть игра, подсказки получаем у поэтов. Собственно, в этой сфере соприкосновений-контактов и размещаются наши интересы, из-за чего рискуем предположить, что гимназические игры поэзии распространялись и на “кинока” из Белостока.
Мастер, торгующий великолепным штучным кинотоваром, от рождения был награжден соцветием еврейских имен-символов: Давид Абелевич Кауфман (в прообразах — псалмопевец Давид, одновременно сын Авеля, купца и человека). А стал он изобретательным Дзигой Вертовым, в быту почтенным Денисом Аркадьевичем. (Не забудем, что и его младший современник, полный тезка Давид Кауфман, обернулся чудным российским поэтом Давидом Самойловым. Так тогда вынуждали самовыражаться, простите за выражение.)
Обещанных цитат из книги Юрия Цивьяна «Историческая рецепция кино…» (Рига, 1991) будет две (остальное постараемся донести в пересказе). Вот первая цитата: „Как и “идеальный город”, построенный из кадров «Человека с киноаппаратом», идеальный зритель этого фильма мыслится не в настоящем, а в будущем“. Это финал главы «Рецепция как расшифровка» (с. 391). Мы тоже из будущего, тоже зрители, но идеальными быть не можем, а лишь хотим участвовать в расшифровках в меру собственных и чужих догадливостей (которые в сумме, вестимо, бывают случайными и чрезмерными).
Вторая цитата из книги: „Семантическое поле слов ‘строчить’, ‘строчка’, прямо связанное с крайне важным для Вертова миром поэзии и письма, посредством концепции “кинописи” распространяется и на процесс монтажа“ (с. 372).
Из геометрии вертовского фильма нас более всего интересует симметрия, как чисто визуальная, так и образованная монтажно за счет словесных (межъязыковых) омонимов, сезамом к которым и служит появляющееся в кадре название папирос — «Пароль», то есть “слово”.
Зрительная симметрия в фильме идет по возрастающей, и крещендо в ней, наглядным уроком несбыточности, служит веер, которым распускаются (как павлиний хвост, как альбом и бабочка) равные доли Большого театра (включая сквер перед ним). Это не взрыв, а книга отражений (заметим, в фильме о Городе принципиально отсутствует ценимое природой зеркало водных дубликатов). Ремесло киноаппаратуры само творит сказочную быль.
Иллюстрируют ту же симметрию сопутствующие монтажные кадры. Маятник часов с тремя точками под ним (налево, центр, направо) движется с ускорением, хоть ему так и не положено. Так же “бегают” глаза. Занавес в кинотеатре распахивается равными складками, обрамляя экран и прямо ведущий к нему проход меж кресел. Два трамвая движутся по площади параллельно и навстречу друг другу. Поезд идет на зрителя по ленте рельсового пути. Расходится по стыку арка парных створок стеклянных дверей. Самолет-биплан летит над головами — индустриальный аналог крылатых существ.
Напоследок в фильме второй раз появляются кадры с каким-то мостом. Монтажный стык ассоциативно выявляет чисто словесную связь театра и моста — сцену, подмостки. Впрочем, есть путь еще ближе, ведь театр и впрямь самый Большой, то есть может быть обозначен английским словом most.
Кружевная дуга, предъявленная в кадре, опознается как достопримечательность холмистого Киева, — пешеходный Чертов мост, переброшенный над прогулочной Петровской аллеей; он соединяет два парка, раскинувшихся на днепровских кручах. Но при монтаже фильма совсем не важна топонимика этого конкретного сооружения, для зрителя излишними сведениями прозвучали бы констатации примет в титрах — город, название моста, улицы или аллеи, имя автора проекта (Евгений Патон), подрядчик (Николай Смирнов), время постройки (1910), способы крепления и прочие градостроительные и краеведческие подробности.
А что же не кажется нам избыточным? Разумеется, то, что остается за кадром, — словесные игры, которые при расшифровке обогащают зрительское восприятие, а при дальнейшем анализе радуют неожиданностями в самых знаменитых стихотворных текстах.
В практике поэтов ХХ века тема и вариации слова ‘мост’ имеют ветвистую разработку с неожиданными отскоками и внезапными метаморфозами. Никакая внутренняя подготовка не застрахует читателя от смешанного чувства потрясения, раздражительности и улыбки.
Мост (нем. ‘Brücke’) — образчик тройного “закадрового” дубляжа симметрии, так как, во-первых, симметричен сам по себе (коромысло, соединяющее две точки), во-вторых, напоминает о мнемонике теоремы, по которой „пифагоровы штаны во все стороны равны, чтобы это доказать, нужно снять и показать“. Ну, а в-третьих (это похоже на обратный перевод), французы называют чертеж “пифагоровых штанов” — ослиный мост.
Кроме подспудных указаний на означенные брюки, штаны, панталоны, шаровары, кальсоны, трико и прочую одежду телесного низа, плохо вяжущуюся с вдохновенными порывами поэзии, “мосты” в стихотворной речи перебрасываются через реки , рвы, пути, и тропинки, ведущие к высоким сферам царей, жрецов, палачей, актеров, священнослужителей и прочих морских чудищ. Перечислим:
А теперь обратимся к нескольким примерам, чтобы воочию понаблюдать за постройками, где вся эта машинерия внедряется в практику стихосложения. Разумеется, привлечь удастся лишь малую толику поэтических текстов, а именно только те, где мосты наведены “заметно” и их можно выделить без ущерба для иных мотивных вариаций.
Начнем с утвержденного мастака и отъявленного монтажника-высотника — Велимира Хлебникова. Большинство его поэм и все сверхповести построены по монтажно-лоскутному принципу, “способом окрошки”, по собственной аттестации автора. А уж что касается иностранных слов, то поэт замел следы так искусно и убедительно, что весь мир уверовал в чистоту и непогрешимость славянских помыслов и зверобойно-корнесловных промыслов Велимира. И то сказать, широковещательной клятве, данной в юности urbi et orbi (Не употреблять иностранных слов!), он был неукоснительно верен. Да, вслух, гласно и наглядно Хлебников ее никогда не нарушал. Потому трудно поверить, на каком изысканном межъязыковом фундаменте зиждется поэзия будетлянина — подспудно.
Стихотворение «Крымское» написано летом 1908 года в Судаке, сохранилось несколько его вариантов. Отправным пунктом хлебниковских экзерсисов было главное слово Крыма — ‘море’ (понт), оттого оно и гуляет в непроизносимых при барышнях панталонах (или кальсонах):
В течение полутора десятилетий по разным поэмам Хлебникова почти неизменным проходит повтор автоцитаты о сомнительных заслугах балетной красавицы. В «Ладомире» (1920–1921) этот пассаж оформляется в опознаваемые строки об особняке Матильды Кшесинской, с балкона которого проповедует Ильич:
Можно, конечно, предположить, что исторически праведное море никак не желает простить танцовщице Цусиму. Но в одном из начальных вариантов строкам предшествует отсыл к мосту (Могильным сводом дикий мост / Здесь выгнула земля…), а уж затем следуют угрозы моря и подробное смакование виртуозной техники (Не больше бел зимы снежок, / Когда, на пальцах ног держась, / Спрямит с землею сапожок, / Весенней бабочкой кружась — из поэмы «Любовь приходит страшным смерчем…», 1912). Все сказано безукоризненно по-русски, но вышивка произведена по иностранной канве: своднический мост-понт бросает изобличения моря-понта к пуантам резвой плясуньи.
Из этого бисерного шитья выросла крупная вещь Хлебникова — грозная драматургическая поэма «Гибель Атлантиды» (1912). Виновником потопа оказался балет. Равновесие города (Атлантида в поэме — город) держится на неустойчивом коромысле сосуществования двух особ — божественного жреца и низменной рабыни. Он думает и священнодействует, она пляшет и развлекает. Решив, что похоть и веселье отравляют молодежь, строгий блюститель нравов самочинно постановляет убрать непотребную красотку и просто-напросто отсекает ей голову. Высокое и низкое меняются местами: голова рабыни с устрашающими змеями-волосами Медузой Горгоной плывет в тучах по небу, а жрец идет на дно вместе с проклятым городом, принявшим кару потопа.
Подспудный словесный движитель легко укладывается в управленческую схему. Разумеется, всем руководит мост-понт — коромысло весов. Гармонический баланс возможен, пока две половины единицы живы, пока они вместе. Рабыня ставит в укор жрецу чрезмерную жестокость: Любезным сделав яд у ртов, / Ты к гробам бросил мост цветов. Плясунья (пуант) упрекает и дразнит жреца-понтифика, он ее убивает. Мост разрушен, море-понт обрушивает месть на город-мiсто.
В арифметике действует правило, по которому при перемене мест слагаемых сумма не меняется. К поэзии оно не применимо, в ней одни и те же компоненты образуют различные узоры текстов. Примемся за опознавание слагаемых в поэме Хлебникова «Ночной обыск» (1921), написанной к четырехлетию Октября и первоначально названной «Переворот Советов». Равновесие мира давно утеряно, в военном споре победили красные; морские орлы сверху, королевский ‘рояль’, символ династического “орла”, далеко внизу. Хлебников полагает, что такое скорбное развитие исторических событий было предопределено для России, над которой, подобно Атлантиде, сомкнулись валы стихийно разбушевавшегося моря.
Конструктивный трафарет с интересующими нас вариативными сочетаниями выявляется построчно в сюжете. Пришедшие в квартиру с обыском матросы иначе как море! (или годок!) друг к другу не обращаются (Эй, море, налетай! Налетай орлом!). Учинив самосуд, они велят “белому” юноше раздеться перед расстрелом: Штаны долой / И все долой! / И поворачивайся, не спи — / Заснуть успеешь. Сейчас заснешь, не просыпаясь! О своем одеянии они тоже не забывают (Штаны у меня широки…), а затем уж совсем подробно живописуют:
Отсюда мы узнаем символическое имя их судна — «Россия». Моряки трижды заказывают собственную погибель. Первый раз, когда жаждут устроить попойку на месте расстрела: Будет пир, как надо. // Да чтоб живей… Это провидческое приближение той пиротехники, в огне которой они погибнут. Второй суицид матросский вожак пытается спровоцировать, вызывая на дуэль изображение на иконе, обращаясь к Богу, лучи из глаз которого мыслятся ему выстрелами. Символика третьей смерти крылась в разбитом о мостовую рояле:
По Хлебникову, в 1921 году наступил переворот переворота. Братоубийственная война привела к проигрышу и белых и красных, монета игры в “орлянку” легла на ребро, “орел” и “решка” стали крестами-точками (point) на погостах:
В финале поэмы старуха-мать (Россия) поджигает жилище, и в огне гибнут все, и хозяева и непрошенные гости — пришельцы с корабля, плавучего дома “Россия”. Все мосты и корабли сожжены. Матросы (море-понт) в брюках-клёш (нем. Brücke ‘мост’) сгорают после того, как выбросили на мостовую рояль. Поющий инструмент они именуют барахлом и рухлядью (нем. Mist). После чего главарь морского дозора обращается к смотрящим на него с иконы глазам, \\ (к Богу-понтифику) — \\ с просьбой покарать его:
Настойчиво, семь раз, в тексте произносится анаграмма ‘моста’ — глагол ‘смотреть’; поэма могла бы числиться “Ночным смотром”. Важность точки зрения (нужно сеять очи!) заложена в сомнительности названия (“очи ночи”). Редактор текста (если бы Хлебников таковых подпускал к своим наволочкам) сразу и несомненно выявил бы, что гневные события расстрелов, попоек и пожаров происходят в поэме днем.
Перейдем сразу к Мандельштаму — к его стихотворению «Феодосия» (1919 — 1920), „где вывеска, изображая брюки, / Дает понятье нам о человеке“. Обобщенный вывод, на который указует наивная картинка, столь же примитивен, как она сама: брюки попросту символ того, что данный человек — мужеского пола. А вот стихотворение вовсе не простодушно говорит о зрении, рисующем воздушные мосты и города неосуществленных мечтаний. Имя ‘Фео-досии’ означает, что она дарована Богом, и все в ней наглядно дугообразно, все происходит как бы под вывеской “Bogen” — дуги (включая брюки — мост). Город — мiсто окружают холмы и покатые горы, на волнах моря — понта качаются „лодочки — гамаки“, в порту бродят „горбоносых странников фигурки“, а по вечерам на улицах „пиликают, согнувшись, музыканты“. Завершает эту выгнуто-вогнутую феерию еще одна реклама: „И месмерический утюг — явленье / Небесных прачек — тяжести улыбка“.
Но есть в стихотворении о Феодосии еще один скрытый символ “дуги”, который необходим для понимания загадочного любовного стихотворения, где ‘мост’ наличествует в первом же слове, но остается невидимым из-за всеобщей приверженности к правилам правописания:
В Феодосии „горят в порту турецких флагов маки“, и для того чтобы понять, почему русская поэтесса Мария Петровых, к которой обращено стихотворение о неправдоподобной “мостерице”, вдруг превратилась в турчанку, следует вспомнить, как выглядит этот маковый стяг. Государственный флаг Турции (наследство Османской империи) — это алое полотнище с вертикальным белым полумесяцем и белой пятиконечной звездой в центре. В «Феодосии»: „Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же“.
Вокруг стержня любовного стихотворения переплетены несколько тем, развивающих и этот цвет, и дугу этого серпа. ‘Мост’ в „мастерице“ сразу ставит на место поэта, оказывающего чрезмерные знаки внимания женщине: “человек в брюках” укрощен, „усмирен мужской опасный норов“, страстно-зажигательные речи утоплены (сталкиваются значения омонимов — “жарко топить” и “топить в воде”).
Дуга бровей возлюбленной намечена точками мака, опасность таится в опиуме, погружающем в аналог смерти — сон. „Надо смерть предупредить — уснуть“. Знамя и изображения на нем ведут и к цвету („флагов маки“, „летуче-красный“), и к Турции („турчанка дорогая“), и к изогнутым формам („ребрышки худые“, „полумесяц губ“, кривой меч янычара, „кривой воды напьюсь“).
Укрощение строптивого поэта переводит отношения между мужчиной и женщиной в братски-сестринские („наш обычай сестринский таков“). К тому же ее зовут, как пресвятую Деву, Марией, она — „гибнущим подмога“. И теперь бахчисарайская героиня стихотворения наделяется чертами сестры милосердия, облегчающей страдания людей, с соответствующими своему статусу международными эмблемами — Красным Крестом и Красным Полумесяцем.
От Красного Креста зарождается еще один “литературный” виток сюжета, объясняющий, к кому восходит фантастический жест: „Я с тобой в глухой мешок зашьюсь“. Свои действия поэт готов приравнять к чудесному освобождению в морских водах заключенного замка Иф, зашившегося в смертный саван вместо аббата Фариа. На свободе беглец питал пристрастие к опиуму, остров, давший ему новое имя, зовется Горой Креста (или Распятия, или Христа); символически-мессианским рыбам следует дать облатку: „полухлебом плоти накорми“.
Восточная красавица — подруга новоявленного графа именуется Гайде. Мария Петровых мандельштамовского стихотворения облекается в волшебные одеяния дочери паши, проданной на константинопольском невольничьем рынке, а её стыдливая неприступность соответствует имени героини Дюма. ‘Гайде’, как повествуется в романе, означает ‘целомудрие’, ‘невинность’, одним словом — „мастерица виноватых взоров“.
Отчего же речь не звучит, если ее и кормят, и оказывают помощь? Да потому, что стихотворение, конечно, любовное, но также оно и о поэтическом ремесле; скажем так: оно о правописании и каллиграфии. Оно о том, что мастерство подразумевает действия полиглота, где ‘glotta’ (греч.) — язык („твои речи темные глотая...“). К тому же поэту, стоящему на „твердом пороге“ у распахнутых дверей, обладателю “утопленного”, сложившегося текста, требуется еще одно обязательное телодвижение — фиксация „для твердой записи мгновенной“, то есть обращение к графу: grapho — греч. пишу.
(Биографическая справка: почти всегда под диктовку Мандельштама готовые стихи записывала его жена, но все же не в случае любовных посланий.)
Когда Пастернаку понадобилось в «Балладе» («Бывает, курьером на борзом…»; 1916; 1928) представить перед собой чистый лист бумаги („пожизненный мой собеседник / Меня привлекая страшнейшей из тяг...“) и финальные жесты пишущего, то это стало сценой почти фарсового порыва — поэт ошалело рвался в дом к графу („Впустите, мне надо видеть графа“; „Но очи очам прохрипели: „открой!““). Классический “обвод” вокруг пальца, так как трезвый читатель непременно подставлял на место запертого хозяина великого графа русской литературы (и оставался с обманутыми ожиданиями и легким недоумением).
Мандельштам подсовывает мастерице-чтице строки о наглухо зашитом в мешок, не менее знаменитом графе мировой литературы, но дверь остается открытой: „Уходи, уйди, еще побудь“.
К сожалению, в этом кратком обзоре слишком многое пришлось оставить за кадром. Например, почти цирковой вольт в мандельштамовском стихотворении «Батюшков» (1932), где фамилия поэта (от ‘батюшка’ — поп — понтифик), священнодействуя, исполняет „дымчатый обряд“ наведения мостов: „шагает в замостье“, слышит морской „говор валов“, освежает язык „стихов виноградным мясом“, поднимает „удивленные брови“, смотрит сны „горожанина и друга горожан“ и т.д.
Что же еще в шедевре Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» может быть прочитано с двойным умыслом? Да хотя бы навязчивый плакат “барахольной” фильмы «Зеленая Мануэлла», где ‘зеленый’ в некотором смысле — подпись автора Vert, а уж ‘ман’, ‘мануэл’, ‘мануальный’ — это и люди ручного труда (о чем повествует лента), и человек с киноаппаратом, и учебник, как руководство к действию, да и подпись соавторов — двух братьев Кауф-манов.
Девушка спит на скамейке, ее сон (нем.Traum) прерывает идущий мимо нее трамвай. И неважно, что это не монтаж, а сосуществование в кадре, ведь его надо было сперва увидеть, снять, а затем еще и отобрать из тысяч метров плёнки.
Вывеска, рекламирующая пенсне, изображает глаз, вооруженный стеклом. А вслед за рекламой идет монтаж панорамы города, отражающегося в движущихся створках окон, — явный стык ‘глаз’ и ‘Glas’ (стекло). Скачет конь (нем. Roß), а его сопровождает монтаж: в пролетке у женщины огромный букет роз. Кадры рыночной и площадной толпы (нем. Schar) сопровождаются то шариками яиц, разглядываемыми на просвет, то связкой воздушных шаров в воздухе. Мелькают ноги спортсменов, а затем следует монтажный кадр: на руках у зрительницы дремлет пес (pes — лат. нога). Кстати, в своей новой книге юбиляр цитирует запись Сергея Эйзенштейна, относящуюся к фильму «Иван Грозный»: „Хорошо! “Пес” Малюта и травля псами! ‹...› Хорошо, что здесь Иван не свою ногу, а ногу Малюты — народа на шею боярину ставит“ (Юрий Цивьян. На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино. М., 2010. С. 214). Налицо та же межъязыковая “пантомима” — пес и нога.
Наконец мы добрались до наиболее интересующих нас кадров из фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Раннее городское утро соседствует с пробуждением молодой женщины и монтажно входящей в фокус веткой сирени.
Двадцать лет назад на данную поэтическую пару указала постоянная наша собеседница киевлянка Ирина Конева. Она отметила этот, еще один основополагающий для русской поэзии латинский каламбур: virga — ‘зеленая ветвь’ и virgo — ‘девушка’. Надо думать, Дзига Вертов в свое время при монтаже не прошел мимо сих широковещательных составляющих. Мы тоже при чтении стихов незамедлительно воспользовались всеобщей гимназической (и гимнастической) премудростью.
Обратимся поначалу к самым знаменитым и одновременно самым простым, то есть наглядным, поэтическим метафорам, включающим это “дивное озеленение”. А под конец присмотримся к тем захватывающим кульбитам, которые были совершены в поэзии на основе этих внешне непритязательных словесных сопоставлений.
У Саши Соколова в «Школе для дураков» (1976) несчастный “ученик такой-то” нежно и сильно любит учительницу Вету Акатову: „как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги“. Слагаемые этого имени, во-первых, — железнодорожная „Камышинская ветка“ Пастернака (расписание поездов которой, как известно, „грандиозней святого писанья“, а рельсы пути ведут к фата-моргане — любимой); во-вторых — образный пассаж Юрия Олеши из «Зависти». В романе «Алмазный мой венец» (1975–1977) Валентина Катаева: „Остальные метафоры ключика общеизвестны: „Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев“. ‹...› Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации („...белой акации гроздья душистые вновь аромата полны“), была той неизлечимой душевной болью, которую ключик пронес через всю свою жизнь...“
Понятно, что и у Пастернака, и у Олеши, и у Саши Соколова причиной и поводом к сближению девушек и веток служит латынь. Откликаясь на пастернаковское стихотворение «Нобелевская премия» (1959), Набоков пишет свою каламбурную и печальную вариацию:
Нужно было иметь неколебимое самомнение и презрение к обществу и его вкусам, чтобы добровольно распределить роли: при таком никчемном Моцарте (как этот нынешний лауреат Пастернак, написавший бросовый роман) уж лучше я, Набоков, буду расчетливым и отвергнутым Сальери. К тому же завидовать нечему, так как колдовской инструментарий моего искусства остается при мне, ведь содержимое полого изумруда тройственно — это Яд, Дар, Злость (все три значения немецкого слова Gift). Девочка Лолита, о которой мечтает весь мир, достойна соревнования лишь с гениальным автором «Сестры моей жизни», чья девочка одноименного стихотворения входит в раму трюмо веткой застланного кутерьмой сада. И никто не сможет заслонить тень такой же русской ветки на могильном памятнике Набокова.
По этим двум стихотворениям Пастернака и Набокова мы можем составить почти полное представление о дополнительных эквивалентах, сопровождающих латинскую пару “дева-ветка”. Их гораздо меньше, чем у ‘моста’, но это не помеха их поэтически-вариативному разнообразию.
Все перечисленные слагаемые равноценно сосуществуют в стихотворении Пастернака. Его героиней стала ‘бабура’, маленькая баба-женщина, бабочка. Она превращается в ураган, несущийся с пышной “гривой” тучи, которую готов срезать бритвой ветер.
И хотя последнюю строфу при поздних публикациях поэт отбросил, именно в связи с ней возникают два вопроса. Отчего это бабочка вдруг поменяла женский род на мужской? И отчего строки о водяных струях и ливне „большого дня“ так напоминают финальные слова памяти Маяковского из пастернаковского «Смерть поэта» (1930): „…бежала за края / Большого случая струя, / Чрезмерно скорая для хворых“?
Да потому что, как и обещал поэт, стихи, „повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи“. Пастернак сказал это в «Охранной грамоте» (1930); там же, рассказывая о своем знакомстве с Маяковским, он воспользовался «Бабочкой — бурей» как эскизом для своего живописного полотна. Из этого как будто камерно-метеорологического текста об урагане и превращениях райского создания выросло историческое размышление о кипящих котлах и революционных взрывах, о „страшном призваньи“ наследников престола и гадательных избранниках поэтической лотереи. И вывод: „Победителем и оправданьем тиража был Маяковский“. А дальше идет знаменитый пассаж о личной встрече с Маяковским, о том, как он читал свою одноименную трагедию — „этот душный таинственный летний текст“. И уж тут-то все составляющие стихотворения «Бабочка — буря» воспроизведены в подробностях. Нужно только помнить, что Пастернак поклоняется своеобразному богу деталей. Их следует тщательно проявлять, осторожно разматывая потаенные смыслы. Вот его “воспоминания”:
Рассказ Пастернака комментировался неоднократно. Если проявлять дотошность, то ничего из перечисленного в трагедии нет, хотя поэтически там, конечно, есть все. К тому же: а был ли в кофейне Ходасевич или его не было? Неведомо.
Но Ходасевич оказался удобной скрытой отсылкой к основной теме «Бабочки — бури». Он замечательно перевел знаменитое стихотворение Мицкевича Snuc milosc… (перевод опубликован в «Утре России» 6 августа 1916 года). Недавно об этом написал статью «Мотать — таить» А. Жолковский. Для демонстрации наших посылок достаточно будет названия статьи (разумеется, Пастернака там нет), двух начальных слов польского оригинала («Snuc milosc…») и двух строк перевода: „Мотать любовь, как нить, что шелкопряд мотает; ‹...› Таить ее — пускай в душе вскипает“. Воспользуемся еще и подстрочником: „Сновать [вить/ плести/ ткать] любовь, как шелкопряд своим нутром вьет нить“.
В «Бабочке — буре» Пастернак своеобычно преломил и развил две темы Мицкевича — Ходасевича. Основой стихотворения стал рассказ о том, как зарождался во снах шум стихотворства, как гул преображался в нити и мотки строк, а затем крылатой сущностью рвался от смолы асфальта в альт — высь — тент поднебесий — „лишь потом разражалась гроза“. Сумма этой арифметики: так сходят с ума, выстраивают столбцы строк, разражаются гармоническим проливнем огня, пальбы и пыли. И при всех случайностях и порчах не забывают о телеграфном столбе и почтамте — начертательных знаках, символах письма.
Шум Мясницкой — “мя сницкой”, тот самый, что “мне снится”, вытягивается из польского глагола ‘snuc’ не только свойственным ему снованием (или мотанием, как перевел Ходасевич), но вполне русской ‘снулостью’, сонностью. В «Бабочке — буре» это творческие сны, на бульваре перед кофейней — блошиная сонливость собак. Мотание слов-mot, как таинство любви и расточительности, обволакивает дремотный кокон инфанты. На бульваре девочка в белом ткет скакалкой вкруг себя живой веревочный кокон, накапливая силы, чтобы затем повиснуть в воздухе наравне с бабочками. Мотыльки смещаются вбок, и их заменяет победительный, майский Маяковский — „бесценных слов мот и транжир“. Всем свойственно любить грозу в начале мая, даже если она умопомрачительный ураган. Ахматова в стихотворении «Маяковский в 1913 году»: „И еще неслыханное имя / [Бабочкой] Молнией влетело в душный зал...“ (написано в 1940-м, к десятилетию смерти поэта).
Пастернак сотворил «Бабочку — бурю», посвятив ее своей потаенной восхищенной любви. Он рассказал в стихах о метаморфозах и росте гениального художника, в чью жизнь „входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти“. Маяковский сам оборачивается этим ураганом, вулканом, землетрясением (укр. землетрусом), пугающим предгорье „трусов и трусих“. Когда же „выстрел выстроил“ жизнь поэта, любовь стала таинством утраты, и Пастернак написал свой реквием — «Охранную грамоту», монтаж из реальности и вымысла, стихов, возможностей и фантазмов. „В таком смысле и врет искусство“.
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 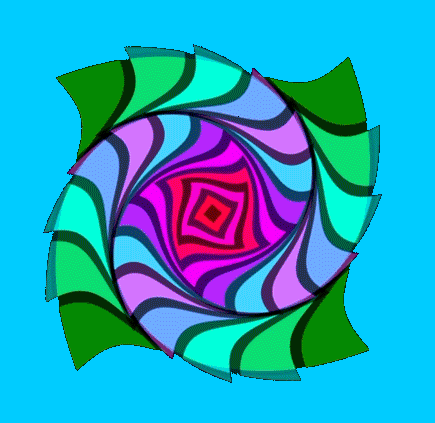 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||