

Не помышлял он и о своей литературной славе, о поэтическом успехе. Так, часто он дарил случайным спутникам не только чудом оказавшиеся у него вещи и деньги, но и рукописи своих стихов.
Вместе с тем, не было в нём ничего жертвенного, аскетического. Он отлично понимал, что ведёт жизнь странную, но порой подчёркивал, что такую жизнь он выбрал сознательно, по своему пониманию и разумению. И оттого он отвергал всяческую помощь и заботу. К людям он относился неизменно доброжелательно и ласково, но порой начинал злиться, протестовать, когда чувствовал, что кто-то стремится установить над ним опёку.
Исключительно обаятелен был его внешний облик. Надолго запоминалась его замечательная улыбка и глаза особой, “хлебниковской” синевы. Людям он казался добрым, приветливым, милым, а то и почти блаженным. Когда он в своих странствованиях добрался до далекого Ирана, то там его называли “дервиш”.
Но Хлебников не был святым, не был подвижником. Мне кажется не очень правомерно и сравнение его с князем Мышкиным, которое мы находим в поэме Асеева «Маяковский начинается»
Да, он жил по-своему, как поэт, и не всё было понятно для окружающих в его поступках; но он не был отрешённым от жизни, погружённым только в своё творчество художником, который когда-то был воспет романтической литературой.
Маяковский называл его образованнейшим поэтом. Превосходная степень здесь не случайна. Чем больше я узнавал Хлебникова, тем больше поражался его эрудиции, широкой, почти всеобъемлющей. По природе он был молчалив, и требовалось немало усердия, чтобы растормошить его, чтобы он принял участие в дружеской беседе. Но тогда он мог рассказывать и о китайской медицине, и о египетских папирусах, и о латинских стихах. Он хорошо знал философию средневекового Востока. У него были серьёзные, глубокие знания в философии, математике, физике. От него я впервые тогда услышал о теории относительности Эйнштейна. Он знал несколько иностранных языков, разбирался в древнегреческом, латыни. Вряд ли кто из тогдашних поэтов обладал такими разнообразными познаниями.
Меня особенно поразило знакомство Хлебникова с «Капиталом» Маркса. Он цитировал наизусть отрывки из этого замечательного труда и давал им своё, подчас оригинальное, хоть и спорное, толкование. Но самое главное — это то, что Хлебников считал себя человеком, преданным революции, призванным служить революционному народу своим поэтическим даром. Он очень живо интересовался всем происходящим в родной стране. Он хорошо понимал все события революционных лет, интересовался ими не книжно, не отвлечённо. Он хотел во всех деталях понять жизнь обновлённой, как он как то выразился, „вывернутой страны”. И для этого он странствовал, то пешком, то в теплушках, то на случайных крестьянских подводах. Мне пришлось слышать от Хлебникова о какой-то его большой работе, которая должна была явиться результатом этих странствий. Хлебников сказал об этом как-то случайно и очень робко, потом сразу замолчал, как бы стесняясь. В дальнейшем добиться каких-либо подробностей мне не удалось.
Я слышал от Хлебникова, что в своих странствиях он знакомится с новыми людьми, и это для него очень важно. Он говорил также, что природа открывается перед ним всегда в новом облике, и он любил её. Особенно он любил пение птиц. Умел подражать пернатым и считал, что птичьи голоса чем-то родственны поэзии.
Хлебников умер во время странствий в далёкой новгородской деревне. Произошло то, чего боялся Маяковский (надо думать, что эти строки из поэмы Асеева — не выдумка поэта, а своеобразная перефразировка подлинных слов Маяковского):
Еще до революции у Хлебникова возникла странная и наивная мысль об обществе председателей земного шара. Характерно, что председателями должны были быть не только поэты, мыслители, учёные, но и видные революционеры. Председатели в глазах Хлебникова — образцы новых людей, освобождённые от всей скверны жизни, от всех пут быта, от всех утомительных условий, которых было много в жизни дореволюционной России. Конечно, немало было утопического в этих идеях Хлебникова, да и существовало это общество больше в его воображении. Себя он считал обновлённым человеком, чуждым всех мелочей жизни, всех тягот быта. И это во многом определяло его странный облик, и его непонятное для многих поведение, и, пожалуй, всю его дальнейшую поэтическую судьбу.
Я познакомился с Хлебниковым при очень необычных обстоятельствах. Летом и осенью 1920 года в Ростове-на-Дону работало так называемое «Кафе поэтов». Организовал его ловкий литературный авантюрист Рюрик Рок, именовавший себя вождём “ничевоков”. Ему удалось раздобыть у Луначарского бумажку о том, что нарком просвещения сочувствует деятельности «Союза поэтов» и предлагает местным властям оказывать ему всяческое содействие. Умело используя эту “чудодейственную” бумажку, Рюрик Рок организовал литературное кафе в помещении некогда популярного ресторана-подвала, стены которого были теперь пестро расписаны “левыми” художниками.
Кафе было всегда переполнено. Здесь можно было сравнительно вкусно поесть (хозяйственной частью ведал опытный “спец” — бывший хозяин ресторана) да и послушать недурную концертную программу. Кроме местных поэтов здесь выступали актеры, певцы, музыканты.
Вот в это кафе однажды кто-то позвонил и сообщил, что на ростовском вокзале среди беспризорных якобы находится известный поэт-футурист Хлебников. Все попытки добиться, кто это звонил, остались тщетными. Сообщение было крайне неясным: можно было предположить, что это обман, розыгрыш.
Тем не менее автор этих строк и популярный в те дня в Ростове поэт Олег Эрберг (впоследствие востоковед, работник советских консульств в Иране и в Афганистане, выпустивший интересные «Афганские рассказы») отправились на вокзал искать Хлебникова.
Мне пришлось ранее слышать выступление Хлебникова в московском кафе футуристов (в 1917) году. Читал он невнятно и тихо. Мне запомнились только замечательные глаза неповторимой синевы.
Эрберг никогда не видел Хлебникова, но у него хранился большой фотографический портрет поэта. Мы, конечно, захватили его с собой.
Надо сказать, что оба мы не очень верили в успех этой “экспедиции”. Но, к нашей радости, мы нашли Хлебникова сравнительно скоро и легко.
В углу одного из вокзальных залов, на груде досок мирно спал какой-то человек. Одет он был почти как нищий, но лицо его казалось очень интеллигентным, приветливым, светлым.
„Ура!.. Это Хлебников!” — закричал Эрберг, смотря на фотографию. Я проявил некоторый скептицизм. „Пусть он откроет глаза. Только тогда я буду уверен…”
Мы растормошили спящего, и тут я убедился, что Эрберг был прав.
Хлебников не верил, что мы специально прибыли его искать. Он никак не мог понять, откуда попала к Эрбергу его фотография и почему какое-то ростовское кафе им интересуется. Кто мог звонить — он не знал. Он прибыл в Ростов только час назад, ни с кем здесь не был знаком, даже ни с кем не разговаривал. Пришел он пешком из Харькова по шпалам. Были в дороге и привычные для странствований Хлебникова приключения.
Где-то, ещё на Украине, он был арестован. Один из работников местного ЧК оказался любителем поэзии и долго не верил, что странный бродяга и поэт Хлебников — одно и то же лицо. Хлебникову пришлось прочесть стихи. После этого его отпустили (никаких документов, удостоверяющих личность, у него не было).
На станции Матвеев Курган, когда Хлебников спал на земле, у него украли мешок, где были рукописи его стихов и математических изысканий. Эрберг ужаснулся. Но Хлебников проявил чрезвычайное равнодушие и спокойствие. Подобные неприятности случались с ним неоднократно. В мешке вместе с рукописями были хлеб и сало, и, надо думать, вор особенно не интересовался ни поэзией, ни математикой.
Торжественно на извозчике мы доставили Хлебникова в кафе поэтов. Но тут выяснилось, что нам не верят наши товарищи — ростовские поэты. Слишком уж не соответствовал внешний облик Хлебникова их представлению об известном поэте. К тому же Эрберг в то время был прославлен своими мистификациями.
Рюрик Рок и администратор кафе, старый театральный делец Гутников, пригласили Хлебникова в кабинет “для установления личности”. Через несколько минут Рок вышел из кабинета и торжественно возгласил:
— Сомнений быть не может. Это — Хлебников!
Выступления Хлебникова должны были украсить афишу литературного кафе. Но как выпустить его на эстраду? Надо было его приодеть. Пока в дирекции кафе обсуждался этот вопрос, Эрберг без приглашения вышел на эстраду и сообщил публике, что в Ростов приехал “великий поэт-футурист Хлебников”. Публика восторженно зааплодировала. Пришлось выпускать Хлебникова тотчас же, не дожидаясь торжественного его “облачения”. Он прочёл несколько стихов, прочёл очень тихо, так, что почти ничего не было слышно. Раздались свистки. Решили, что это какой-то обман.
Я пригласил Хлебникова переночевать у меня, а затем он прожил здесь свыше недели. Конечно, окружающие были несколько напуганы. В квартире появился какой-то незнакомый бродяга. Но Хлебников оказался исключительно вежливым, даже галантным и скоро очаровал всех.
Только раз одна из моих тёток застала его за странным занятием: он перевернул шкаф и соединил его углы случайно оказавшимися в ящике под столом старыми елочными гирляндами. Оказывается, Хлебников решал какие-то свои сложные математические задачи. С точки зрения обывательской, это был, конечно, недопустимый поступок, но Хлебников так сердечно улыбнулся и так мило извинился, что сразу был прощён. Удивительно, как люди, бесконечно далекие от поэзии, понимали, что это человек необыкновенный.
Мне удалось наблюдать процесс работы Хлебникова. Работал он почти беспрерывно. Обычно он устно обыгрывал какое-нибудь полюбившееся ему слово. Я помню, что в то время ему понравилось слово “ландо”, и он много повторял его с разными интонациями. Запись стихов, по-видимому, занимала последнее по времени место в его поэтической работе. Он и потом говорил мне, что любит улавливать слово “на слух”.
По вечерам мне иногда удавалось (он шёл на это неохотно) вести с Хлебниковым творческие беседы; порой, уже ночью, когда все кругом спали, он говорил много и интересно.
Хлебников считал, что каждое слово должно быть „откатано и проверено” (кажется, это точные его слова). Он считал, что мы не до конца понимаем сущность слов. В живой речи слово неорганизованно, случайно. Поэт должен открыть его первоисточник, его основу, и к этому он стремится всю жизнь. Задача эта необычайно трудна, но он всегда будет стараться её разрешить.
Недаром Маяковский называл его „Колумбом поэтических материков”.
Хлебников хорошо знал и филологию, и историю языка. Но он сбольшой досадой и с горестью вспоминал о том, что прославленный итальянский футурист Маринетти назвал его когда-то “архаистом”. „Я его, может, прощаю, оттого что он иностранец и в русском языке ничего не смыслит, а для меня важно не прошлое, а будущее слова”, — говорил Хлебников. Он рассматривал каждое слово в его историческом развитии; меня поражало, что Хлебников относится к слову, особенно новому, неожиданному, с особым почтением, с уважением, как относятся к живому человеку, очень достойному и мудрому.
Хлебников работал не только над стихом, но и занимался математическими изысканиями. Цифры, как и слова, были его постоянными друзьями, его любимыми собеседниками.
Если Хлебников-поэт ещё не до конца прочитан и разгадан, то совсем загадочен образ Хлебникова-математика. Его математические труды в большинстве своём не изданы и в значительной мере утеряны. Обычно считается, что математические опыты Хлебникова — чистейшей воды мистика. Такие представления возникли, по-видимому, вследствии того, что когда-то, ещё в дореволюционные годы, он иногда пытался при помощи чисел предсказывать исторические события. Мне никогда не приходилось слышать от Хлебникова подобных предсказаний. По-видимому, он пытался заниматься этим в далеком прошлом и уже позабыл об этом. Хлебников говорил мне, что он стремится раскрыть подлинную сущность слова, что мы недостаточно учитываем возможности математики, её место и значение в жизни, в развитии наук. Сейчас сохранившимися математическими рукописями Хлебникова заинтересовались не только математики, но и кибернетики. Насколько значительны эти рукописи, выяснится, вероятно, в будущем.
Хлебников мне говорил, что по его мнению, поэзия и математика тесно связаны между собой, что об этом когда-то, в прошлом люди знали, и он теперь пытается установить эту давно утерянную связь.
Мне хочется здесь отметить, что Хлебников не был дилетантом в области математики. Он учился на физико-математическом факультете Казанского университета, и его статьи по вопросам математики и других точных наук появились в печати за несколько лет до первых напечатанных его стихов.
Хлебников был щедр, может быть слишком щедр. За своими рукописями он не следил, разбрасывал из в беспорядке, часто терял (сколько, наверное, утеряно интересных его стихов!).
Мне удалось показать некоторые математические рукописи Хлебникова моему знакомому, старому профессору Ростовского университета М. Болховскому. Имя Хлебникова как поэта ему не было знакомо. Внимательно прочитав рукописи, он сказал:
— Это, если хотите, по своему гениально. Так может раскрывать математические проблемы только настоящий поэт.
…Выступая в ростовском каже поэтов, он оделся в обыкновенный (чёрные брюки, френч) костюм. К своему удивлению, я заметил, что он внешне несколько поблёк, частично исчезло что-то своё, хлебниковское, неповторимое. Конечно, этот человвек исключительной духовной красоты не мог нарочито красоваться в своих живописных лохмотьях. Но костюм, как выяснилось, сшитый самим Хлебниковым из мешковины, больше подходил ему, недаром часто после выступления Хлебников спешил освободиться от парадной формы и принять свой прежний облик. Мне он говорил, что так чувствует себя “свободней”.
Надо помнить, что в то время многие трудовые интеллигенты воспринимали революцию как своеобразное освобождение от старого быта, от всех условностей старой жизни. У Хлебникова это приняло крайние формы, но было для него органичным.
Маяковский называл его „мучеником за поэтическую идею”. Но сознательного мученичества у него, мне кажется, не было; он радостно принимал новую жизнь, радовался ей и, наверное, удивился бы, если бы его при жизни назвали “мучеником”. И характерно, что если многие друзья Хлебникова не раз указывали на его тяжелое положение и добивались изменения условий его жизни (Маяковский говорил об этом даже в своем выступлении на III съезде работников искусств в 1921 году), то сам Хлебников никогда ни устно, ни письменно не жаловался на свою судьбу. По крайней мере, нигде — ни в рукописях, ни в воспоминаниях — мы не находим таких жалоб. Имеются сведения, что Хлебников, встретившись с Луначарским, не только ничего у него не просил, но и отверг предложенную помощь наркома. Он сам избрал такой образ жизни и отказывался не только от всякого рода благотворительности и даров (это он ненавидел), но и от законного авторского гонорара. Так, в Ростове, он наотрез отказался принять гонорар за постановку его произведения «Ошибка смерти».
Постановка этой пьесы была осуществлена в том же ростовском «кафе поэтов» силами молодого ростовского театра студийного типа, который назывался «театральной мастерской».
Я помню, как режиссер спектакля (А. Надеждов) требовал у Хлебникова каких-то разъяснений по ходу действия пьесы, а Хлебников отказывался объяснять, отказывался очень вежливо, со своей очаровательной улыбкой. Мне он потом говорил, что это слишком трудная задача для поэта — толкование своих произведений. Пусь этим занимаются комментаторы, режиссеры, критики, но только не сам поэт.
И в Ростове постановка пьесы шла в присутствии поэта, но без его непосредственного участия.
Сценка Хлебникова «Ошибка смерти» превратилась в своеобразный “гиньоль”. В кафе между столиками ходила барышня Смерть в соответствующем условном одеянии, в руке она держала шамберьер — большой хлыст, которым в цирке укрощают лошадей. За столиками среди зрителей сидели двенадцать её гостей в причудливых полумасках. Конечно, сценическое раскрытие пьесы было не особенно глубоким, но всё же спектакль был интересен как первый, кажется, опыт театрального воплощения драматических произведений Хлебникова (только через несколько лет его пьеса «Зангези» была поставлена в Петрограде художником Татлиным).
В день спектакля подвал поэтов был украшен большим портретом Хлебникова (автором его был талантливый художник М. Кац). Следует отметить, что роль одного из гостей в этом спектакле играл молодой актер “театральной мастерской” — Евгений Львович Шварц.
Хлебников перешёл от меня жить к другим товарищам — ростовским поэтам. Так было заранее условлено. Но исчез он из города так же неожиданно, как и появился. Ушёл тоже пешком, не сказав никому не слова. Я не думаю, чтобы он был особенно обижен на ростовцев, которые отнеслись к нему внимательно, старались по мере сил и умения популяризовать его творчество. Может быть, его даже тяготило излишнее к нему внимание. К тому же он, по-видимому, хотел избежать всяких торжественных проводов и, вероятно, опасался, что его будут удерживать, упрашивать остаться. Куда девался Хлебников — мы первое время не знали. Правда, потом его следы обнаружились в Армавире, а позже в Баку. Поэтические странствования продолжались.
Мне никогда не приходилось встречаться с таким оригинальным, самобытным человеком, как Хлебников. Была у него своя, хлебниковская мудрость: была убежденность, была уверенность в правоте и важности всех своих действий, была истинная любовь к людям и к родной стране. Он верил в огромную силу революционного слова, которое должно помочь перестроить мир и обновить человека. Он ведь никогда не хотел идти по проторенным тропам. Мне кажется, не только его стихи, но и вся его жизнь по-настоящему ещё не поняты, не разгаданы.
Не всегда и не для всех понятно и его творчество. Но, несомненно, его поэтические опыты и искания оставили свой след в развитии советской поэзии, и не случайно Маяковский называл его „своим поэтическим учителем”, а жизнь Хлебникова считал „поэтическим подвигом”.
У нас сейчас, конечно, другое представление о новом человеке будущего коммунистического общества. Вряд ли жизнь Хлебникова может быть примером для подражания. В его представлении о новом человеке было немало туманного, утопического, наивного. И всё же он стремился жить по-своему, так, как по его мнению должен жить человек, очищенный революционной бурей. Советской поэзии и стихи Хлебникова, и весь его „поэтический подвиг”, вся его жизнь — всё это по-своему ценно. Те, кому пришлось знать Хлебникова, на всю жизнь сохранили воспоминания об этом кристально чистом, необыкновенном человеке и поэте.
„Его биография, — писал Маяковский, — пример поэтам и укор поэтическим дельцам”.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 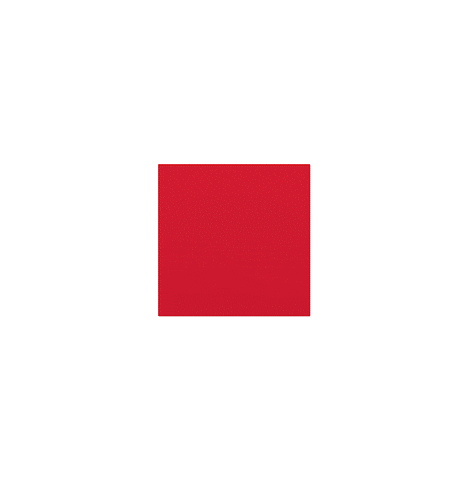 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||