





Приехал летовать на свою Каменку.
И сразу же, через час после приезда, за ружье: на тягу вальдшнепов.
Ну, черт возьми, еле на ногах держался — так хотелось прыгать от буйного прилива избытков всяческих радостей горного, лесного, таежного окруженья.
Еще не успела скинуться с глаз пестрая кричащая мантия Москвы, еще в ушах не остыли звонки трамваев и телефонов, еще в голове болтались шумные мысли нашей веселой ватаги, еще ноги не привыкли к охотничьим сапогам, пахнущим дегтем; а тут берложная, хвойная глушь, закутанная в кисею заката, насторожилась в тишине и слушала допевающих птиц и кукованье кукушек.
Майские жуки жужжали и хлопались об сучья берез.
Хоркали отсырелыми голосами вальдшнепы по-над лесом.
Верещала далекая сова.
Рябчики пересвистывались, спать укладывались в елках.
Зайцы боботали на полянах.
Пахло смоляными первыми листьями.
Земля дышала сочной благодатью молодости, расцветающим здоровьем, стихийными силами недр.
Все это земляное, травяное, звериное, птичье, жучье, червячье, вся эта мощь потайная, таежная, корнелапая вливалась в грудь восторженным хаосом и пьянила, будоражила, задаривала неисчерпаемыми щедростями.
Я стоял по горло в гуще торжества и, как ржущий жеребец, раздувал ноздри, чуя возбуждающий запах жизни-кобылы.
Хотелось невероятного: так бы весь мир насытил полнотой энтузиазма.
Мне же требовалось немного, и — куда деть свой размах темперамента, не знал.
Вот и кружился в вихре возможностей.
Избранный путь искусства казался узким, как и все пути специального направления, а жизнь, сама жизнь вокруг, жила в каждой капле бытия.
И в каждую каплю желалось ввязаться, влиться.
Захватывало положительно все: любовь к природе, полевое хозяйство, деревенский быт, труд крестьянина, интересы людей на земле — их печали и радости, их борьба за хлеб и волю.
Метался меж плугом и стихами.
То и другое рвался постичь, познать, как, впрочем, и все существующее на свете.
Одержимый энтузиазмом, я мечтал перекинуть мост от деревни к футуризму, как Степана Тимофеевича Разина — к современности.
Знал прекрасную цену всему, любил жить, охватывал мир, как ствол березы и потому шел прямой дорогой искренности, освещенный солнцем тридцатилетней юности.
Юность без берегов!
Раздутые паруса стремлений!
Кистень бунтующей воли!
Мы начинаем поворачивать земной шар в свою кумачовую сторону.
Наши лбы обветрены ветрами предвестий.
И песни наши не сами ли птицами прилетели к поре:
Стоп! Это я — к слову о тридцатилетней юности, о необузданных порывах, которые толкали, призывали дать понизовую быль про Степана Тимофеевича.
Только в него, атамана сермяжного, я и мог, как ведро в колодец, опустить свою жажду, чтобы утолить бунтующий дух.
Таким вот разгульным, горячим конем в лугах будущего я и приступил к работе над романом «Стенька Разин».
А будущее в том заключалось, что хотел предсказать близкую неизбежность революции.
Мое предсказанье основывалось на наблюдениях, знаниях русской жизни и на убеждениях революционных политических деятелей, с которыми я часто встречался во всех углах России, в этой неизбежности.
За все это время, начиная с 1903 года, я ни на минуту не переставал интересоваться ростом политического движенья, ни на минуту не забывал своей активной работы в 1905 году, ни на минуту не остывал в своей вере в революцию.
А когда в это лето вспыхнула мировая война, когда вся жизнь России взбудоражилась вдруг, когда началась стихийная раскачка умов и сердец, — уверенность в том, что надо работать над Разиным, возросла вдвое, как и волна величественных предчувствий.
Теперь даже и лес вокруг шумел Жигулевскими горами.
И, как никогда, носилось в воздухе „Сарынь на кичку!”
Я смотрел на царскую, генеральскую, помещичью, фабрикантскую, купеческую Россию глазами Разина и строил свое дело.
Сама природа Волгой разливалась во мне.
Жизнь не уставала удивлять.
Словом, все было так, будто сам сделал.
Даже от писем друзей веяло понизовой вольницей.
Наша ватага на парусах неслась к берегам будущего.
Бурлюк командовал издалека в коротких, но жирных строках:
Хлебников прислал письмо:
Н.И. Кульбин писал:
Жатва на полях кончилась: ржаные бабки стояли на жнивье, как солдаты, отрядами.
Я не отставал, собирая тучный урожай своей “литературной нивы”.
Почти закончил «Разина», написал пьесу «Здесь славят разум», большую «Поэмию о Хатсу» и ряд стихов.
Для летнего “отдыха” этого труда вполне достаточно: нередко работал и по пятнадцати часов в день.
Перед отъездом три недели подряд бродил на охоте по лесам и озерам — в этом празднике уральской оранжевой осени и был настоящий отдых.
После двинулся в Москву.
Сейчас же получил приглашенье приехать в Харьков — выступить с лекцией и стихами.
В коридоре харьковской гостиницы встретился с Игорем Северяниным, который приехал со своим „поэзоконцертом”.
Северянин затащил к себе в номер, где я сразу почувствовал его стихи:
В номере блистало “да”! Цветы, вино, Тианы, Нелли, Ингриды и несколько харьковских пажей.
Но все-таки всех кудесней был сам поэзоконцертант: высокий, черный, кудрявый, с „лицом немым, душою пахотной”, в длинном сюртуке, с хризантемой в петлице, ну, словом, русский Оскар Уайльд.
Северянин метался от
Благополучно кончив свою „стихобойню” (так назывался мой вечер в Харькове), я уехал в Петроград, переименованный из Петербурга.
Здесь от издательства «Современное искусство» Н.И. Бутковской получил предложенье написать монографию о Н.Н. Евреинове.
Евреинов зимовал тогда в Куоккале (в Финляндии) на даче. Туда я и уехал писать книгу.
В Куоккале в это время жили в собственных дачах знаменитый “художник земли русской” Илья Ефимович Репин и известный критик К.И. Чуковский.
Куоккала — место замечательное: на берегу моря, дачи кругом в сосновом лесу.
В белой зимней тишине в евреиновской даче, принадлежащей родителям художника Юрия Анненкова, среди блестящих картин Анненкова мы и работали: Евреинов — в своей комнате, я — в своей.
Евреинов писал большой труд о театре, усердно писал, а в часы отдыха садился за рояль, прекрасно играл вещи своего сочинения и вообще что угодно.
У Репина были традиционные обеды по средам — специально для гостей.
Приезжали из Петербурга.
В первую же среду мы пошли к Репину.
Илья Ефимович сразу же поразил необычайной жизнерадостностью, культурностью широкого, большого человека.
Евреинов шутил:
— Смотрите, Илья Ефимыч, перед вами — один из самых страшных футуристов.
Репин радостно басил:
— Ах, вот это интересно! Браво, браво! Ну как же это интересно! Все говорят о футуристах, и я желаю очень познакомиться. Ну! И восхитительно! Милости просим!
Комнаты у Репина — крупные, деревянные, оригинальной конструкции, и все увешаны картинами в золотых рамах.
Громадный мезонин — мастерская.
В «Пенатах» был свой порядок.
Когда к определенному часу собирались все гости, хозяин просил к столу.
А стол большущий, белый, круглый, в два этажа, причем верхний этаж вращается на оси и на нем — разные яства: что желаешь, то и бери, но мяса не ищи, не бывает.
Прислуга также садится за стол.
Перед каждым — ящик в столе; там тарелки, приборы — доставай и ставь перед собой.
Обычно выбирается председатель стола и следит за избранной для общего сужденья темой.
На этот раз темой избрали — “война и искусство”, и в председатели — Репина.
Среди гостей: Евреинов, Чуковский, Щепкина-Куперник, Ясинский, профессора Павлов, Лазарев, Бехтерев и несколько академиков с супругами — все они приехали из Петрограда специально к репинской гостеприимной “среде”.
Репин сказал превосходную вступительную речь о том, как трагически “молчат музы”, когда идет зверское человекоубийство.
Ни один из гостей войне не сочувствовал, если бы даже победила Россия. Напротив, в этом случае все ожидали усиления реакции.
Говорили, что затяжка войны и русские неудачи на фронтах играют на руку освободительному движению, и в этом — положительная сторона войны.
Обед кончился моими стихами.
Репин аплодировал, радовался как ребенок, хвалил, к моей неожиданности, особенно разбойные стихи из «Разина».
— Вот это стихия! Земля! Цельность! Широта разгула! Вот это вольница! Вихрь бунта!
Однако, кроме Репина, Евреинова и Чуковского, никто этих восторгов не разделил.
Маститые смотрели на меня довольно грустно, даже вздыхали: вот, мол, до чего дожили, благодарим покорно!
Чуковский, всегда на людях веселый человек, предложил мне сказать экспромт, что я и исполнил:
Словом, после этого обеда, на другой день, Репин пришел ко мне еще послушать стихов, а потом мы побрели гулять по снегу и вообще подружились.
И скоро Репин, в пять сеансов, написал мой портрет.
Я сидел в кресле репинской мастерской и читал стихи, а Илья Ефимыч делал портрет и приговаривал:
— Ну и замечательно! Браво! Ну еще, еще!
Мне нравился репинский энтузиазм. Он любил крепкий сок жизни, высоко ценил назначение искусства, жил острой мыслью.
И рассказывал Репин исключительно красочно, будто кистью писал.
Особо глубоко запомнился рассказ о том, как Репин видел публичную казнь Желябова.
Часто по вечерам собирались у Чуковского, читали стихи. Репин делал наброски пером в домашний журнал-альбом критика «Чукоккала», где было собрано множество интереснейших автографов, рисунков.
Или собирались у Евреинова, куда наезжали петроградские гости: Давид Бурлюк, Хлебников, Кульбин, Анненков, Бутковская.
Финляндская сосновая зима вытаскивала нас на улицу и катала на подкукелках, на лыжах.
Вообще жилось здравно, работалось отлично.
Я закончил свой новый труд — «Книгу о Евреинове» — и переехал в Петроград.
Своего «Разина» показывал издателям, но те шарахались, боялись.
И пока стихотворные отрывки из «Разина» печатались в «Сатириконе», где печатался и Маяковский.
Газеты, конечно, ругали «Сатирикон» за то, что в него “пролезли” футуристы.
Но мы “лезли” дальше.
В это время в Петрограде бурно шумели наши левые выставки, где я также выставлял свои железобетонные поэмы, где обычно меня избирали секретарем-объяснителем.
Теперь выставка носила характерные названия — «Трамвай Б» или «№ 4», а прежде: «Треугольник», «Голубая роза», «Венок», «Ослиный хвост», «Бубновый валет».
Из художников отличались изобретательством Бурлюк, Татлин, Малевич, Экстер, Кульбин, Розанова, Якулов, Пуни, Зданевич, Ларионов, Гончарова, Валентина Ходасевич, Лентулов, Машков, Кончаловский, Филонов, Пальмов, Удальцова, Анненков, Фальк, Рождественский, Кандинский.
Шел особой, “своей стороной”, как великан, громадный мастер живописи Борис Григорьев, о котором много говорили, писали.
Изумительный Филонов издал декларацию «Сделанные картины» и в ней возвещал:
Времена действительно очень существенно переменились.
Футуристы стали признанными настолько, что впервые на свет появился толстый сборник «Стрелец» как знак объединения мастеров слова.
В «Стрельце» участвовали А. Блок, Д. Бурлюк, Н. Евреинов, З. Венгерова, Л. Вилькина, В. Каменский, А. Крученых, М. Кузмин, Н. Кульбин, Б. Лившиц, А. Лурье, В. Маяковский, А. Ремизов, Ф. Сологуб, В. Хлебников, А. Беленсон, А. Шемшурин.
Так осуществилось желание А. Блока „будем вместе”, как и наше.
По этому поводу большинство газет подняло бучу удивления.
Из-за границы приехал в Петроград Максим Горький, и газеты сейчас же бросились к Горькому узнать его мнение о футуризме.
В «Журнале журналов», № 1-й, было напечатано:
Максим Горький
— О футуризме.
Между прочим Горький писал в этой статье:
Вскоре после приезда Горького состоялся наш футуристический вечер в «Бродячей собаке».
«Бродячая собака» — это был литературный полуночный кабачок, организованный Борисом Прониным, самым отчаянным энтузиастом искусства.
В подвал «Собаки» еженочно собиралась петроградская богема.
Здесь была эстрада, на которой мы и выступали со стихами.
На «вечере футуристов» был Алексей Максимович Горький.
После нашего выступления он вышел на эстраду и, улыбаясь, сказал задумчиво:
— В них что-то есть...
Эту горьковскую фразу, сказанную в подвале «Собаки», встретили веселым взрывом аплодисментов, и пошла эта фраза гулять по газетам.
В общем Горький говорил то, что появилось в «Журнале журналов».
Однако мировая популярность Горького сделала то, что достаточно было и этого „в них что-то есть”, как газетные критики вдруг стали вежливее, нежнее писать о нас.
Делали вид узревших свет.
Я стал бывать у Алексея Максимовича, и мы ходили с ним по левым выставкам, где я давал объяснения наших работ.
Горький горячо интересовался всем и всеми, и с ним было чудесно разговаривать.
Горьковское обаяние известно, как и все его превосходные качества большого человека.
Я лично влюбился в Алексея Максимовича сразу и навсегда.
Невероятная широта — вот что влечет к нашему любимому Максимычу.
Наши выступления шли обычным порядком, неизменно собирая густую публику.
В «Бродячей собаке» состоялся «вечер пяти» — трех поэтов: Д. Бурлюка, И. Северянина, В. Каменского и двух художников: Сергея Судейкина, Алексея Радакова.
Это было сотворчество: поэты читали на фоне живописных ширм-декораций, характерных для поэзии каждого.
Радаков, например, для моих стихов изобразил понизовую вольницу с кистенями.
В этой же «Бродячей собаке» праздновался выход объединенного «Стрельца».
Здесь читал Маяковский и даже Хлебников.
А “даже” это потому, что голос Хлебникова был слаб и он выступал так: прочтет из большой поэмы десяток строк, остановится и скажет:
— Ну и так далее!
Хлебников да и мы все любили «Собаку», как и хозяина Бориса Пронина.
Пронин — этот знаменитый наворотчик — играл крупную роль объединителя всей богемы в объеме “всего мира”: размерами не стеснялся, делал это блестяще, мастерски и потому был и остался “всеобщим Борисом”, другом-любимцем всех, кто жил искусством или возле него.
Когда-то Пронин работал в Художественном театре по режиссерской части, а теперь пламенно горел «Собакой» и наворачивал всякие “вечера искусства” в своем подвальном “кабачке”, где всегда было жарко, тесно, шумно и талантливо.
В «Собаке» с удовольствием пропадали признанные и непризнанные гении.
Бывали там и “гости со стороны” вроде адвокатов или коммерсантов, которых Пронин прозвал “фармацевтами”.
Чтобы точно судить о Пронине, достаточно было минут десять простоять с ним у телефона, когда он по истрепанной записной книжке следил, кому и почему надо позвонить.
Вот стоишь и слушаешь, как Борис “работает”:
— Дайте номер... — говорит Пронин. — Маришка, ты? Давай привези! Две дюжины ножей и вилок. Сегодня — футуристы! Скорей. Что за черт! Маришка, ты? Нет! А кто? Анна Ивановна? Кто вы такая? Ну, все равно. Есть у вас, Анна Ивановна, ножи и вилки? Давайте везите в «Бродячую собаку». Сегодня — футуристы! Что? Ничего не понимаете? Не надо. До свиданья, Анна Ивановна. Дайте номер.. . — говорит Пронин. — ...Кто? Валентина Ходасевич? Прекрасная женщина, приезжайте с супругом Андреем Романычем в «Собаку» к футуристам. Да. Будут: Григорьевы, Судейкииы, Цыбульские, Прокофьевы, Шаляпины и вообще масса бурлюков. До свиданья. Дайте номер... У телефона — Борис. Слушай, Коля Ходотов, бери Вильбушевича и гони в «Собаку». Захвати Давыдова. Понял? До свиданья! Дайте номер... Это я — Борис. Аркадий Аверченко? Ждем в «Собаку» сатириконцев. Ха-ха! Кто? Василиск Гнедов? Обязательно! Хотя сегодня «вечер пяти», но Василиск Гнедов будет сверх пяти. До свиданья! Дайте номер... Борис... Кто перебивает? Что? Какого Суворина? Таких в «Собаке» не бывает. Отцепитесь! Дайте номер... Вера, привези охапку цветов и две дюжины ножей и вилок. Что? Сегодня никаких фармацевтов. Все занято. Крышка.
Такова энергия Пронина.
В результате пронинской энергии «Собака» была любимым углом поэтов, художников, композиторов, актеров.
Здесь можно было свободно выражаться, и однажды Маяковский так “выразился” с эстрады, что фармацевты запустили в него бутылками.
В смысле сборища деятелей искусства с «Собакой» конкурировала по-прежнему «Вена», но тут была чисто жратвенная тишина.
И люди в «Вене» — более солидные, спокойные, постоянные: Куприн, Арцыбашев, Аверченко, Муйжель, Лазаревский, Дмитрий Цензор, Сергей Городецкий, Шебуев, Алексей Толстой, П. Щеголев, Анатолий Каменский, В. Регинин, Осип Дымов, Рославлев, П. Потемкин, Архипов, В. Воинов, В. Князев, Чириков, Рышков, Агнивцев, Василевский-не-буква, Боцяновский, Е. Венский, Свирский.
Хозяин «Вены» И.С. Соколов кормил, „как женский монастырь не кормит архиереев” — это из стихов Куприна, посвященных «Вене» и висевших на стене ресторана.
Вообще при «Вене» образовался целый музей подобных экспромтов литераторов и художников.
И все эти ресторанные вольности висели на бывалых стенах «Вены».
Такие художники, как Бродский, Зарубин, С. Колесников, Любимов, Сварог, Радаков, Жуковский, Кравченко, делали для «Вены» наброски.
По случаю десятилетнего юбилея «Вены» этот знаменитый ресторан выпустил даже литературно-художественный сборник, где Куприн написал хозяину Соколову:
Истинно сказано! «Литературные бездомники» встречались только в «Вене» да в «Собаке».
Радовались и этому ресторанному объединению вечных бродяг в душе, ибо такая венско-собачья жизнь была, когда все мы, разрозненные одиночки, не знали куда сунуться, чтобы сообща застольно отвести душу.
Так “бродячими собаками” и скитались, не ведая своего товарищеского двора, где могли бы поговорить о своих профессиональных интересах без участия обязательных бутылок.
Правда, Хлебников носился с мыслью, что настало время организовать правительство председателей земного шара и в первую голову построить дворец для поэтов, но это было лишь фантастическое утешение “бездомных бродяг”.
И пока что мы бродили по гостям.
То собирались у Валентины Ходасевич, то у Бориса Григорьева, то у Кульбина, то у Евреинова, то у Н.А. Тэффи.
Ездили в Царское Село к Гумилеву и Анне Ахматовой.
Бывали у Алексея Ремизова, где встречали Евгения Замятина, М. Пришвина, А. Н. Толстого, Иванова-Разумника, Чапыгина.
Ужинали “со стихами” у Федора Сологуба, где читали А. Блок, М. Кузмин, Вяч. Иванов, Гумилев, Городецкий, Сологуб, Андрей Белый.
Но, признаться, все они декламировали неважнецки: с каким-то мистико-ритмическим завыванием на концах строк. Эта однообразная манера чтения была в то время “модой” тоски жизни... в этих кругах.
Мы-то, зычные ребята, читали, то есть таранили словами, совсем по-иному, как атлеты тяжелого веса.
И никакой тоски жизни мы не чувствовали, а просто ликовали за счет будущего, веруя в перспективу великолепных возможностей.
Ни один из нас не был пессимистом: мы жили энтузиазмом без берегов, мы шли от мощи здоровья, от сознания своих свободных убеждений, мы искренно верили в ниспровержение существующего строя.
И мы были легки и перелетны на подъем, как птицы: из города в город перелетали со скоростью почтовых голубей.
И всюду не зря: читали лекции, стихи, диспутировали, будоражили “мирное население”, печатали сборники.
В очередь, например, выпустили новый сборник «Весеннее контрагентство муз», где, кроме стихов, появились ноты новой музыки композитора Николая Рославца.
Где Николай Асеев писал о войне:
Где Борис Пастернак видел Москву такой:
Сумерки сгущались, обагренные кровавым заревом заката старой России.
Кому-то от этого было плохо, кому-то очень хорошо.
А мне совсем распрекрасно: мигом я перелетел в уральскую рощу летней Каменки, раскинул лыковый шатер на берегу Сылвы и, покуривая, посиживая с удилищем, подумывая о происходящем, стал ожидать лучших дней.
Барометр моих предчувствий поднимался к совершенно ясной погоде.
Пока мне хотелось немногого: осенью 1915 года напечатать роман «Степан Разин», потому что эта беременность, во-первых, натяготила живот, а, во-вторых, мое опытное чутье предвосхищало соответствующую конъюнктуру для подобных затей.
Только теперь, при всеобщей ощетиненности военной России, когда, с одной стороны, раздувался невероятный патриотизм “за царя и отечество”, а с другой — шла явная раскачка умов и сердец в сторону возрастающих вольностей (я уж не говорю о широком росте подпольной политической агитации среди рабочих и солдат), теперь мне стало ясно, что появление на свет «Степана Разина» обеспечено временем.
Время работало в пользу революции.
Даже футуризм — это “страшное” движение — получил все права гражданства, и отныне футуристы считались признанными пророками.
А раз так — в отступлениях романа я еще острее подчеркнул “поэтические” предчувствия неизбежности именно пролетарской, “сермяжной” революции.
В этом — суть «Разина» как символа великого бунта крепостной голытьбы.
В этом — смысл работы: подсказать каждому рабочему или крестьянину, что их любимый герой-атаман Степан Тимофеевич жив и живет во всяком, кто бьется за волю и землю, кто обижен фабрикантами и помещиками.
О, будь иное время, я сделал бы книгу по-иному, по-настоящему, как надо, а то, сгорая нестерпимым желанием скорей выпустить труд, мне пришлось (по условиям цензуры) сработать роман в чересчур “русском духе” относительной приемлемости.
Кстати, следует иметь в виду и то обстоятельство, что в русской истории, как известно, Степан Разин подавался в качестве злодея-разбойника.
И, значит, тем менее надежд было у меня увидеть «Разина» напечатанным.
Однако я закончил книгу вполне, как закончил целый ряд новых вещей.
В конце лета получил петроградский журнал Ховина «Очарованный странник», где в первый раз в жизни в статье «Василий Каменский» критик Борис Гусман отнесся ко мне по-человечески трогательно, чем и удивил: вот до какой степени я не был избалован благожелательностью критиков.
Лето на Каменке кончилось, как обычно, сплошной охотой.
В Москву приехал с таежными глазами, с черноземными силами, с литературной добычей, с разинскими думами.
Посмотрел вокруг — противно: Москва — не Москва, а лагерь военный.
Так бы и рявкнул:
— К черту войну!
Давид Бурлюк обрадовался:
— Издавай «Разина». Пора подходящая. Действуй. Пахнет растерянностью. Цензура слабеет. Дышать легче.
И пока что мы выпустили «Четыре птицы» — Бурлюк, Золотухин, Каменский, Хлебников.
Золотухин — из второго поколения футуризма, как и Давид Виленский, Григорий Петников, Дмитрий Петровский, С. Вермель.
С помощью Золотухина я нажал на издание «Разина», и вот в ноябре 1915 года, с грехом пополам (цензура много острого выкинула), роман, наконец, вышел в счастливый час: книгу встретили восторженно.
В три недели весь «Разин» разошелся.
Но повторить издание цензура не позволила, так как суворинская газета «Новое время» и другие черносотенные газеты требовали для автора «Разина» участи атамана на Лобном месте.
Это окончательно разожгло успех.
Я и теперь думаю, что не себе обязан этим громадным успехом, а черному, тяжкому времени царизма, когда каждый проблеск мысли расценивался преувеличенно высоко.
А «Разин» смело предсказывал неизбежность близкой революции — в этом и была суть удачи автора.
Ватага футуристов не зря появилась на крутых берегах в дни тюремной действительности.
Нас — “разбойников” — строго судили и жестоко гнали, но мы упорно сделали свое дело, чего и другим желаем.
Отныне футуризм как бы завершил групповую орбиту.
Мы вступили в новую фазу вполне самостоятельного монументального мастерства: теперь каждый из нас делал отдельные книги, независимо выступал с лекциями-стихами, печатался где хотел.
Наш энтузиазм не остывал.
И поэтому наши мускулы действий крепли для работы дальше.
Из Москвы я уехал в Петроград на свиданье с Маяковским и Хлебниковым.
И, конечно, сразу же очутился на штабной квартире петроградского футуризма у Осипа и Лили Бриков, где постоянно собирались Маяковский, Хлебников, Шкловский, Рюрик Ивнев, Ховин, Эльза Триоле.
Осип Брик — наш новый друг — играл роль энергичного теоретика футуризма, превосходно писал о наших достижениях, возносил Маяковского и напечатал его «Флейту-позвоночник» и «Облако в штанах».
Бывать в штабе у Бриков стало делом культуры и удовольствия.
Здесь мы читали новые вещи, обсуждали текущие затеи, возмущались военной чертовщиной, ждали революцию.
Виктор Шкловский, этот начиненный снаряд, разрывался парадоксальностью, острыми мыслями об искусстве, проявлял крупные способности новой формации.
Лично для меня Шкловский был примечателен тем, что, прослушав мои вещи, говорил комплименты, собирался обязательно написать обо мне и до сих пор не устает собираться...
И такой же компактный снаряд, как Осип Брик.
Недаром этих двух очень боялся Хлебников и, по дороге от Бриков, говорил мне:
— Я больше к ним не пойду.
— Почему?
— Боюсь.
— Чего?
— Вообще... у них жестокие зубы.
Но Хлебников приходил, читал стихи и загадочно посматривал на зубы Брика и Шкловского.
Как известно, Хлебников был одержим математикой, цифроманией. Мы в этом ничего не понимали.
Поэтому Брик однажды созвал ученых-математиков к себе, и Хлебников прочитал доклад «О колебательных волнах 317-ти».
По Хлебникову число 317 было законом колебательного движения государств, и народов, и событий, и войн, и толп, и даже отдельных душ и отдельных поступков.
Хлебников доказывал математикам (у Брика) связь между скоростью света и скоростями Земли солнечного мира, связь, заслуживающую названия “бумеранг в Ньютона”.
После хлебниковских уравнений выходило, что площадь прямоугольника, одна сторона которого равна радиусу Земли, а другая — пути, проходимому светом в течение года, равна площади, описываемой прямой, соединяющей Солнце и Землю, в течение 317 дней.
Переходя затем к волнениям отдельных душ, поэт-математик доказывал, что жизнь Пушкина дает примеры колебательных волн через 317 дней.
Например, свадьба Пушкина состоялась на 317-й день после помолвки с Гончаровой.
Смелость хлебниковских уравнений в отношении закона души одного человека привела ученых в состояние опасного психомомента, и они ушли с несомненным бумерангом в головах.
Ибо никак не могли связать уравнения опытных наук со свадьбой Пушкина.
Только один профессор, надевая галоши, молвил:
— А все-таки это гениально.
Вскоре после вечера математики Маяковский — Брик выпустили журнал «Взял», где Хлебников и напечатал свой бумеранг в Ньютона.
Маяковский заявил во «Взяле»:
— Сегодня все футуристы. Народ — футурист. Футуризм мертвой хваткой взял Россию. Да, футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Голос футуризма, вчера еще мягкий от мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди.
Энтузиазм получал новые подкрепления. Хотелось двигать горами, хотелось по-разински ахнуть кистенем по башке николаевской России, хотелось скорей приблизить шаги революции.
И эти шаги ощущались всеми, кто понимал все вокруг совершающееся.
События тучами на горизонте множились, росли, сгущались.
Искусство омертвело.
Весь мир был занят спешным самоубийством и стоял по колено в крови.
Фокус общественности сосредоточился на Государственной думе, где занимались политической критикой царского правительства, где по-прежнему “героем дня” являлся черносотенец Пуришкевич.
Деятели искусства поголовно спасались от войны всяческими изворотами, ни один из нас не сочувствовал мировому самоубийству.
Однако очередь “ратного ополчения” доходила до меня.
Сначала я уехал в Москву.
Тут мы издали толстый журнал «Московские мастера» с красочными репродукциями.
Но это не спасало от фронта.
Я угнал в Крым, мечтая о миролюбивой Персии.
Жил “на всякий случай” в Новом Симеизе.
Жил с “футуристом жизни” Гольцшмидтом, который тоже спасался.
Мы читали лекции в Ялте, Алупке, Симеизе, бродили по горам, подыскивая “отступление”, купались, как дельфины.
Словом, мы не унывали.
Перед каждой лекцией ялтинский полицеймейстер Бузе вызывал меня в полицию и брал подписку, что стихов о Разине читать не буду.
Но я читал “по требованию публики”, и лекции запретили.
В Алупке тогда жили Алиса Коонен и А.Я. Таиров.
В Ялте — композитор Ребиков.
В Ялте нередко гостил я на даче А. Чехова, у его сестры Марии Павловны.
У Чехова постоянно собиралась молодежь, и мы за чайным столом с пирогами (пироги стряпались, какие любил Чехов) читали, пели, веселились.
В чеховском вишневом саду распевали стихи.
Мое “пребывание на курорте” кончилось тем, что однажды меня вызвали в полицию, показали свежий номер «Нового времени», где было напечатано, что „автору «Стеньки Разина» не место проживать рядом с Ливадией” (царским дворцом), и мне предложили убраться.
Пришлось переменить курорт.
Мы с Гольцшмидтом переехали в Кисловодск, где занялись лекционными выступлениями.
Но здесь выступать стало жутковато. Кисловодск был переполнен военщиной, и к нам постоянно приставали офицеры: почему мы не на войне?
А у нас, на беду, и вид был самый что ни на есть гвардейский, с ядреным мясом для пушек.
Да только война нас никак не устраивала.
Едва изворачивались, но все-таки вывертывались: наши годы здесь, на Северном Кавказе, уже считались мобилизованными.
Именно — здесь.
Но мы себя здешними не считали и в этом смысле вообще были нездешними.
Один коварный случай чуть не подвел нас под солдатский станок.
Дело в том, что атлет Гольцшмидт читал в Железноводске лекцию о физкультуре — «Солнечные радости тела».
И, как обычно, после лекции проделывал опыты концентрации силы: ловким ударом честно разбивал об свою голову несколько толстых досок.
Этим экспериментом заинтересовалась группа подвыпивших офицеров.
Офицерская компания явилась за кулисы к Гольцшмидту и потребовала показать еще не расколотые об голову доски.
Гольцшмидт показал.
А офицеры почему-то решили, что доски предварительно склеены, что это обман.
Обиженный Гольцшмидт резонно ответил:
— Раз вы не верите, попробуйте об свою голову.
Один из офицеров принял вызов, желая, очевидно, осрамить Гольцшмидта.
Офицер сел на стул, взялся за края доски, раскачал и со всего маху дернул плашмя по своей лысой башке.
И, выпучив глаза, повалился на пол.
После столь неудачной офицерской пробы, предвидя скандал, мы предпочли ретироваться.
И действительно, сейчас же распространились слухи, что футуристы избили доской по голове какого-то офицера.
Мы переехали на третий “курорт” — в Тифлис, где и утвердились благополучно.
Старая Россия разваливалась вдрызг.
Об этом писали, говорили открыто.
Все жили подъемом, весело жили.
После ряда выступлений я издал здесь книгу стихов «Девушки босиком».
Молодой тифлисский критик Борис Корнеев, с неожиданной смелостью напечатав несколько статей, раскрыл революционно-политическое кредо русского футуризма.
За Борисом Корнеевым пошли и другие критики восхвалять футуристов как „могучих поэтов-борцов современности”, как закаленных энтузиастов „из свободной страны будущего”.
В солнцедатном Тифлисе в смысле газетных встреч и густых выступлений жилось превосходно.
Здесь по-настоящему любили поэтов и так кахетински принимали, что голова ходила лезгинкой.
Ого! Грузины умеют чтить поэзию!
Недаром в Грузии много своих поэтов.
Как раз тогда блестяще шумела грузинская группа поэтов-новаторов под именем «Голубые роги», это: Робакидзе, Яшвили, Табидзе, Гаприндашвили, Гришашвили.
А у армян был свой футурист — Кара Дарвиш.
И мы, поэты, жили в тесной дружбе.
Неожиданно в Тифлис приехал Куприн прочитать лекцию «Судьба русской литературы».
Я был изумлен: Куприн никогда не читал лекций, никогда не гастролировал.
Но в первую же минуту нашей приятельской встречи Куприн объяснил:
— Ты удивлен? А удивительного ничего: в Петрограде не продают ни капли вина. Запрещено. А тут мы разговеемся и спляшем лезгинку. Сначала пойдем в цирк на французскую борьбу к нашему волжскому бурлаку-богатырю Ивану Заикину, а оттуда втроем в духан.
— А как же насчет лекции «Судьба русской литературы»?
— Ну, в этом виноват мой антрепренер Долидзе. Я ему говорил, что не умею читать лекций. Впрочем, как-нибудь справимся. Начну со встреч с Толстым, Чеховым, Горьким и кончу футуристами.
Поехали в цирк.
Куприн купил бурдюк вина и после “парада всемирного чемпиона” поднес при публике Ивану Заикину.
Куприна и меня выбрали в жюри по наблюдению за борьбой, а предварительно мы приложились к бурдюку.
За столом жюри Куприн шептал мне:
— Судьба русской литературы очень загадочна... Что я буду читать? Не знаю. Если сказать, что в Петрограде ждут революцию, меня арестуют. Черт его знает, что вообще происходит в России. Николай, говорят, пьянствует с горя: скоро ему крышка, честное слово.
Борьба кончилась, и мы втроем покатили в духан.
Там, в родной атмосфере, разговевшийся Куприн и бывший саратовский крючник, а ныне чемпион мира Заикин так широко разгулялись, что духан «Симпатия» извергался вулканическим пиром: все столы соединились в один, все горели в речах, в лезгинке, в сазандари.
Грузины стреляли в потолок.
“Русская литература” пировала бесшабашно.
За день до лекции, в три часа ночи, мы с Куприным шли по Михайловской улице и вдруг слышим: из подвального этажа доносится монотонное церковное чтение.
— Это читают по покойнику. Пойдем проститься, — сказал Куприн и шмыгнул в подвал.
Я — за ним. Постучали. Впустили.
На столе лежала покойница-старушка. Около, со свечой, читала монашка. Куприн подошел к покойнице, поцеловал ее в лоб и тихим голосом произнес речь:
— Прости, дорогая сестра, нас, несчастных бродяг, русских писателей, шляющихся по ночам нашей бездомной действительности. Не суди нас, бесправных и потерянных. Ты кончила жизнь в бедном подвале. Ну что ж? Не лучше кончим и мы, одинокие скитальцы по дорогам литературным, по дорогам загадочным. Что нас ждет? Не все ли равно. В жестокое время крови мы об этом не думаем. У каждого свой короткий путь, и все мы бродим вразброд, но путь к смерти — один, и на этом пути мы встретимся. Прости.
На улице Куприн продолжал свои мысли:
— Ну, ладно... Ну, мы — именитые писатели, а она — старушка из подвала. Но, по существу, разницы, брат, никакой. Все на свете очень условно. Когда я был в Ясной Поляне у Толстого, великий старик поразил меня мужицкой простотой обыкновенного человека земли. Ах, как он говорил о жизни и смерти. Нет, этого нам не передать. Мы не такие, мы не умеем быть такими. Мы заняты художественной литературой и думаем, что это очень важно... Скучно, брат, очень скучно так думать... Не мудро...
На другой вечер состоялась лекция «Судьба русской литературы».
В переполненный зал консерватории Куприн явился в большом тумане.
Сперва публика встретила знаменитого писателя пламенно-приветственно.
Лектор начал с заявления:
— Вы пришли слушать серьезную лекцию, но я лекций никогда не читал. Это не моя специальность. Я могу только рассказать попросту... Прошу не взыскать... Как умею... Но никакой лекции не ждите, лекции не будет...
В зале произошло смятение. Кто-то крикнул:
— А «Судьба русской литературы»?
— А на афише...
— Вас интересует, — мутно смотрел на публику Куприн, — судьба? Но судьба совсем не в лекции. Вот в первом ряду сидит мой друг Вася Каменский; он может читать лекции, а я не могу.
Раздался смех и шум. Кричали:
— Безобразие!
— Вот так судьба!
Я обратился к публике:
— Никакого безобразия нет. Поймите, что Александр Иванович желает рассказать именно о судьбе русской литературы, но не в форме научной лекции, а в плане беседы. Это интереснее сухой лекции.
Но Куприн разобиделся за крики „безобразие!” и заявил:
— Кому не нравится, тот может получить билеты обратно и вернуться домой спать.
Тут поднялся переполох: часть публики сорвалась с мест и бросилась к кассе. Часть осталась. Куприн тяжело вздохнул:
— Вот в том и судьба литературы, что она мало кому понятна. В разные времена ее разумели по-разному. Толстой, например, отказался от художественной литературы, а Толстой был мудрец. В наши смутные дни эта судьба стала жалкой, несчастной... Никто не знает, что произойдет завтра... И вся судьба переменится... Придет другая жизнь... Вы понимаете — не могу говорить... Нельзя... Я лучше расскажу о своей встрече с Толстым.
И Куприн блестяще начал рассказывать о своей поездке к Толстому, но когда дошел до описания толстовских собак, из публики загалдели:
— При чем тут собаки! Довольно!
— Как при чем? — удивился Куприн. — Да собаки — изумительные друзья человека. Разве можно не любить собак, этих прекрасных животных!
Тогда с негодованием и фырканьем поднялась еще часть публики и ушла с руганью.
Грустными татарскими глазами посмотрел Куприн вслед уходящим:
— Нет, ничего не выходит. Я попробую вам, немногим, прочитать какой-нибудь свой рассказ.
И автор приступил к чтению «Изумруда».
Однако после первой страницы и оставшаяся часть слушателей стала с шумом расходиться.
В результате около Куприна остались Заикин да я.
Так кончилась “судьба русской литературы”.
Во всяком случае, апофеоз лекции явился для Куприна убедительным поводом завить горе веревочкой в ближайшем духане «Грустный орел».
Александр Иванович не унывал:
— В духане куда лучше. И публика тут никакими судьбами не интересуется. Очень приятно, тепло и весело.
Через день Куприн уехал в Петроград с тремя бурдюками кахетинского.
Внешние и внутренние события стремительно толкали Россию на путь революции.
Не было человека вокруг, кто бы сомневался в скорой неизбежности государственного переворота.
Романовский престол висел на ниточке.
А потому жилось празднично-весело.
Хотя мои годы были давно угнаны на фронты, но теперь я чувствовал себя самодемобилизованным, ибо пользовался уже именем и ничего не боялся.
Побывал с лекциями-стихами (всюду базировался на «Разине» как революционной пропаганде и открыто нажимал на политическое кредо футуризма) в Кутаисе, Батуме, Поти, Сочи, Новороссийске, Сухуме.
Полиция придиралась упорно, но я спокойно показывал роман «Разин», вызывая немалое удивление вооруженных архангелов общественного спокойствия.
Отчитался в Екатеринодаре, Армавире.
На армавирское выступление неожиданно явился Евреинов; он приезжал в Сухум из Петрограда.
От Евреинова я услышал, что вот-вот в Петрограде разразится революция.
Я поспешил в Ростов.
В ростовской гостинице полицейская облава потребовала паспорт и “отношение к воинской повинности”.
Ввиду моего отрицательного отношения к тому и другому я заявил, что документы потерял, и гордо показал свои афиши.
Афиши не убедили полицию, и меня поперли к градоначальнику.
Его превосходительство сидело за столом в крайне опечаленном, расстроенном виде и тихо спросило:
— Что вам угодно?
Я сообщил о случившемся несчастии с документами, развернул афиши и обратился с просьбой разрешить мне лекцию в Ростове.
Градоначальник, не читая афиши, подписал: „Разрешаю”.
В этот момент ввалился полицеймейстер:
— Ваше превосходительство, все арестные помещения переполнены дезертирами. Прибывают новые партии. Куда их деть, положительно не знаю. Дезертирская наглость дошла до того, что в самом полицейском управлении мы арестовали сейчас шестнадцать человек.
В ответ градоначальник молча протянул полицеймейстеру три большие телеграммы.
Я не уходил: надо было добиться другого разрешения — проживать в гостинице без документов.
Полицеймейстер, пробежав телеграммы, беспомощно, остолбенело опустился в кресло, сразу побледнев.
Тут я понял, что дело неладно, что, очевидно, произошли важные события.
Градоначальник, не обращая внимания на мое присутствие, тихо сказал:
— Если это разрешить напечатать «Приазовскому краю», черт знает что завтра здесь произойдет. Положение катастрофическое. Беда...
Полицеймейстер достал большой белый надушенный платок и приложил ко лбу:
— Да... ужас...
В кабинете запахло духами.
Я смотрел на огромный портрет Николая в толстой золотой раме и думал: „Вот и довисел”.
А сам от радости встать не мог с кресла.
— Но, с другой стороны, — замогильно продолжал градоначальник, — это совершившийся факт... Газета не выходит второй день, и там все знают о положении... Телеграф в руках Государственной думы... Мы совершенно бессильны... Конец...
Не помня себя я выбежал, вскочил на извозчика и помчался в редакцию «Приазовского края».
Около редакции стояла толпа.
Я влетел по лестнице: в редакции не работали, стояли в возбуждении, весело покуривая.
Здесь и узнал из необнародованных, задержанных телеграмм о совершившемся факте Февральской революции.
При мне же, через полчаса, от градоначальника было получено разрешение напечатать все телеграммы о событиях в Петрограде.
О, что тут делалось — невообразимо: все давай жать руки друг другу и целоваться.
Газету выпустили кратким экстренным выпуском.
Листы газетные разлетались, как снег в метель.
Народ высыпал на улицы.
На заборах, на домах, на телеграфных столбах появились свеженаклеенные листовки большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов.
С пением марсельезы, с красными флагами пришли в центр рабочие массы.
Ораторов подымали на руки.
Огненные речи жгли до слез.
Я тоже говорил до хрипоты, говорил в разных пунктах и в одном месте во время речи заметил: на углу в толпе, в штатском черном мерлушковом пальто, стоял и слушал знакомый — это градоначальник.
Футуристическую лекцию, объявленную в театре, я заменил революционным митингом.
Так было в Новочеркасске, на родине Степана Тимофеевича Разина, где я первый организовал вместо назначенной лекции митинг.
Здесь слова и стихи о Разине принимались взрывами энтузиазма.
Один из казаков-ораторов требовал почему-то повесить мой портрет в зале судебных установлений.
Это предложение приняли единогласно, но исполнили или нет, не знаю.
Я уехал в Харьков. И там устроил в оперном театре митинг революционного футуризма.
26 марта в Москве, в театре «Эрмитажа», организовал “Первый республиканский вечер искусств”, на котором выступали кроме меня Бурлюк, Маяковский, Василиск Гнедов, Рославец, Лентулов, Жорж Якулов, Татлин, Малевич.
Все говорили о необходимости вынести мастерство на улицу, дать искусство массам трудящихся, ибо эти демократические задания всегда входили в программу футуризма.
И опять, как всегда и везде, наша аудитория наполнилась бурной молодежью.
Крепость неизменных сердец преданной армии по-прежнему шла за нами, и не было пределов ее возрастанью.
Теперь, когда мы освободились и раскрыли свои левые политические убеждения, молодежь бушевала вокруг нас еще гуще, спаяннее, раздольнее.
Однако этой армии юности было нам недостаточно.
Мы еще не испытали сил, по причинам полицейского запрета, среди рабочих.
С этой целью я уехал из Москвы на Урал, в Невьянские и Нижнетагильские заводы, где и выступил с широким успехом.
Рабочие никогда не видели “в живых” писателя, поэтому горячее внимание ко мне удвоилось.
С особым волнующим интересом я выступал в том самом Нижнем Тагиле, где в 1905-м я стал во главе исполнительного забастовочного комитета.
К моей приятности, многие помнили мою политическую деятельность, и мы, к взаимному удивлению “воскресшие из мертвых”, дружески разглядывали друг друга.
Испытание и здесь прошло превосходно: рабочие щедро благодарили за приезд и просили не забывать их и дальше.
Я двинулся с лекциями в Екатеринбург, в Пермь и, наконец, на лето глядя, утянулся в свое хвойное гнездо, на Каменку.
А тут своя жизнь:
Залег на отдых медведем в берлогу.
Люблю намотаться так, чтобы ноги еле волочились, и потом нежно отдохнуть.
А отдых энтузиаста — новые стихи.
За это дело и взялся — к осени сработать книгу стихов «Звучаль веснеянки».
И опять же хозяйство: брат с женой целые дни в полях, а я на “ниве литературной”.
Или у костра — на рыбалке ночной.
Летний день у нас — не меньше двадцати часов, но и эта лента времени коротка для сплошных затейщиков.
Так вот и цвело лето в стихах — не знал куда деваться от песен, да еще птицы кругом этим же занимались.
Будоражила мысль: орадостить мир гимнами неисчерпаемой бодрости и для великих дел совершенства бытия.
Ведь недаром хотелось не стихами, а солнцепадом будить сердца:
От трепета лирика бросался к разинскому запеву:
Томила боль ожидания. Впрочем:
Пора пришла:
Чтобы отныне
Радуга оптимизма перекинулась от разинских идей к порогу нашего времени.
Меня волновало что?
Дать волю выпирающим, брызжущим силам творчества, да так размахнуться, чтобы за душой ни копейки долгу не оставалось.
Чтобы молодость не жаловалась.
Меня волновало что?
Безудержная любовь к сущности жизни, стремление пронзить этой стихийной любовью всех несчастных, кто карабкался в буднях бытия и был забит судьбой, как гвоздь в стену.
И это теперь, когда
Думал: ведь не зря же, в самом деле, существуют на свете поэты.
Мы с того начали, чтобы извергнуть вулканическую бодрость во имя великолепных дней на земле нового мира.
А земля нового мира, разумеется, никак и никогда не представлялась нам в виде либеральной буржуазной республики, заменившей монархию.
Известно, что буржуазия травила нас не меньше, чем мы ее.
Буржуазия открыто ненавидела нас, как и мы ее.
Буржуазия гнала, преследовала нас.
Поэтому Февральская революция дать нам ничего, кроме подзатыльника, не могла.
Мы это отлично знали, как и то, что наши всегдашние политические симпатии жили на стороне рабочего класса, а ныне эти симпатии вылились в форму убеждений: большевики влияли основательно.
Правда, вышедшие из разночинцев, мы никогда не были пролетарскими поэтами, и пусть мало разбирались в идеологии научного марксизма, но мы всегда действовали в интересах революционного пролетариата, начиная с 1905 года.
В этом признании нет никакой натяжки или примазывания, ибо вся наша деятельность была на виду и многие произведения говорят за нас.
Что до меня — достаточно и «Степана Разина».
Работа убедительная.
Отсюда и размах безудержный, и восторженность, в борьбе выкованная, и песня, как дрова в поленницу сознательно сложенные.
И вообще — энтузиазм без берегов.
Поэтому нет ничего удивительного, что еще за два месяца до октябрьских событий, когда я прибыл в Москву, мы органически вошли в круговорот интересов большевистской партии.
Отныне с восторгом ожидали близкого восхождения солнца новой эры.
Жили как на горной вершине и первыми видели веер зари.
Жажда тесного объединения новых поэтов, художников выросла до пределов необходимости немедленной организации клуба-эстрады, где мы могли бы постоянно встречаться и демонстрировать произведения в обстановке товарищеского сборища.
Кстати, мы имели в виду и гостей с улицы.
С этой целью я с Гольцшмидтом отыскали на Тверской, в Настасьинском переулке, помещение бывшей прачешной и основали там первое «Кафе поэтов».
Сейчас же явились туда художники Давид Бурлюк, Жорж Якулов, Валентина Ходасевич, Татлин, Лентулов, Ларионов, Гончарова — и давай расписывать по общему черному фону стены и потолки.
На стенах засверкали красочные цитаты из наших стихов.
Бурлюк над женской уборной изобразил ощипывающихся голубей и надписал:
Даже Хлебников взялся за кисть и желтой краской вывел на фанере:
С первого же часа открытия в «Кафе поэтов» повалила густая лава своей братии и публики с улицы.
Как именинный пирог, набилась наша расписанная хижина.
Гости засели за двурядные длинные столы из простых досок.
И вот на эстраде загремели новыми стихами поэты.
Тут же, на особом прилавке, продавались наши книги.
Сама публика требовала:
— Маяковского!
И Маяковский выходил на эстраду, читал стихи, сыпал остроты, горланил на мотив «Ухаря-купца»:
Публика кричала:
— Хлебникова!
Появлялся Хлебников, невнятно произносил десяток строк и, сходя с эстрады, добавлял свое неизменное:
— И так далее.
Публика вызывала:
— Бурлюка! Каменского!
Я выходил под руку с “папашей”, и мы читали по заказу.
Вызывали и других из присутствующих: Есенина, Шершеневича, Большакова, Крученых, Кусикова, Эренбурга.
Требовали появления Асеева, Пастернака, Третьякова, Лавренева, Северянина.
Выступали многие, и с видимым удовольствием: здесь умели принять.
Наша эстрада была объявлена свободной для всех желающих показать товар лицом.
Поэтому часто из публики выходили на арену стихобойни разные молодые люди из начинающих и гордо подносили свои пробы пера.
Присутствующие драматические актеры декламировали наши поэмы (В.К. Сережников, В.И. Качалов, Е.В. Максимов), а оперные пели „Что день грядущий нам готовит”.
А грядущий день готовил много неожиданной пищи...
Но немногие из пестрой богемы разбирались в грядущем, довольствуясь беспечностью сегодняшнего дня.
Правда, иные мастера выступали на эстраде с новыми декларациями, но они были вне политики.
Например, Жорж Якулов с горячим темпераментом говорил с эстрады о том, как он строит на Кузнецком „мировой вокзал искусства” (новое филипповское кафе «Питтореск»), с барабана (арены) которого будут возвещаться „приказы по армии мастерам новой эры”.
С мирового вокзала искусства пламенный Якулов собирался отправлять в степь человечества „экспрессы новых достижений художеств”.
Такой же мечтатель Хлебников, поддерживая вокзальную затею Якулова, намеревался созвать в «Питтореск» всех председателей земного шара, чтобы, наконец, решить “судьбу мира”.
Между прочим, приехавший из Петрограда Евреинов рассказывал, что там был устроен грандиозный карнавал искусств: писатели, художники, композиторы и актеры на разубранных цветами автомобилях праздничной длинной вереницей двигались по Невскому.
Эту автомобильную вереницу карнавала заканчивал большой грузовик, на борту которого мелом было написано:
На грузовике, в солдатской шинели, сидел сгорбленный Хлебников.
И теперь Хлебников собирался в нашей хижине обнародовать новый манифест по случаю предстоящего съезда председателей земного шара.
Вообще насчет неожиданностей — недостатка не ощущалось.
В один из вечеров в «Кафе поэтов» явился молодой композитор Сергей Прокофьев.
Рыжий и трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, жарко пожал нам руки, объявил себя убежденным футуристом и сел за рояль.
Я заявил публике:
— К нашей футуристической гвардии присоединился великолепный мастер — композитор современной музыки Сергей Прокофьев.
Публика и мы устроили композитору предварительную овацию.
Маэстро для начала сыграл свою новую вещь «Наваждение».
Блестящее исполнение, виртуозная техника, изобретательная композиция так всех захватили, что нового футуриста долго не отпускали от рояля.
Ну и темперамент у Прокофьева!
Казалось, что в кафе происходит пожар, рушатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, косяки, а мы стояли готовые сгореть заживо в огне неслыханной музыки.
И сам молодой мастер буйно пылал за взъерошенным роялем, играя с увлечением стихийного подъема.
Пёр напролом.
Подобное совершается, быть может, раз в жизни, когда видишь, ощущаешь, что мастер безумствует в сверхэкстазе, будто идет в смертную атаку, что этот натиск больше не повторится никогда.
В те годы Прокофьева, конечно, тоже не признавали критики.
Ну а мы сразу торжественно окрестили Прокофьева гением — и никаких разговоров.
Он эту обжигающую искренность чувствовал и разошелся циклоном изо всех потрясающих сил.
Потому и не забыть этого знаменательного вечера.
Да, здесь, в «Кафе поэтов», умели встретить, поддержать, окрылить всякого, кто желал показать свою работу крепкого современного мастера.
И не только поэты, композиторы, художники, актеры выступали на эстраде кафе, но и сама публика, зашедшая с улицы, принимала энергичное участие в общих оценках того или иного выступления.
Были и такие эстеты, которые крыли нас за ломовщину футуризма (особенно — Маяковского), за разбойное уничтожение “изящного” искусства, за революционные стихи в сторону большевизма.
Однако этим эстетным рыцарям возражала сама же публика из числа друзей футуризма, доказывая правоту нашей прямой и твердой линии.
Еще накануне первых выстрелов октябрьских событий я проходил по Скобелевской площади и видел такую картину: против бывшего губернаторского дома стоял большой отряд юнкеров, и на этой же площади, против гостиницы «Дрезден», где находился штаб большевиков, стоял отряд солдат в истрепанных шинелях.
В губернаторском доме происходило, очевидно, важное заседание представителей Временного правительства.
Вся Москва ожидала выступления большевиков, но обывательское население было спокойно и серьезного значения этим слухам не придавало.
Однако картина на Скобелевской площади была достаточно убедительным доказательством, что отныне жизнь разделилась на два враждебных лагеря, что вот-вот они повернутся лицом к лицу.
В самый день выступления большевиков, часа в три, я вышел из своей квартиры, с Малой Дмитровки, направляясь на Воздвиженку.
И только прошел мимо пушкинского памятника по Тверскому бульвару, как сзади затарахтели один за другим большие грузовики, нагруженные рабочими с винтовками наперевес.
Грузовики замедлили ход.
А в это время со стороны Никитской показались другие грузовики — с юнкерами.
И они тоже замедлили ход...
И вдруг грянули выстрелы.
Публика, шедшая по бульвару, в панике бросилась врассыпную.
Выстрелы с грузовиков зачастили.
Толпа разбежалась, бульвар опустел.
Я очутился меж двух огней и прижался к каменному дому.
От шальных пуль, попадавших в дом, сыпалась на меня мука штукатурки.
Я был уверен в своем бесславном конце и ждал смерти.
И видел, как с грузовиков белой и красной стороны валились скошенные люди, — тогда их подбирали автомобили «Красного Креста» или просто раненых складывали на платформы подъезжавших грузовиков.
Перестрелка длилась сплошь, и, наконец, со стороны большевиков затрещал пулемет, сразу скосивший передний грузовик с юнкерами.
Рабочие начали двигаться, наступать.
Юнкера отступили к Арбатской площади, где находилось Александровское училище.
Перестрелка стихла.
Я продолжал начатый путь, попал на Большую Никитскую.
По улице, со стороны Кремля, проехал мимо грузовик, переполненный убитыми.
Отовсюду неслась несмолкаемая пальба: ружейная, пулеметная, пушечная.
На углах стояли вооруженные группы в штатских одеждах, и нельзя было понять, за кого они.
Отдельные фигуры, с револьверами в руках, перебегали улицы.
На тротуары сыпались осколки стекол от шальных пуль.
На мостовых валялись шапки.
Холодный ветер гнал по улицам какие-то печатные листки.
Во многих квартирах окна были глухо завешаны.
Ворота заперты.
Через Кисловский переулок я пробрался на Воздвиженку в темноте.
Огни не зажигались.
Стрельба усилилась в районе Газетного переулка и у Никитских ворот.
Вся ночь прошла в громыхающей тревоге, как и следующие дни.
Ждали исхода октябрьского боя.
С первых же часов, как только стихла генеральная стрельба, московское население высыпало на улицы, разглядывая совершившееся.
За эти дни, „которые потрясли мир”, переменилось все: установилась власть Советов.
Теперь на Скобелевской площади уже не было юнкеров у бывшего губернаторского дома — там стояла толпа рабочих с красными знаменами и мощно распевала «Вышли мы все на дорогу».
Громадная филипповская гостиница «Люкс» была занята большевиками.
По улицам спешно проходили отряды вооруженных рабочих, красногвардейцев и солдат.
Тверская превратилась в тракт пролетарской революции, по которому шагали новые люди фабричных окраин.
На фасадах многих зданий и на магазинных вывесках отпечатались ямные следы вчерашних пуль.
А в иных стенах зияли пробоины от снарядов.
Многие стекла в окнах лучились трещинами вокруг пулевых дырок.
В эти исторические дни Москва пережила небывалое потрясенье.
Однако на улицах, и особенно на Тверской, царило возбужденное оживление.
Все походило на грандиозный праздник.
Толпы бросались в места, где расклеивались первые декреты Совета Народных Комиссаров, подписанные председателем Совета В.И. Лениным.
Новая власть действовала с большевистской решительностью.
Что будет?
Это стало всеобщим вопросом.
И как бы в ответ распространились упорные обывательские слухи: большевики останутся у власти „не более двух недель”.
А пока что, с первых же часов Советской власти, когда все на улицу высыпали, мы открыли двери «Кафе поэтов», сияющими появились на эстраде и на веселье одним, на огорченье другим приветствовали победу рабочего класса.
То, что „футуристы первые признали Советскую власть”, отшатнуло от нас многих.
Эти многие теперь смотрели на нас с нескрываемым ужасом отврата, как на диких безумцев, которым вместе с большевиками осталось жить „не более двух недель”.
Со мной, например, некоторые хорошие знакомые перестали даже здороваться, чтобы потом, через напророченные „две недели”, не навлечь на себя подозрения в большевизме.
А иные прямо заявляли:
— Сумасшедшие! Что делаете! Да ведь через две недели вас, несчастных, повесят на одной перекладине с большевиками.
Но мы отлично знали, что делали.
И больше: пользуясь широким влиянием на передовую молодежь, мы повели свою юную армию на путь октябрьских завоеваний.
Разумеется, не все пошли за нами, но большинство осталось верным до конца.
Наш октябрьский энтузиазм рос.
Кстати, в «Кафе поэтов» появились новые гости: большевики в кожаных пиджаках, среди которых часто бывали Муралов, Мандельштам, Аросев, Тихомирнов.
Заходили ежевечерне вооруженные винтовками рабочие-красногвардейцы.
Бывало так: читаешь поэму с эстрады и только разойдешься, а в эту минуту входит отряд красногвардейцев.
Начальник отряда постучит об пол винтовкой:
— Оставайтесь на местах. Приготовьте документы.
После быстрой проверки начальник заявляет:
— Продолжайте.
Ну и продолжаешь читать поэму дальше.
А красногвардейцы стоят, слушают.
Мы уходили из кафе поздно, во втором часу, шагали ватагой по мостовой, читали стихи, а в это время по сторонам ночных улиц трещали пулеметы, бухали выстрелы, проносились мимо автомобили, торопливо проходили отряды красногвардейцев, пробегала конница.
Было жутко, ново и весело. „Сарынь на кичку” совершилось.
Мы дышали всеобъемлющей новизной будущего, горели энергией молодости.
Работали всеми моторами сил на полный газ.
В эти дни я выпустил две книги:
«Звучаль веснеянки» — стихи и «Его — моя биография».
В эти дни по всей Москве я расклеил “декрет”:
Густые кучи народа толпились у моего декрета и с удивлением читали неслыханные предложения мастерам искусства, что отныне:
Я предлагал мастерам засучив рукава взяться за роспись всех пустых заборов, крыш, фасадов, стен, тротуаров.
Убежден был в том, что любой город и селенье каждое возможно превратить в изумительную картину красочного торжества, чтобы таким способом украсить, возвеселить улицы новой жизни и тем самым приблизить массы к достижениям художественного мастерства, которое до сих пор тихо хоронилось в музеях, как на кладбищах.
А все эти музеи и выставки очень утомительны от чрезмерного скопленья картин, и туда надо ходить специально в известные часы, будто во храм божий, а тут вышел на улицу — и шагай, любуйся во все сочные глаза.
Впрочем, музеи и выставки — сами собой, а улицы наряженные в роспись, оформленные художественно до учета строгой дисциплины, — совсем иное.
Сюда же, разумеется, должны относиться новшества архитектуры.
Мой декрет обращался к музыкантам:
Декрет призывал поэтов:
Книги со стихами читают избранные, слово поэтов доходит до массы в жалком количестве, и книгу надо найти, выбрать, заплатить деньги (в библиотеках по одному экземпляру), а тут — на особых уличных щитах постоянно расклеиваются стихи поэтов.
И не в одних стихах суть, но и в коротких рассказах, в статьях, в цитатах из отдельных произведений, в научных сведениях.
Я даже представлял, что на фронтонах домов будут выделаны цитаты из поэтов, как выкованные мысли.
О, непромокаемый энтузиаст, я вообще представлял очень многое в направлении моего декрета.
Мне даже пришлось быть свидетелем частичного осуществления предложений.
На другой же день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.
Что такое?
Оказалось: Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.
Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.
Я пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с “риском для жизни”, и крикнул:
— Браво!
Бурлюк мне сердито ответил:
— Не мешайте работать!
Прибитие картин кончилось взрывом аплодисментов толпы по адресу художника.
Тут же к нам подошли люди и сообщили, что сейчас на Пречистенке кто-то вывесил на стенах громадные плакаты с нашими стихами.
Вскоре после этого “события” мы прибавили еще одно: выпустили «Газету футуристов» (редакторы Бурлюк – Каменский – Маяковский), которую расклеили по всем заборам Москвы.
Дела множились.
Отныне наши выступления носили совершенно иной характер.
На рабочих и солдатских митингах, на которых выступали вожди пролетарской революции, мы по окончании читали стихи.
В эти боевые дни развернулся во всю ширь поэта-трибуна Маяковский.
Приходилось выступать со стихами по нескольку раз в день.
Делегации от учащейся молодежи появлялись чуть свет на квартире с просьбами о выступлениях.
С октябрьских дней я стал постоянным выступателем не только в Москве, но и всюду по городам и фабрикам.
Надо было только удивляться, какими способами меня разыскивали: находили всюду и сразу, хотя я и редко бывал дома.
Незаметным образом я перестал принадлежать себе, а понесся в стремительном потоке общей массы, понесся с чистым и радужным, как утренняя роса, просветленным сердцем к прекрасному будущему новой социалистической жизни.
О, я отлично знал (еще по 1905 году), что после сегодняшнего праздничного потока завтра могут и должны наступить суровые будни стройки социализма, что впереди много преодолений всяческих трудностей, но вера энтузиаста “сильнее смерти”, и с этой верой было чудесно жить и работать.
И я отлично знал, что скоро пролетарская революция выдвинет свои творческие силы, что придут новые люди, новые поэты-коммунисты, но это мне не только не мешало, а напротив — с возрастающим нетерпением стало интересно ждать прилива свежих волн рабочего творчества.
С приходом Октября роль футуризма как активного литературного течения кончилась — это было ясно.
Мы сделали свое дело.
Отныне все переиначилось.
Паровоз ленинского напора неотступно двигался к намеченной цели.
Да здравствует новая жизнь!
На этом кончаю первую часть труда.
Путь энтузиаста продолжается.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 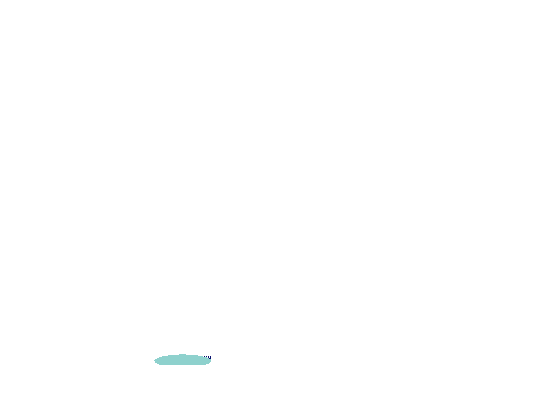 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||