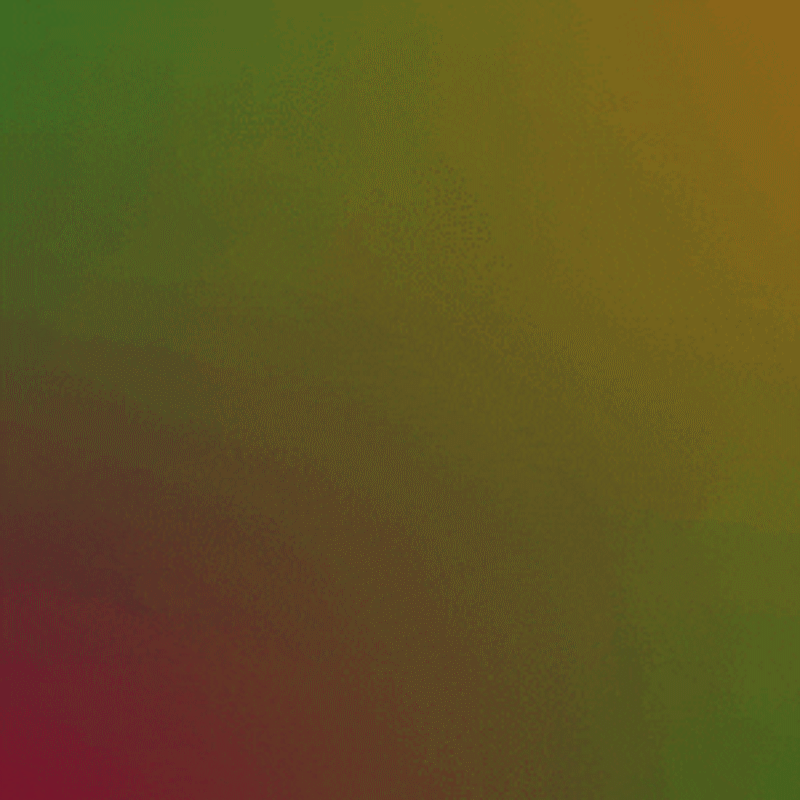
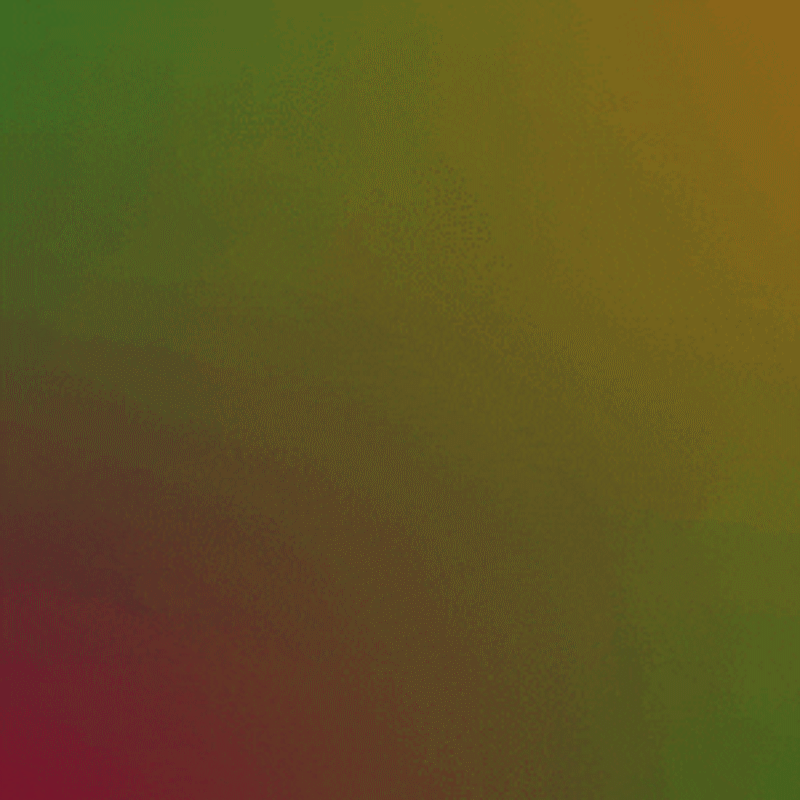
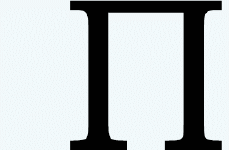 риват-доцент Военно-Медицинской Академии и... художник, отрицающий анатомию в живописи.
риват-доцент Военно-Медицинской Академии и... художник, отрицающий анатомию в живописи.Не было и не будет такого!
Когда на заседании в «Обществе Интимного Театра», посвящённом вопросу “свободного танца”, Кульбин стал развивать подробно параллельную моей теорию театрализации жизни, теорию танцеволизации жизни, Г.Д. Эристов, принимавший участие в прениях, со свойственным ему остроумием заметил, что, дойдя до кульбинационного пункта, дальше идти некуда!..
Кульбин всегда доходил до кульбинационного пункта. Всегда и во всём. Об этом слишком зычно говорят его лекционные выступления и его манифесты.
Это был Янус в энной степени — и при этом совершенно цельная натура. Лики Януса (учёного, футуриста, врача, богомольца, танцеволизатора и пр.) имели все одно начало: волю к театру! к театру в жизни! самую искреннюю и интенсивную театрализационную тенденцию.
Выросший в буржуазной семье, вращаясь в среде буржуазных родственников, обремененный семейством равным образом буржуазного склада, Кульбин не мог не хотеть иного, светлого, странного, пускай смешного, но чудесного, нездешнего, не “буржуазного”. Как талантливая натура, он должен был хотеть во что бы то ни стало иного мира, иных энерваций, иных радостей. Он должен был стремиться отсюда, потому должен был искать преображенья своей жизни.
Шляпки супруги, ветряная оспа детишек, превосходительные геморрои чинов Генерального Штаба, — разве от этого не захочешь бежать! бежать куда угодно! хоть в церковь! хоть к глупому попу! хоть к чорту на рога! Тут возжаждешь не только танцеволизации, а...
Словом, театральность, даже больше — театральная гипербулия! — вот что было в Николае Ивановиче, рядом с недюжинным талантом живописца, самым существенным и предопределяющим.
Отсюда наша дружба с ним, наше давнее “на ты” и уйма портретов, написанных им с меня — как апологета театральности.
О, меня он прекрасно знал, — и знал что делает, меряя меня на свой аршин.
В статье «Свободное искусство, как основа жизни» (см. «Студию импрессионистов» под редакцией Кульбина же) он пишет:
На первом месте психология художника! „Мнения великих художников скрыты в их картинах” — самое ценное мнение Кульбина из всех кульбинских. Что его мнение обо мне, выраженное в большом красочном портрете (фронтиспис моей книги «Театр как таковой») оказалось „не в бровь, а в глаз”, лучше всего говорит о его знании оригинала. Это знание д-р Кульбин приписывал врачебному образованию. „Знания врача не только не помешали ему творить — пишет Кульбин о Чехове (ibid) — но придали его творчеству необычайную силу, человечность, близкую к евангельской. Рюиздаль проявил художественные способности в четырнадцатилетнем возрасте, но он сделался сначала врачом, а потом уже живописцем, и это помогло ему основать новую великую отрасль живописи, — пейзаж”.
 Возможно, что это так, т.е., например, мой “знаменитый” портрет (приложенный, кстати сказать, и как фронтиспис к английскому изданию моих пьес в переводе Бегхöфера), которому на лекции Кульбина в Оллиле публично аплодировал сам великий Репин, — возможно, этот портрет кисти главнейшим образом доктора Кульбина, приват-доцента Военно-Медицинской Академии, психометра и диагноста, а не просто Николая Ивановича Кульбина. К тому же, д-р Кульбин неоднократно лечил меня, причём налицо редкое совпаденье (“автопортретность”?) болезней портретиста и оригинала: простатит, воспаление почечных лоханок, катар кишок, истеро-неврастения и малокровие, — всеми этими прелестями покойный д-р Кульбин перестрадал в своё время, как и я, и кажется в тех же жестоких формах. И тем не менее... Да, тем не менее, я полагаю, что не профессия врача определила изумительное сходство портрета с оригиналом (Станислав Пшибышевский сказал бы, что он меня выцедил на полотно точно так же, как его, Пшибышевского, выцедил некогда Эдвард Мунх).
Возможно, что это так, т.е., например, мой “знаменитый” портрет (приложенный, кстати сказать, и как фронтиспис к английскому изданию моих пьес в переводе Бегхöфера), которому на лекции Кульбина в Оллиле публично аплодировал сам великий Репин, — возможно, этот портрет кисти главнейшим образом доктора Кульбина, приват-доцента Военно-Медицинской Академии, психометра и диагноста, а не просто Николая Ивановича Кульбина. К тому же, д-р Кульбин неоднократно лечил меня, причём налицо редкое совпаденье (“автопортретность”?) болезней портретиста и оригинала: простатит, воспаление почечных лоханок, катар кишок, истеро-неврастения и малокровие, — всеми этими прелестями покойный д-р Кульбин перестрадал в своё время, как и я, и кажется в тех же жестоких формах. И тем не менее... Да, тем не менее, я полагаю, что не профессия врача определила изумительное сходство портрета с оригиналом (Станислав Пшибышевский сказал бы, что он меня выцедил на полотно точно так же, как его, Пшибышевского, выцедил некогда Эдвард Мунх).Причина в театральности Кульбина,1![]()
Боже избави меня подтасовывать, но этот “знаменитый” портрет (говорю о красочном, существующем в двух вариантах различных “гамм”; один — моя собственность!) — в значительнейшей степени автопортрет Кульбина, при чётком сходстве черт лица изображённого с моими.
В своей статье о Кульбине «Тот, кому дано возмущать воду» (см. книжку «Кульбин», издание о-ва Интимного Театра) Сергей Городецкий рассматривает мир, изображаемый Кульбиным, как „поле битвы между Субъектом и Объектом”. Изображению этого поля битвы — заявляет Городецкий (стр. 21), отданы работы и творчество Кульбина.
Да не рассердится на меня Сергей Митрофанович, но этому “нейтралитету” Кульбин в моих портретах изменял самым недвусмысленным образом, причём так открыто становился на сторону Субъекта, что в “знаменитом” портрете даже наделил мои щёки своими яркими “чахоточными” пятнами.
— Родился в 1868; ещё не умер, — так сострил о себе Николай Иванович в «Датах» названной книжки (стр. 33).
— Уже умер, — заметит профан, узнав о кончине Николая Ивановича 6 марта 1917 г.
— Ещё не умер, — заметит мудрец, увидев “знаменитый” портрет.
Он жив, в этом автопортрете, Кульбин! и кричит нам о своей воли к блаженному преображению каждым дерзким штрихом, каждой сногсшибательной краской! Это он, он сам в роли Евреинова! это он задрал голову и вдохновенно приказывает что-то „стоящим наверху”! Это над его лбом дрыгают соблазнительные ножки арлекинов и танцовщиц! Это он, он сам „сумасшествующий”, — сам полу-шут, полу-святой, изумительный, неутомимый, не сдающийся!.. Это его театр, его, его, его!.. Да здравствует же „Театр для себя” и его первый иллюстратор, поистине превосходительный Кульбин!
 авид Давидович Бурлюк — мой большой друг, старый приятель и отчасти единомышленник — рисовал и писал меня многажды. Первые два угольных наброска (фас и профиль) были им исполнены в 1910 г. в задней комнате выставки Импрессионистов, где автор этих строк тоже принял участие, вывесив на ней, по приглашению покойного Н.И. Кульбина и художников, примыкавших к группе «Треугольник», несколько сценических эскизов разноценного значения. Собственно говоря, с этого времени и можно считать начало нашей дружбы с Давидом Давидовичем, дружбы, в значительной степени обязанной сватовству того же Н.И. Кульбина, в то время полагавшего меня за primus’a inter pares в искусстве театра, а Д. Бурлюка за primus’a inter pares в искусстве живописи. Другие портретные наброски были сделаны Бурлюком пять лет спустя, в Куоккале, где Давид Давидович оказал мне честь и доставил много радости своим гощением у меня. Эти портретные наброски, по-видимому, разожгли аппетит ко мне главы нашего футуристического движения, и он убедил меня позировать ему для большого полотна.
авид Давидович Бурлюк — мой большой друг, старый приятель и отчасти единомышленник — рисовал и писал меня многажды. Первые два угольных наброска (фас и профиль) были им исполнены в 1910 г. в задней комнате выставки Импрессионистов, где автор этих строк тоже принял участие, вывесив на ней, по приглашению покойного Н.И. Кульбина и художников, примыкавших к группе «Треугольник», несколько сценических эскизов разноценного значения. Собственно говоря, с этого времени и можно считать начало нашей дружбы с Давидом Давидовичем, дружбы, в значительной степени обязанной сватовству того же Н.И. Кульбина, в то время полагавшего меня за primus’a inter pares в искусстве театра, а Д. Бурлюка за primus’a inter pares в искусстве живописи. Другие портретные наброски были сделаны Бурлюком пять лет спустя, в Куоккале, где Давид Давидович оказал мне честь и доставил много радости своим гощением у меня. Эти портретные наброски, по-видимому, разожгли аппетит ко мне главы нашего футуристического движения, и он убедил меня позировать ему для большого полотна.Этот портрет (масло) автор его, не успев докончить („он только начат” — подлинные слова Давида Бурлюка), просил решительно никому не показывать. Верный всегда в исполнении просьбы друзей, я, однако, по отъезде Бурлюка “спасовал” самым позорным образом, так как Илья Ефимович Репин, также начавший в то время портрет с меня, узнав, что и Бурлюк с меня пишет, захотел, во что бы то ни стало, познакомиться с его работой. Мне трудно, каюсь, было отказать в таком естественном желании маститому художнику, хоть я и прекрасно сознавал, что тем самым выдаю, что называется “головой” футуриста передвижнику. Но делать было нечего — разговор так “повернулся”, что осталось либо показать немедленно работу Бурлюка, — которой он придавал, при условии её законченности in futurnm, громадное значение, — либо обидеть чтимого и любимого мною Илью Ефимовича.
Когда Репин увидел работу Бурлюка, то, раскритиковав её, как и следовало ожидать, он добродушно заметил: „Бурлюк кокетничает!.. это же совсем законченный портрет”.
Законченный он или только начат, не так уж важно в кардинальных интересах настоящего исследования (я привёл здесь мнение Репина и самого Бурлюка лишь как оговорку). Для нас сейчас (мы этим заняты) гораздо важнее знать, поскольку в этом произведении Бурлюка, так же, как и в других его произведениях, для которых автор этих строк был взят оригиналом, сказался автопортретам молодого maestro, этого искреннейшего и фанатичнейшего, как мы знаем, новатора современной русской живописи.2![]()
Я не знаю другого живописца, который бы относился к задаче чистой формы портрета более искренне и постоянно, чем Давид Бурлюк.
Для него лик Мадонны, арбуз, телега, писатель, пароход, степь или улица — одинаково интересны в сюжетном отношении. Для него живопись — только цветное пространство. Разделение живописи по роду изображения (жанр, портрет, пейзаж, животные и т.д.) — чисто детское, на взгляд Бурлюка.3![]()
Горячий поклонник бессмертного Сезанна, Давид Бурлюк смотрит на природу главнейшим образом как на плоскость, как на поверхность (такой взгляд, — замечу в скобках, — в значительнейшей степени обусловлен у Бурлюка его недостатком зрения, так как известно, что стереоскопический эффект зависит всецело от исправного здоровья обоих глаз).
На какое бы произведенье Бурлюка вы ни взглянули внимательно, вас прежде всего поразит это плоскостное построение его живописи. Особенно такая фактура бросается в глаза на его портретах. Мои портреты все по-бурлюковски плоски. Правда, зная теорию теней и законы перспективы, Бурлюк может в сильнейшей степени ослабить эту плоскостность присущей ему манеры видеть и изображать, но тогда уж в результате получается не чисто бурлюковская живопись. — Таков, например, портрет моего брата Владимира. Последний на сеансах выражал неукоснительное требованье жизненности своего изображения, и галантный Давид Давидович легко доказал, что это ему вовсе не трудно. Он написал лицо и фон согласно указаний заказчика. Когда же тот стал придирчив, в плане старой живописи, и к рукам, по-бурлюковски славно “взятым” на этом замечательном в своем роде портрете, Бурлюк возопил: „Дайте же мне хотя бы руки сделать по своему!” К этим рукам, плоскостно построенным, и относится, говоря откровенно, подпись на этом портрете нашего знаменитого новатора живописи.
Мои портреты работы Давида Бурлюка, которого — похвастаюсь — я никогда не насиловал, все плоскостны, что не мешает, впрочем, некоторым из них (например, карандашному рисунку с меня в виде скульптурного бюста) в значительнейшей степени иметь сходство с оригиналом.
Б. Христиансен (op. cit. см. гл. II — «Эстетический объект») говорит как бы в оправдание Давида Бурлюка:
Я очень рад, что в число художников, меня писавших и рисовавших, судьба включила и славное имя Давида Бурлюка. Художник, совершенно лишённый психологического вкуса не только в жанре, но и в портретной живописи, художник чисто формального направления, интерес которого к фактуре вытесняет начисто все другие интересы искусства, — такой художник, вернее произведения такого художника, совсем не занятого “портретом” (в его обычном живописном понимании), когда он “делает” портрет, как нельзя лучше могут подтвердить идею настоящей книги, если только её не опровергнут.
В самом деле — легко понять, в конце концов, что портретист психолог par exellence непременно привнесёт свою психологию при живописной трактовке данного лица, а привнеся, с фатальной неизбежностью создаст некий автопортрет, хотя бы в смысле духовного снимка (отпечатка) своего Я. Совсем другое дело — художник- формалист, фактурщик, для которого лицо человека мало чем разнится, в смысле живописного интереса, от половой щетки или помойного ведра. Такой художник — не психолог или умышленно вытравляющий психологический момент из акта своего творчества, художник, занятый чисто внешней действительностью, — только линиями, красками, светом, цветом, формой, — словом, живописью в её самодовлеющем значении, живописью, как таковой — цветным пространством и только, — такой художник, которого по праву можно назвать пуристом своего искусства, останется пуристом и при изображении цветного пространства, являемого при сеансе данным ликом, т.е. беспримесно передаст его на своё полотно.
И вот, несмотря на вышесказанное (на ожидаемое, на, казалось бы, должное), в портретах Бурлюка с меня даже сей пурист оказался в сильнейшей степени автопортретистом, — это обстоятельство является исключительно показательным для основной идеи настоящего исследования: мы убеждаемся из данного примера, что автопортретизм не есть начало, присущее только тому или иному роду живописи, тому или иному художнику, направлению, школе, — нет, мы видим, что оно всеобщее для художественного творчества, всеобщее для всех родов живописи, как старой школы, так и “футуристической”, всеобщее настолько, что мы по праву можем считать его одним из основных начал искусства.
Давид Бурлюк, тяжеловесный, плечистый, слегка согбенный, с выражением лица, отнюдь не чарующим, немножко неуклюжий, хоть и не без приязни к грациозничанью,4![]()
Живописный пуризм оказался на поверку слишком прозрачной маской! психологическую печать настоящего художника не вытравить никакой идеологией, даже идеологией чистой фактуры! quasi-безразличное цветное пространство оказалось, после перевода его на предательский холст, тем же зеркалом для Д. Бурлюка, что и для других художников: зеркалом, прежде всего, отражающим духовный лик переводчика.
Надеюсь, “приведённых примеров” ‹...› достаточно для вящей убедительности автопортретического принципа художественного творчества.
Если же взыскующим истины число ‹...› “приведённых примеров” кажется недостаточным, укажу хотя бы вкратце на:
Разбираясь в художественных дарах-сюрпризах, включённых в мои изображения оказавшими мне честь своим творчеством портретистами, мы видим в итоге, что один подарил меня своей страстью и верхней губой, другой дал мне свой чахоточный румянец, третий — свой остроконечный нос, четвёртый — свой по-детски картофельный нос, пятый — свой большой рот, шестой (лысый) уменьшил мне шевелюру, седьмой снабдил меня своим фасоном черепной коробки, восьмой своей широкоплечей грузностью и пр.
Разбираясь, — говорю я — в этих художественных дарах, невольно попадаешь в положение гоголевской невесты и начинаешь прикидывать: „Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Ивановича” ... то вышел бы портрет на кого угодно похожий, только не на... автора этих строк.
Ни один из существующих портретов, претендующих представить меня (именно меня!) я не считаю достигающим настоящего сходства со мною. Я и мои портреты — отдаю должное высокой художественной ценности большинства из них — величины различные не только внутренне, но и внешне. Я — не они! т.е. не лица, изображённые на них. Они — не я. Между нами пропасть, через которую в этих портретах сквозят лишь шаткие мостки к моему подлинному лику. Правда, многие из “моих” портретов сильно напоминают меня (ну вот совсем как я! ну вот чуть было не разлетелся раскланяться, как со старым знакомым), но, но и но!..
А между тем (игра случая, на которую рекомендую обратить серьёзное внимание всем мистикам, духовидцам, телепатам, окультистам и теософам!), портрет моей прабабушки — эта очаровательная, в полном смысле слова, миниатюра на слоновой кости, созданная приблизительно 100 лет тому назад (если не раньше) — до изумления, до холодной дрожи передаёт как внешние, так и равным образом внутренние черты правнука этого прелестного, вечной памяти, оригинала.
Это мой портрет, мой, несмотря на то, что он написан задолго до моего рождения.
Как странно... необъяснимо... Как жутко и сладостно перед таинственной завесой Неведомого.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 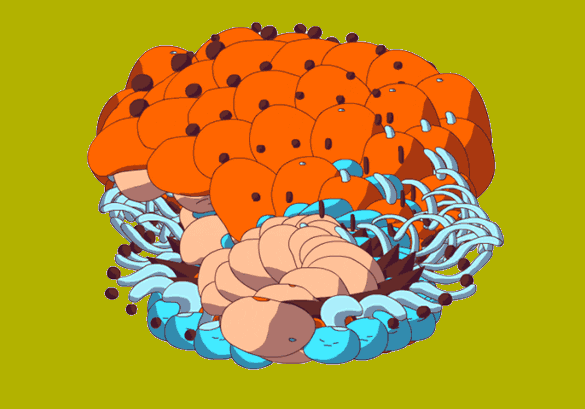 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||