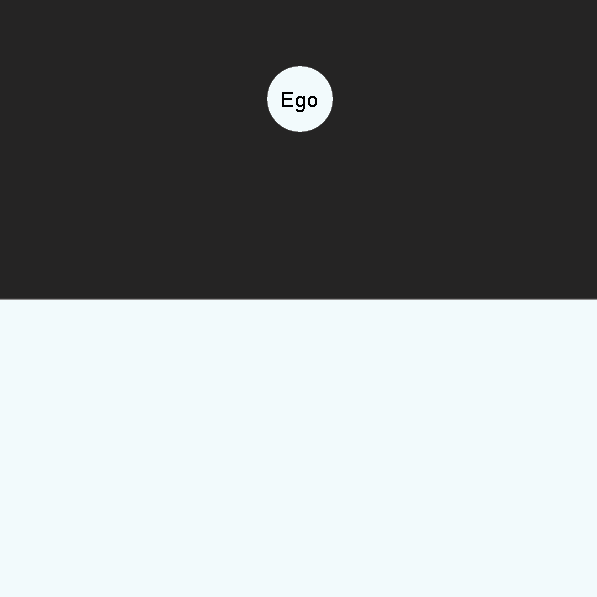
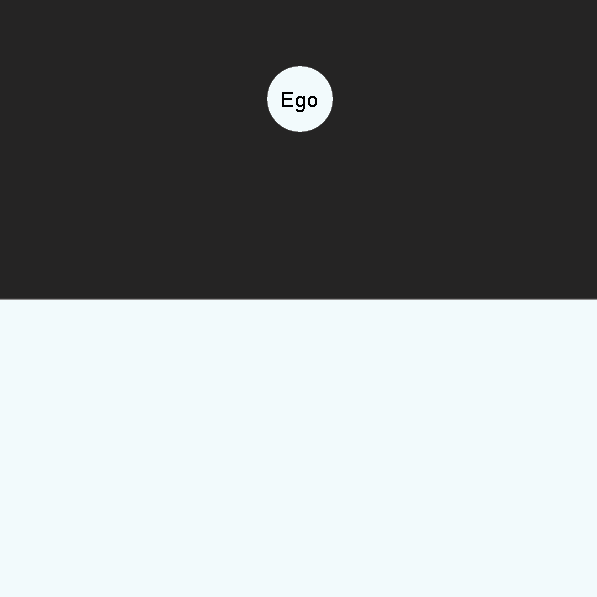
 старом «Синем журнале» мне попалось на глаза любопытное объявление: „Обязую каждое читающее ухо высылать мне денег, сколько которое может, по адресу: Широкая 39, кв. 12, К.К. Фофанову-Олимпову, для просеивания мебельной одежды планеты сквозь решето суточного движения мозга на земном шаре”. Имя автора объявления было мне хорошо знакомо. Я знал, что это сын известного поэта К.М. Фофанова, сам тоже поэт, первый эго-футурист в России.
старом «Синем журнале» мне попалось на глаза любопытное объявление: „Обязую каждое читающее ухо высылать мне денег, сколько которое может, по адресу: Широкая 39, кв. 12, К.К. Фофанову-Олимпову, для просеивания мебельной одежды планеты сквозь решето суточного движения мозга на земном шаре”. Имя автора объявления было мне хорошо знакомо. Я знал, что это сын известного поэта К.М. Фофанова, сам тоже поэт, первый эго-футурист в России.Мы поднялись в квартиру. Она состояла из двух необитаемых комнат и обитаемой кухни. Одна комната была открыта и завалена всяким хламом: дверными ручками, гвоздями, мешками, рогожами и предназначалась любезным хозяином для воров. Вторая комната всегда запиралась и служила мемориальным музеем. В ней были аккуратно развешаны портреты отца-поэта, все под стеклом и в рамах, стоял шкаф, наполненный до отказа отцовскими рукописями, отцовский письменный стол с гипсовой маской поэта, стояла потрёпанная мягкая мебель. А жил Олимпов в маленькой кухне, в которой плита хоть изредка, но топилась. Там стояли его кровать, стол и два стула.
Мы прошли туда. Олимпов показывал мне свои и отцовские книги и подарил целую кипу своих футуристических листовок. На одной из них написал: „Небо — синий хлеб, а ветер, тонкий нож, намазывает белую сметану — облака. В знак первой встречи Владимиру Викторовичу Смиренскому. К. Олимпов. Осень 1920 года”.
Потом он читал.
Читал он замечательно, красиво и вдохновенно, несколько нараспев. Особенно хорошо у него звучали отцовские стихи. Он страстно любил отца, считая его великим поэтом, и был по-детски обрадован, узнав, что я работаю над его биографией. Сейчас же, сам себя перебивая, временами заикаясь и путаясь, он начал сообщать мне всякие биографические факты, поминутно сопровождая их чтением стихов.
Читая, он разжёг плиту, вскипятил чайник весь чёрный от сажи и копоти. Ушёл я от Олимпова поздно ночью.
С того дня мы подружились. Человек, несомненно, странный, очень одарённый, но изломанный, Олимпов, когда его узнавали поближе, производил на всех прекрасное впечатление. Он был поистине не от мира сего и, как все люди этой породы, был исключительно честен и чист. У него было много непонятных людям привычек, много чудачеств. Он однажды повесил у себя на дверях такой плакат:
Стихи свои он подписывал всегда так: „великий мировой поэт Константин Олимпов”.
Иногда добавлял: „родитель мироздания”.
В сущности, футуристы почти все считали себя великими поэтами, а Велемир Хлебников называл себя председателем Земного шара. Так что такого рода подписи привычных людей даже не удивляли. Но Олимпов, кроме футуристических стихов, писал и такие стихи, которые были известны очень немногим, самому тесному, избранному кругу друзей.
В этих стихах Олимпов был совершенно неузнаваем. Публика знала его футуристические книги: «Аэропланные поэзы», поэмы «Теоман», «Третье Рождество». Эти стихи ошарашивали читателя своим нарочитым сумбуром, непонятными словосочетаниями, игрой звуков: „Водорная водина водезит водопенью”.
Или:
Это он подражал стуку копыт рысака, бегущего по асфальту.
Иногда впадал в экзотику:
Но чаще всего он в своих стихах утверждал себя властителем мира и кричал истошным голосом:
Прокричав такие стихи, Олимпов обычно застенчиво улыбался и спрашивал:
— А здорово, так это, у меня вышло?
И он настолько наивно верил в своё непререкаемое величие и так, наряду с этим, скромно говорил о нём, что ему всё прощалось. Он — не раздражал.
Ленинградская публика хорошо помнила Олимпова по кабаре «Бродячая собака», по поэзо-концертам Игоря Северянина. Она привыкла к тому, что Олимпов — это неудачный беспутный сын двух великих отцов (Олимпов был крёстным сыном Ильи Репина), что он способен только на крик, на истерические или хулиганские выходки. Памятны были его слишком частые, скандальные выступления в камерах мирового судьи.
А тут вдруг открывалось второе лицо поэта, и лицо настоящего поэта. Вот, например, такие стихи (до сих пор не опубликованные):
Или такое:
Такие стихи, повторяю, никак не вязались с обликом футуриста Олимпова, известного своими необычными выступлениями, выходившего на эстраду с чучелом кошки или же с плёткой. Но эти стихи никогда не публиковались, лежали под спудом. Между прочим, пора сказать о причинах этого. Олимпов был самым любимым из детей Фофанова, к тому же единственным, сохранившим внешнее с ним сходство: у него были такие же голубые глаза, тоже слегка безумные, такие же соломенные волосы, кроме того, у него был такой же нервный и неразборчивый почерк.
Олимпов считал, что, поскольку у него на руках хранится весь огромный, изданный и неизданный фонд отцовских рукописей, он не может и не должен подписываться отцовским именем и писать лирические стихи. Он придумал себе поэтому псевдоним “Олимпов” и, переломив себя, „становясь на горло собственной песне”, как говорил Маяковский, писал стихи, совершенно отвлечённые, потусторонние, на тему о мироздании, никак и ничем не похожие на стихи отца.
Но в нём жила душа подлинного поэта, и вот, изредка, настоящие стихи прорывались.
У меня сохранилось несколько лирических стихотворений Олимпова. Вообще же их была целая книга, оставшаяся неизданной, под названием «Ты».
В продолжении десяти лет Олимпов постоянно бывал у меня, и я ходил к нему очень часто. Нас связывала настоящая, редкая дружба. „Огромным другом” называл меня Олимпов в письмах
.По поводу книжки моих стихов «Волшебный остров» Олимпов посвятил мне такие стихи:
У него была любопытная особенность — каждое слово в своих стихах, но не только в своих, он писал с большой буквы. А Петербург или Петроград он неизменно называл «Окном Европы». Он почитал Пушкина. Задолго до стихов Маяковского «Александр Сергеич, разрешите представиться!», — Олимпов написал:
Между прочим, он рассказывал мне, что название для поэмы Маяковского «Облако в штанах» было придумано им, Олимповым. Я не могу поручиться за достоверность этого, но должен сказать, что это похоже на правду. Олимпов был большим мастером на придумывание неожиданных названий. Одна из его книг называлась так: «Этажерка под подушкой».
В 1921 году Олимпов, оставшийся как футурист совсем один, вновь возглавил «Академию эго-поэзии». К нему примкнул я, брат мой Борис Смиренский и Николай Позняков. Мы были последними эго-футуристами в России. В 1922 году эго-футуризм вторично и уже окончательно умер.
Очень запомнилось мне одно из выступлений Олимпова. Я был с ним в Доме Искусств на очередном вечере поэтов. Олимпов сидел спокойно и слушал, меланхолически свёртывая обычную свою цигарку. И вдруг на эстраде появился поэт Георгий Иванов, давний приятель Олимпова, подписавший вместе с ним в свое время «Манифест футуристов».
Георгий Иванов давным-давно отошел от футуризма. Великолепно одетый, тщательно выбритый, он вышел и начал, слегка картавя, читать:
Олимпов оглянулся. Дом Искусств в те годы посещала изысканная публика, последние отпрыски петербургских аристократов. Они слушали Георгия Иванова с восторгом.
Это взорвало Олимпова. Как только Иванов кончил читать, Олимпов дрожащими руками вычиркнул спичку, закурил и неожиданно для всех очутился на эстраде. Это было интересное зрелище. На фоне фешенебельного зала с блистающим паркетом, люстрами и бра, на месте только что выступавшего вылощенного эстета и франта, — появилась загадочная фигура в солдатской шинели и папахе, с цигаркой в зубах.
— Бросьте курить! — выкрикнул кто-то из зала.
— А вот докурю и брошу, — спокойно ответил Олимпов. Он очень не любил оставлять свои цигарки недокуренными. Он снял папаху. Копна его соломенных волос упала на плечи. — Я прочитаю вам, — сказал он, — мою поэму «Третье Рождество».
Аристократический зал был явно шокирован.
Раздался шум, топот, отдельные выкрики: „Не надо!”, „Довольно!”, „Долой”.
Олимпов не обращал на выкрики никакого внимания. У него был сильный голос с металлическим тембром.
Он продолжал читать:
А выкрики всё продолжались. Тогда из первых рядов поднялась высокая фигура Корнея Чуковского. Он сказал: „Дайте ему дочитать, всё равно его не перекричишь”.
И зал успокоился, затих. Олимпов дочитал свою поэму.
Из Дома Искусств мы возвращались вместе. Я часто ночевал у Олимпова. Мы спали всегда на его железной кровати — поперёк, подставляя под ноги стулья.
Олимпов своим выступлением был доволен. Он сказал мне: „Они думают, что я умер, а я жив. Я, вообще, так это, бессмертен”.
И в совсем другой обстановке, в нищете нетопленой кухни как-то даже не верилось, что это он, всё тот же Олимпов, который только что в Доме Искусств кричал:
Да будет всем близка свобода!
Долой, земные короли!
Я быть могу вождём народа,
Предсовнаркомом всей земли!
На моих глазах он переменил ряд работ и профессий: служил в почтамте, был в Красной Армии добровольцем, ходил по деревням коробейником, был чернорабочим на городской свалке, долгое время проработал на городской бойне.
На моих глазах Олимпов, страстный игрок, проиграл в карты всю свою обстановку, на моих глазах он дважды женился.
На первой его свадьбе я и писатель Леонид Борисов были шаферами.
Но какие бы ни были в его жизни резкие перемены, удачи и неудачи, сам он был неизменен. Удивительно, что он совсем не старел, и в сорок лет ему по-прежнему по внешнему виду можно было дать лет двадцать пять, не больше. Не менялся и характер его, добрый и мягкий, потому что не было в его большом сердце места ожесточению. У него были правильные и тонкие черты лица, и несмотря на плохие зубы, он был красив.
У себя дома Олимпов был крайне гостеприимен. Он любил угощать и угощал несколько необычно. Подавая, например, на стол гречневую кашу, он убеждал:
— Ты ешь, гречневая каша укрепляет мозг.
Наливая чай, советовал:
— Побольше клади сахару, сахар придает эластичность нервам.
Предлагая овсяный кисель, говорил, что этот кисель придаёт ногам бодрость.
В каждом блюде он находил какое-то особое, подчас ему одному известное, свойство.
В гостях же он, наоборот, был на редкость стеснителен, тих и скромен. И мне, опять-таки, всегда казалось странным это второе лицо Олимпова, отчаянного скандалиста и крикуна. В гости он приходил в сюртуке, причём, если на дворе была зима, то с сюртуком он ухитрялся сочетать валенки.
В августе 1913 года и в конце 1916 года академик И.Е. Репин дважды написал портреты Олимпова: первый раз пером, тушью, второй раз — маслом, под названием «Портрет футуриста».
Снимок с первого портрета был воспроизведён в альманахе футуристов «Развороченные черепа», снимок со второго — в популярном журнале «Нива».
Олимпов очень гордился этими портретами и в одном из своих стихотворений сказал:
Кстати сказать, местопребывание последнего портрета и в наши дни не установлено. Есть слухи о том, что он находится будто бы в Норвегии, где экспонируется как портрет... Маяковского! Но с Маяковским у Олимпова не было ни малейшего сходства.
Репин любил своего крёстного сына и в письмах к нему называл его „божественный, сверкающий Костя”. Он писал ему часто, даже из эмиграции.
Порывистый, увлекающийся Олимпов ходил по городу несколько суетливой, как бы крылатой походкой, бормоча на ходу стихи, не замечая прохожих. Он всегда был внутри себя, и работа его мозга, кажется, не прекращалась ни на минуту.
Даже во сне он продолжал бормотать и выкрикивать отдельные строки. Нервная система его была совершенно разрушена. По его собственным словам, он „жонглировал нервами”.
По образованию Олимпов был археолог и имел большие познания в этой области. Но никогда не применял их.
Обладая замечательной памятью, он читал сотни отцовских и своих стихов наизусть, однажды он прочитал целую пьесу отца в стихах, в четырёх актах. Он мог бы написать блестящую по охвату биографию Фофанова, но так и не собрался заняться ею, хотя кое-какие отрывочные записи у него были.
Интересно он сочинял стихи. Если это происходило дома, то он усаживался у себя на кухне и начинал выкрикивать отдельные слова настолько громко, что эти выкрики были слышны даже на лестнице.
Как-то я спросил его:
— Зачем ты, Костя, кричишь?
— А это я, так это, стихи пишу. Я кричу какое-нибудь одно слово, оно летит, стукается об стены и возвращается ко мне обратно или полностью, или как эхо. Так я нахожу рифмы. Вот, например, прокричишь слово ‘смехом’ — и к тебе прилетят рифмы ‘мехом’, ‘мхом’. Так отыскал я редкую рифму к слову ‘чудовищ’ — ‘овощ’. Кричал — долго. А когда я наберу полную голову рифм, я начинаю сочинять отдельные строки и тоже кричу их, потому что стихи надо выверять обязательно на голос. В рукописи никакие недостатки не выпячиваются так, как при громком чтении.
Всё это он рассказывал с большой охотой, захлебываясь от вечно обуревавшего его радостного оживления. О чужих стихах он отзывался всегда очень благожелательно, причём чаще всего говорил одно слово: „колоритно”.
В двадцатые годы жить было в Ленинграде голодно. Олимпов собирал в нежилых домах всякий хлам — дверные ручки, гвозди, шпингалеты, скобы — и выходил с этим богатством на базар. Торговля шла бойко. Олимпов, довольный, покупал горячие пирожки и тут же на базаре, прожевывая, выкрикивал стихи:
Бывало, скажешь ему: „Что же ты, Костя, не пользуешься своим положением? Ведь ты — родитель мироздания, неужели тебе нельзя и питаться и жить иначе?”
— Христос, — отвечал он вполне серьёзно и проникновенно, — тоже имел неограниченные возможности. Помнишь, например, как он насытил пятью хлебами несметную толпу? А для себя он всегда сам изыскивал пропитание, ездил со своими апостолами на рыбалку, ловил рыбу. Надо быть выше собственных интересов и нужд. Только тогда и можно заслужить от людей уважение и веру в себя, как во что-то высшее, недосягаемое.
— А не кажется тебе, — приставал я, — что эти мысли граничат с манией величия?
— Ну, что ж, — соглашался Олимпов очень спокойно, — и пусть. Мне безразлично, что обо мне думают. Я сам свой высший суд. И потом, ты ведь помнишь, что до меня еще Сологуб сказал: „Я создал небеса и землю!” А кроме того, у меня есть стихи: «Я хочу быть душевно-больным»...
В голодные годы Олимпов ходил по хуторам коробейником. Наберёт всяких мелочей — гребёнок, ленточек, напёрстков, спичек, уходит в деревни, километров за тридцать, за сорок от города. Иногда его подвозили попутчики, но чаще всего он совершал это путешествие пешком. Особенно любил он район Сиверской, под Петроградом.
Шёл один, лесом, и на ходу сочинял стихи.
У него бывали встречи в лесу с волками. Он отбивался от них своеобразным способом: вынимал рожок и трубил.
Обратный путь с хуторов всегда был труден. Олимпов выменивал там муку, творог, яйца, молоко, и подчас мешки и бидоны, которые ему приходилось тащить, достигали двух-трёх пудов.
Я всегда удивлялся его выносливости и физической силе.
— А ты знаешь, — объяснял он, — как я делаю? Очень просто. Я воображаю, что я лошадь, и что я должен идти и тащить груз, как бы я ни устал. И тащу.
Об этой силе воображения свидетельствует столь же ярко одна из суровых ленинградских зим.
Дров у Олимпова по обыкновению не было. Нечем было топить даже плиту. Тогда он каждый вечер стал уходить в один из игорных клубов на Петроградской стороне и просиживал там до утра в тепле. Там же он иногда и работал.
А утром он возвращался в свою нетопленую квартиру, садился в пальто и в папахе на кровать и воображал, что он едет в холодном вагоне в Москву. Так он спал.
— Конечно, — рассказывал он, — в холодной квартире не уснёшь, а если вообразишь, что едешь в Москву и что ехать надо, так всё равно спишь, будто в холодном вагоне. И потом, знаешь, — радостно сообщал он, — это же очень полезно. Репин всегда спал зимой на веранде.
Иногда, впрочем, Олимпову в этом отношении везло: жители окраин часто разламывали на дрова заборы. Олимпов любил принимать участие в таких работах и нередко даже возглавлял их, командуя стихами:
Прокричав эти строки, он бодро взваливал себе на плечи дрова и шёл домой — топить свою кухню.
Так совершенно неожиданными, кружными путями обходил Олимпов свою нищету. Человек, несомненно, крупных возможностей, но неудачник, ко всему этому — наследственный алкоголик и потому человек безвольный, Олимпов так и не осуществил ни одного из своих неизменно огромных замыслов. Он обладал большими способностями к математике и был превосходным шахматистом. Это свидетельствует о том, что он способен был логически мыслить. Но был какой-то предел, какая-то черта, до которой он доходил — и круто поворачивал назад, в ту бездну, которая его погубила как поэта, и которую он саму называл Мирозданием. Это был своеобразный уход от мира, тот уход, во имя которого отец его создал свой, собственный мир иллюзий, во имя которого Грин создал свою “Гринландию”.
В 1928 или 1929 г. я опубликовал в одной из ленинградских газет статью об Олимпове под названием «Поэт на свалке». Под тем же названием он сам написал большую поэму, в которой рассказывал, как он, великий мировой поэт, живёт в нищете, и как нищета эта прогнала его на свалку.
Олимпов всегда нуждался. Нельзя без горечи перечитывать его ранние стихи, где он признавался:
Как почти все нервные люди, Олимпов очень много курил. Трудно припомнить его без цигарки в зубах. Он сооружал эти цигарки из газет, набивая махоркой, и — характерная особенность — ухитрялся докуривать их до самого конца. Поэтому он часто обжигал себе губы, а пальцы его были тёмно-коричневыми от дыма.
Но сколько я ни дарил ему мундштуков, они неизменно и очень быстро терялись.
Как поэт Олимпов очень напоминал чудесное своё стихотворение «Не в тот вагон попавшее письмо». И хотя он говорил в этом стихотворении, что
Однако, мне думается, что очень скоро Олимпова всё-таки вспомнят, как вспомнили о Велемире Хлебникове, и его пристальная работа над словом будет оценена, а она небезынтересна. „Отвечаю, — говорил он, — за каждое слово и за каждую строчку стихов”.
Рукописи его сохранились. Они находятся в Центральном Государственном архиве и в Институте Русской литературы. Около ста его стихотворений сохранилось и у меня.
Нельзя, разумеется, вычеркнуть Олимпова из числа русских поэтов. Олимпова, которому отец Фофанов завещал:
В истррии русской поэзии, безусловно, сохранится имя Константина Олимпова как одного из зачинателей футуризма, как автора книги стихов «Ты», как автора великолепной поэмы «Песнь о площади жертв революции». Вот её начало:
Сохранится история его интереснейших взаимоотношений с Игорем Северяниным, сначала дружеских, а позднее — враждебных. Уже в 1914 году Северянин заявлял:
А много спустя, уже в эмиграции, в своем романе «Падучая стремнина» Игорь Северянин вспомнил об Олимпове так:
Я показывал Олимпову эти стихи. Он усмехнулся и сказал: „Ничего, так это, пусть пишет...”.
Оригинально издавал Олимпов свои листовки. Помимо необычных названий: «Глагол родителя мироздания», «Анафема родителя мироздания», он делал интересные примечания к тексту: „цена тысяча рублей за прочтение”, или „буквы на языке дышат баритоном”, или: „разгоните Святейший Синод!” — но самое забавное скрывалось в посвящениях, например: „негодяям и мерзавцам”, или „прохвостам и прощалыгам”, или „идиотам и кретинам”.
Отпечатав очередную листовку, Олимпов сразу же рассылал весь тираж по столичным и провинциальным редакциям. Разумеется, стихи его подвергались ожесточенной критике, и даже не столько критике, сколько брани. Бюро газетных вырезок присылало Олимпову статьи и заметки о нём, и он бережно собирал их, вклеивая в толстые книги. Если он заявлял в стихах, что он „бессмертной жизни голова”, — то критики говорили: „Эх ты, голова с мозгами!”. А чаще всего о нём писали так: „у двух великих отцов — такой неудачный сын!”
Олимпов нисколько на такие отзывы не обижался.
— Конечно, — говорил он, улыбаясь своей светлой и мягкой улыбкой, — им никогда не сочинить таких стихов, они лопаются от зависти, — потому так ругаются. Ну и пусть! Брань на вороту не виснет.
При этом он всегда ощупывал свой воротник.
По своим убеждениям Олимпов был, по существу, анархистом, но ни к каким партиям он никогда не примыкал, называя себя надпартийным.
Поэтому у него были довольно частые столкновения с органами власти и до революции и после.
Любопытен, например, такой эпизод. В 1922 году Олимпов написал стихи под названием «Анафема родителя мироздания». Это были мрачные стихи, в которых он слал изумлённому миру проклятье. Заканчивались стихи так:
Эти стихи были напечатаны в виде листовки, и Олимпов разослал их по всем редакциям. Кроме того, он послал их некоторым из тогдашних членов правительства, в частности Луначарскому и Зиновьеву, с просьбой прислать ему отзыв об этих стихах. Причём в конце этой просьбы заметил: „Ваше молчание сочту за слабость мысли перед моим величием”. Подписался и указал свой адрес.
Никто, кроме Г.Е. Зиновьева, не обратил, конечно, внимания на эту листовку и на оригинальную просьбу об отзыве. Зиновьева же, по-видимому, что-то задело, потому что он прямо на листовке наложил такую резолюцию: „Выяснить, кто такой Олимпов, и не сумасшедший ли он?”
Вскоре после этого к дому, где жил Олимпов, подъехала карета, и Олимпова увезли в диагностический институт, где он пробыл на испытании с неделю. Заключение врачебной экспертизы о нём (так же как и резолюцию Зиновьева) я читал лично. Несмотря на тяжкую наследственность Олимпова (сходил с ума отец, и неоднократно психически заболевала мать), заключение врачей сводилось к следующему: „Олимпов страдает переразвитием отдельных умственных способностей, в частности — памяти, но, вообще, нормален”.
Поскольку Олимпов оказался нормальным, он был предан суду за нелегальное издание листовки. Тут мне пришлось выступить в защиту Олимпова. На стихах, по вине типографии, действительно не было необходимой пометки революционной цензуры, но печатать листовку было разрешено. Я сходил в цензурный комитет и без труда достал там официальную справку о том, что листовка «Анафема» такого-то числа и под таким-то номером к печати разрешена. На суде я предъявил эту справку, и Олимпов был оправдан. Тогда и ему, и мне было разрешено ознакомиться с делом, и тут мне и довелось увидеть и резолюцию Зиновьева, и заключение медицинской экспертизы.
С Велемиром Хлебниковым у Олимпова было много общего: оба они никогда не имели документов, оба совершенно официально считались помешанными, оба по этой причине неоднократно освобождались от воинской повинности, и оба, безусловно, страдали манией величия. Но, судя по воспоминаниям Дмитрия Петровского, много лет дружившего с Хлебниковым, Олимпов был значительно человечнее, добрее, мягче и проще. Чувство дружбы, например, в Олимпове было развито до чрезвычайности, и он не только не был эгоистичен, а, напротив, был очень отзывчив и чуток, и помогал, когда мог, многим.
Вспомним, что именно он, при наличии других братьев, вырастил двух своих младших сестрёнок Анастасию и Варвару в самые трудные и голодные годы.
Умер Олимпов вдалеке от родного Ленинграда, в Барнауле, 17 января 1940 года, в семье своего покойного брата. На память об Олимпове я написал стихи, в которых отражен один из зимних дней его неуютной жизни:
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 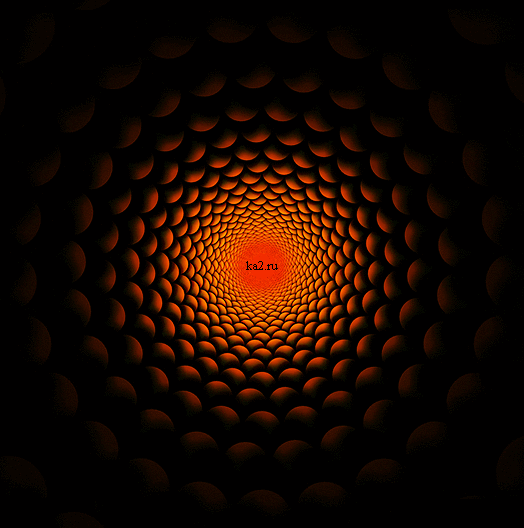 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||