

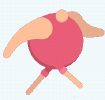
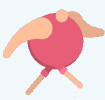
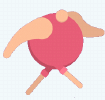
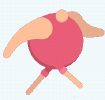
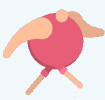
Моё двухнедельное пребывание в Киеве совпало с концом процесса, и я помню нарастание страстей, разделивших население на два враждебных, но количественно далеко не равных лагеря. Небольшой кучке громил, ожидавших только сигнала из участка, чтобы, засучив рукава, приняться за дело, противостоял почти весь город, и это соотношение сил довольно точно выражало собою общественное мнение всей страны.
Не такими кустарными способами надлежало, по мнению Шульгиных, бороться с явлением, которое они, сознательно искажая понятие, называли еврейским засильем. Очередное кровопускание в виде погрома представлялось им жалким паллиативом. Наиболее проницательные из них, отбросив в сторону, как ненужные побрякушки, отслужившие свой срок жидоморские выкрики, уже смыкались плечом к плечу с октябристами и кадетами.
Порою они оказывались даже энергичнее своих будущих союзников слева; в частности, в бейлисовском процессе Шульгин проявлял больше инициативы и решительности, чем, например, Маклаков, уделявший слишком много времени своим успехам у дам, над чем открыто подтрунивали в кулуарах его товарищи по защите — Грузенберг и Карабчевский.
С футуризмом киевское дело, разумеется, не имело ничего общего. Однако и сюда, в этот совершенно чуждый план, точно зайчики, пускаемые из-за угла притаившимся шалуном, время от времени проскальзывали упоминания о течении, имя которого было у всех на устах. Сопоставляя показания Красовского (сыщика, разоблачившего Веру Чебыряк) с данными обвинительного акта, Шульгин замечал, что они относятся друг к другу как произведение искусного художника к мазне футуриста. А в Петербурге полиция перед вечером в Тенишевке изучала хлебниковское «Бобэоби», заподозрив в нём анаграмму Бейлиса, и, в конце концов, совсем запретила наше выступление на лекции Чуковского, опасаясь, что футуристы хотят устроить юдофильскую демонстрацию.
Футуризм сделался бесспорным “гвоздём” сезона. Бурлюк, измерявший славу количеством газетных вырезок, мог быть вполне доволен: бюро, в котором он был абонирован, присылало ему ежедневно десятки рецензий, статеек, фельетонов, заметок, пестревших нашими фамилиями. В подавляющем большинстве это были площадная брань, обывательское брюзжание, дешевое зубоскальство малограмотных строкогонов, нашедших в модной теме неисчерпаемый источник доходов. Мы стали хлебом насущным для окололитературного сброда, паразитировавшего на нашем движении, промышлявшего ходким товаром наших имён.
Вместо полемики с людьми, которых мы не удостаивали чести объявить нашими противниками, Бурлюку пришла в голову остроумная мысль собрать всё самое гнусное, что писали о нас несчётные будетляноеды, и воспроизвести это без всяких комментариев: «Позорный столб российской критики» должен был распасться сам в результате взаимного отталкивания составляющих его частей.
Эту неблагодарную работу я проделал в Киеве. Но вместо того чтобы выпустить «Столб» отдельной брошюрой, Бурлюк напечатал его в «Первом журнале русских футуристов», вышедшем только через полгода, когда документ потерял уже значительную долю своей остроты. Время шло так быстро, что даже мы не всегда поспевали за ним.
Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и ещё бог весть как, но всё это было не очень серьёзно, не более серьёзно, чем его собственное отношение к футуризму.
Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но всё же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное — по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь — первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи.
В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год.
О чём нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создаёт нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, чтó в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и чтó следствием, представлялось совершенно невозможным.
Блестящий журналист, Чуковский и в лекции перенёс свои фельетонные навыки, постаравшись выхватить из футуризма то, на чём легче всего можно было заострить внимание публики, вызвать “шампанский” эффект, сорвать аплодисменты. Успех был ему дороже истины, и мы, живые объекты его критических изысканий, сидевшие тут же на эстраде, где он размахивал своими конечностями осьминога, корчились от смеха, когда, мимоходом воздав должное гениальности Хлебникова, Чуковский делал неожиданный выверт и объявлял центральной фигурой русского футуризма... Алексея Кручёных.
В будетлянском муравейнике, хозяйственно организованном Давидом Бурлюком, всякая вещь имела определённое назначение. Красовавшаяся перед вратами в становище речетворцев навозная куча, на вершине которой, вдыхая запах псины, нежился автор „дыр-бул-щела”, высилась неспроста. Это было первое испытание для всех, кого привлекали шум и гам, доносившиеся из нашего лагеря. Кто только не спотыкался об эту кучу, заграждавшую подступ к хлебниковским грезогом и лебедивам! Чуковский растянулся во весь свой рост, верхний нюх Бурлюка ещё раз оправдал себя на деле, а бедный Кручёных, кажется до сих пор не понявший роли, на которую его обрёк хитроумный Давид, возгордился пуще прежнего.
Так создавалось внешняя история русского футуризма.
Я не собираюсь писать её.
Неблагодарное это занятие — восстанавливать по памяти труды и дни зачинателей будетлянства.
Не настолько уж разнились между собою их последовательные выступления, чтобы не спутать одной лекции с другой, не объяснять скандала, имевшего место в Политехническом музее, фразой, произнесенной в Тенишевке, или наоборот. Один и тот же доклад Бурлюк читал несколько раз и в Петербурге и в Москве, но в одном городе он назывался «Пушкин и Хлебников» («Ответ господам Чуковским»), а в другом был озаглавлен: «Утверждение российского футуризма»; одни и те же тезисы для обеих столиц составлялись различным образом — для Петербурга более сдержанно, для Москвы более кричаще. “Голых” докладов Москва не признавала. Поэтому на всех афишах значилось: „Лекцию иллюстрируют чтением поэты (следовал перечень наших фамилий)...”, что отнюдь не обязывало нас выполнять эти ярмарочные обещания, да это порою и при желании было бы невозможно, так как требовало нашего одновременного нахождения в двух городах.
С лёгкой руки Кульбина, в совершенстве постигшего искусство зазывания, в программу наворачивали всё, что ни взбредало на ум. Отвечать за соответствие тезисов фактическому содержанию лекции не приходилось, ибо после первых фраз о том, что „затасканный комментаторами и почитателями Пушкин является мозолью русской жизни” или что „Серов и Репин — арбузные корки, плавающие в помойной лохани” — из зала доносились негодующие реплики, свистки, бранные возгласы, превращавшие дальнейшую часть доклада в сплошную импровизацию.
В сущности, только разницей в высоте этой “внутренней” температуры, подскакивавшей у публики с каждым нашим выступлением, и следовало измерять триумфальное шествие будетлян от скромных вечеров в пользу всяких студенческих землячеств (кстати сказать, поднявших после нескольких скандалов вопрос о допустимости использования нас в качестве “благотворителей”) — до спектаклей в Луна-порке, заставивших говорить о себе “весь город”.
Кроме этой, неуклонно двигавшейся вверх, кривой, два события, происшедшие в конце ноября, позволили нам определить глубину растления интеллигентских душ футуристической заразой. Я имею в виду приезд Макса Линдера и Эмиля Верхарна.
На следующий день после большого вечера футуристов в Троицком театре, где на эстраде фигурировал даже Хлебников, встававший со стула и раскланивавшийся с публикой всякий раз, когда Бурлюк упоминал его имя, это самая публика ринулось к Зону — посмотреть “короля экрана”, Макса Линдера.
Он приехал прямо из Парижа с целой свитой секретарей, помощников, сателлитов и выступал в скетче собственного сочинения «Любовь и Танго».
Однообразная мимика, которую Линдеру никогда не удалось поднять до уровня маски, и конвульсивная жестикуляция, смешившая первых зрителей синематографа, будучи перенесены на подмостки, утрачивали последний смысл, а экранные трюки, от которых Линдер не нашёл нужным отказаться и на сцене, разоблачаясь, превращались в убогую клоунаду.
Публика тем не менее хлопала.
Не своему вчерашнему любимцу, обманувшему всех киноманов в их ожиданиях.
Хлопала сногсшибательного покроя фраку, цилиндру невиданного фасона, альпийской белизне гетр.
Рукоплескала последнему крику моды, Пулю в лице его коммивояжера, площадному Бреммелю, за плечами которого маячил вожделенный призрак Парижа.
Можно ли было назвать это успехом Линдера?
И, когда у подъезда театра ноябрьским ветром подхватило маленького человечка в скунсовой шубе, чтобы, донеся до Михайловской площади, опустить, как листок лакмусовой бумаги, в полуночный перегар подвала, румянцем зарделись синеватые щеки человечка: кисло реагировала «Бродячая Собака» на пулевскую модель.
Умопомрачительный фрак парижанина перечёркивала доморощенная полосатая кофта, и в поединке двух цилиндров — “цилиндра, как такового” и цилиндра будетлянского — поражение первого объяснялось отнюдь не патриотизмом русской публики, как известно, всегда готовой оказать предпочтение загранице: перекормленные футуристическими “аттракционами”, петербуржцы уже требовали более острой пищи, чем та, которую мог предложить ей неотразимый Макс. Если бесспорный провал Линдера как будто свидетельствовал о некотором интеллектуальном росте слоев, выражавших собою пресловутое общественное мнение, то сомнительный успех Верхарна, приехавшего почти одновременно, указывал как раз на обратное.
Разумеется, было бы нелепо сравнивать известность этих двух людей. „Повсеградно оэкраненного” Макса знали десятки миллионов зрителей, между тем как число читателей Верхарна измерялось несколькими тысячами. И если видеть в славе превосходную степень известности, то славен был, конечно, Линдер, а не седоусый, чуть сгорбленный старик, „Данте современности”, которого встретила на Варшавском вокзале кучка в десять-двенадцать человек.
Ни Батюшков, ни Венгеров, ни Барятинский, образовавшие наспех сколоченную делегацию для приёма гостя, за всю свою жизнь не прочли в оригинале ни одной верхарновской строки: в лучшем случае, перед тем как ехать но вокзал, кто-нибудь из них, уже в пальто и калошах, перелистал брюсовские переводы.
Пласты маститости не совпадали: приехав в Россию и встреченный людьми, которые были даже моложе его, Верхарн врезался в гущу предшествующего литературного поколения. Цеппелин ошибся ангаром, ему было тесно среди моложавых стариков, ничего не смысливших в искусстве. Правда, аудитория, перед которой он прочёл свою лекцию, не сплошь состояла из Батюшковых и Венгеровых, но и в ней ему пришлось представительствовать самого себя, выступая как бы послом некоей внепространственной державы. О конкретном литературном материале среди этой публики, лишь понаслышке знакомой с его творчеством, говорить было невозможно. Верхарн это понял и выбрал отвлечённую тему «Об энтузиазме», как нельзя более соответствовавшую смутным предреволюционным тяготениям русской интеллигенции.
Литература осталось в стороне. Отказавшись от поэтической специфики, умудрённый жизненным опытом старик беседовал с аудиторией о вещах, далёких от искусства. Благородные мысли, высказываемые им, не могли не встретить сочувственного отклика у слушателей. Ему рукоплескали от чистого сердца, но аплодисменты эти относились не к автору «Villes tentaculaires» и «Multiple splendeur», не к представителю определённой школы, не к носителю известного круга литературных идей: Верхарн — поэт, Верхарн — символист, Верхарн — воплощение фламандского гения — оказался здесь ни при чём.
Конечно, заявить ей, этой публике, отбивавшей себе ладони, что она разочарована, значило бы вызвать её возмущённый протест. Однако дело обстояло именно так: грандиозный мир верхарновских видений был ей ничуть не ближе хлебниковской зауми. Но футуристы раскусили несложную психологию падкой на зрелища толпы и знали цену её лицемерным причитаниям: ни одно литературное блюдо уже не были способны проглотить петербуржцы и москвичи, если оно не подавалось под оглушительные удары гонга.
В конце ноября во всех петербургских газетах появились анонсы, что 2, 3, 4 и 5 декабря в Луна-парке состоятся „Первые в мире четыре постановки футуристов театра”: в чётные дни — трагедия «Владимир Маяковский», в нечётные — опера Матюшина «Победа над Солнцем».
Финансировал предприятие «Союз Молодёжи», во главе которого стоял Л. Жевержеев. Цены назначили чрезвычайно высокие, тем не менее уже через день на все спектакли места амфитеатра и балкона были проданы. Газеты закопошились, запестрели заметками, якобы имевшими целью оградить публику от очередного посягательства футуристов на её карманы, в действительности же только разжигавшими общее любопытство. Масла в огонь подлило напечатанное не то в «Дне», не то в «Речи» дня за два до первого представления письмо кающегося студента: «Исповедь актёра-футуриста».
Дело в том, что никакой труппы, ни драматической, ни оперной, у футуристов не было и, разумеется, быть не могло. Приходилось набирать исполнителей среди студенческой молодёжи, для которой этот неожиданный заработок был манной небесной. Платили хорошо, и от претендентов на любые роли не было отбоя. Но вот в одном из будущих участников спектакля внезапно заговорило совесть: он счёл несовместимым с достоинством честного интеллигента повторять со сцены „такой бессмысленный вздор, как стихи Маяковского”, и решил публично покаяться, обстоятельно поведав обо всех приготовлениях к спектаклю. Эффект, как и можно было предположить, получился обратный: публика, заинтригованная подробностями, расхватала последние билеты.
Обе постановки не имели между собою ничего общего. Трагедия Маяковского, худо ли, хорошо ли, “держалась” прежде всего в плане словесном, существовала как поэтическое произведение. Была ли в соответствующем плане “инвенцией” опера Матюшина, не знаю: область музыки всегда оставалась мне чужда. Но либретто «Победы над Солнцем», как и всё, что пробовал самостоятельно сочинять Кручёных, было на редкость беспомощно и претенциозно-крикливо.
Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму. К этому приводила не только литературная концепция трагедии, но и форма её воплощения на сцене: единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи — старик с кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек с двумя поцелуями — были вполне картонны: не потому, что укрывались за картонажными аксессуарами и казались существами двух измерений, а потому, что, по замыслу автора, являлись только облечёнными в зрительные образы интонациями его собственного голоса. Маяковский дробился, плодился и множился в демиургическом исступлении,
При таком подходе, естественно, ни о какой коллизии не могло быть и речи. Это был сплошной монолог, искусственно разбитый на отдельные части, еле отличавшиеся друг от друга интонационными оттенками. Прояви Маяковский большее понимание сущности драматического спектакля или больший режиссёрский талант, он как-нибудь постарался бы индивидуализировать своих картонажных партнёров, безликие порождения собственной фантазии. Но наивный эгоцентризм становился поперёк его поэтического замысла. На сцене двигался, танцевал, декламировал только сам Маяковский, не желавший поступиться ни одним выигрышным жестом, затушевать хотя бы одну ноту в своём роскошном голосе: он, как Кронос, поглощал свои малокровные детища.
Впрочем, именно в этом заключалась “футуристичность” спектакля, стиравшего — пускай бессознательно! — грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой, оставлявшего далеко позади робкое новаторство «Балаганчика» и «Незнакомки». Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чём.
Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актёры, журналисты, адвокаты, члены Государственной думы — все постарались попасть на премьеру. Помню сосредоточенное лицо Блока, неотрывно смотревшего на сцену и потом, в антракте, оживлённо беседовавшего с Кульбиным. Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа.
„Просвистели до дырок”, — отмечал впоследствии Маяковский в своей лаконической автобиографии. Это — преувеличение, подсказанное, быть может, не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние признаки успеха: по тому времени приём, встреченный у публики первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале.
Так называемое “художественное оформление” принадлежало Школьнику и было ниже самого спектакля. Всё, что в тексте неприятно поражало поверхностным импрессионизмом, рыхлостью ткани, отсутствием крепкого стержня, как будто нарочно было выпячено художником, подчёркнуто с какой-то необъяснимой старательностью. Один Маяковский, кажется, не замечал этого, хотя вмешивался во все детали постановки.
Двухсаженная кукла из папье-маше, с румянцем во всю щеку, облачённая в какие-то лохмотья и, несмотря на женское платье, смахивавшая на ёлочного деда-мороза, искренно нравилась ему, так же как и все эти сверкавшие фольгой, похожие на огромные рыбьи пузыри, слезинки, слёзы и слезищи.
Он, словно ребёнок, тешился несуразными игрушками, и, когда я попытался иронически отнестись к нелепой, на мой взгляд, бутафории, его лицо омрачилось. Лишь позднее я понял, что было нечто гофмановское в этой встрече лирического поэта с собственными образами, воплотившимися в осязаемые предметы.
Если центром драматического спектакля оказался сам Маяковский, не только актёр (хотя играл он великолепно, даже по признанию тех, кто, отрицая в нём поэтический талант, снисходительно советовали ему использовать природные данные, рост и голос и поступить на сцену), но и автор “трагедии”, то светящийся фокус «Победы над Солнцем» вспыхнул совсем в неожиданном месте, в стороне от её музыкального текста и, разумеется, в астрономическом удалении от либретто.
Как только после хлебниковского пролога («Чернотворские вестучки»), награждённого несмолкаемым хохотом зала, белый коленкоровый занавес разорвали пополам два человека в треуголках, внимание публики сразу было поглощено зрелищем, представшим ей со сцены.
Трудная это и неблагодарная вещь — передавать впечатление свежести и новизны, имеющих за собою двадцатилетнюю давность. Как размотать клубок времени в обратном направлении, прорваться назад сквозь толщу накопившегося опыта, сквозь уже геологические пласты отложившихся откровений, находок, изобретений? Нас поражает не столько феномен, вызывавший восхищение наших отцов, сколько самое их восхищение: в этом факте, пожалуй, больше, чем в чем-либо ином, заключено реальное измерение времени.
В 1913 году земной шар был населён уже не питекантропами, но радио ещё не существовало. Речь Вудро Вильсона, произнесённую в Белом доме, слушали по телефону на банкете, в 500 километрах от Вашингтона: это “передача” была последним словом техники почти накануне войны. В том же декабре в иллюстрированных журналах был помещён снимок: стоит во дворе казённого здания человек в генеральской шинели перед каким-то ящиком, водружённым на двуколке. Под снимком подпись: „Военный министр интересуется беспроволочным телеграфом”.
В 1913 году сцена Луна-порка освещалось не плошками и лампионами, но о той аппаратуре, которая пятнадцать лет спустя позволила Исааку Рабиновичу превратить постановку «Любви к трём апельсинам» в незабываемую игру света, не знали даже оборудованные последними усовершенствованиями лучшие театры Запада.
Поэтому то, что сделал К.С. Малевич в «Победе над Солнцем», не могло не поразить зрителей, переставших ощущать себя слушателями с той минуты, как перед ними разверзлась чёрная пучина „созерцога”.
Из первозданной ночи щупальцы прожекторов выхватывали по частям то один, то другой предмет и, насыщая его цветом, сообщали ему жизнь. С “феерическими эффектами”, практиковавшимися на тогдашних сценах, это было никак не сравнимо. Новизна и своеобразие приёма Малевича заключались прежде всего в использовании света как начала, творящего форму, узаконяющего бытие вещи в пространстве. Принципы, утвердившиеся в живописи ещё со времени импрессионизма, впервые переносились в сферу трёх измерений. Но импрессионизмом работа Малевича и не пахла. Если с чем и соседила она, то, пожалуй, со скульптурным динамизмом Боччони.
В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалось строгая система объёмов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежавшими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве.
Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира. Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич уже тогда пытался свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объёмными коррелятами, кубом и шаром, и, дорвавшись до них, с беспощадностью Савонаролы принялся истреблять всё, что ложилось мимо намеченных им осей.
Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь — высокая организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там — хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги...
Постановка Малевича наглядно показала, какое значение в работе над абстрактной формой имеет внутренняя закономерность художественного произведения, воспринимаемая прежде всего как его композиция. Расслаивая огульное представление о зауми, она отметала в одну сторону хлебниковские „бобэоби”, а в другую — хлыстовскую глоссолалию Варлаама Шишкова.
Живопись — в этот раз даже не станковая, а театральная! — опять вела за собой на поводу будетлянских речетворцев, расчищая за них всё ещё недостаточно ясные основные категории их незавершённой поэтики.
Спектакли на Офицерской подняли на небывалую высоту интерес широкой публики к футуризму. О футуризме заговорили все, в том числе и те, кому не было никакого дела ни до литературы, ни до театра. Только флексивные особенности фамилии Маяковского помешали ей превратиться в такое корневое гнездо, каким оказалось слово «Бурлюк», породившее ряд производных речений: бурлюкать, бурлюканье, бурлючьё и т.д.
Но, связав вдвойне судьбу своей “трагедии” с собственной фамилией, Маяковский бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно. Одевайся он тогда, как все порядочные люди, в витринах модных магазинов, быть может, появились бы воротники и галстуки «Маяковский». Но жёлтая кофта и голая шея были неподражаемы par exellence…
Маяковскому не хотелось уезжать в Москву: он как будто не мог всласть надышаться окружавшим его в Петербурге воздухом успеха. Мы встречались с ним ежедневно: у Бурлюков, у Кульбина, у Пуни, в «Бродячей Собаке», где он сразу стал желанным гостем: барометр Бориса Пронина прекрасно улавливал все “атмосферные” колебания.
Но едва ли не лучшим показателем высокого курса будетлянских акций было начавшееся в том же декабре сближение наше с эгофутуристами, вернее, с Игорем Северянином.
К тому времени Северянин уже порвал с группой «Петербургского Глашатая», возглавлявшейся И. Игнатьевым, но для всех эгофутуристов “северный бард” оставался признанным вождём и единственным козырем в их полемике с нами.
Эгофутуристы были нашими противниками справа, между тем как левый фланг в борьбе против нас пыталась занять группа «Ослиного Хвоста» и «Мишени», выступившая зимою тринадцатого года под знаменем „всёчества”. Собственно на фронте живописном Ларионов и Гончарова именовали себя лучистами, но на том участке, где у нас происходили с ними “теоретико-философские” схватки и где Илья Зданевич заживо хоронил благополучно здравствовавший футуризм, они называли себя „всёками”.
Сущность всёчества была исключительно проста: все эпохи, все течения в искусстве объявлялись равноценными, поскольку каждое из них способно служить источником вдохновения для победивших время и пространство всёков. Эклектизм, возведённый в канон, — такова была Америка, открытая Зданевичем, вся “теория” которого оказывалась лишь многословным парафразом истрёпанной брюсовской формулы:
Опасность, угрожавшая футуризму “слева”, страшила нас не больше, чем смехотворные наскоки «Глашатая» и «Мезонина Поэзии». Будетляне прочно занимали господствующие высоты, и это отлично учёл Северянин, когда через Кульбина предложил нам заключить союз.
Кульбин, умудрявшийся сохранять дружеские отношения с представителями самых противоположных направлений, с жаром взялся за дело. Так как наиболее несговорчивыми людьми в нашей группе были Маяковский и я, он решил взять быка за рога и “обработать” нас обоих. Пригласив к себе Маяковского и меня, он познакомил нас с Северянином, которого я до тех пор ни разу не видел.
Северянин находился тогда в апогее славы. К нему внимательно присматривался Блок, следивший за его судьбою поэта и сокрушавшийся о том, что у него нет “темы”. О нём на всех перекрёстках продолжал трубить Сологуб, подсказавший ему заглавие «Громокипящего кубка» и своим восторженным предисловием немало поспособствовавший его известности. Даже Брюсов и Гумилёв, хотя и с оговорками, признавали в нём незаурядное дарование. Маяковскому, как я уже упоминал, нравились его стихи, и он нередко полуиронически, полусерьёзно напевал их про себя. Я тоже любил «Громокипящий кубок» — не всё, конечно, но по-настоящему: вопреки рассудку.
Мы сидели вчетвером в обвешанном картинами кабинете Кульбина, где, кроме медицинских книг, ничто не напоминало о профессии хозяина. Беседа не вязалось. Говорил один Кульбин, поочерёдно останавливая на каждом из нас пристальный взор, в котором мне всегда мерещилась немая мольба. Он, казалось, постоянно молил о чём-то своими глубоко запавшими, укоризненно-печальными глазами. О чём? О любви, о нежности, о снисхождении — не только к нему, пугавшемуся собственных парадоксов сейчас же после того, как он с вымученно-наглым видом изрекал их, но ко всему на свете и, в первую очередь, к нам самим, к молодёжи, не привыкшей щадить друг друга и крайне подозрительно относившейся ко всяким попыткам сгладить существовавшие между нами противоречия.
Теперь он тоже обволакивал нас троих просящим взглядом, в котором наряду с бескорыстием присяжного миротворца угадывалось заинтересованность страстного экспериментатора. Я рассеянно слушал его и рассматривал сидевшего напротив меня Северянина.
Он, видимо, старался походить на Уайльда, с которым у него было нечто общее в наружности. Но до чего казалась мне жалкой русская интерпретация Дориана! Помятое лицо с нездоровой сероватой кожей, припухшие веки, мутные глаза. Он как будто только что проснулся после попойки и ещё не успел привести себя в порядок. Меня удивила неряшливость „изысканного греээра”: грязные, давно не мытые руки, залитые “крем де виолетом” лацканы уайльдовского сюртука...
На вопросы, с которыми к нему иногда обращался Кульбин, он многозначительно мычал или отвечал двумя-тремя словами, выговаривая русское “н” в нос, как это делают люди, желающие щегольнуть отсутствующим у них французским произношением. Ни одного иностранного языка Северянин не знал; уйдя не то из четвёртого, не то из шестого класса гимназии, он на этом и закончил своё образование. Однако надо отдать ему справедливость, он в совершенстве постиг искусство пауз, умолчаний, односложных реплик, возведя его в систему, прекрасно помогавшую ему поддерживать любой разговор. Впоследствии, познакомившись с ним поближе, я не мог надивиться ловкости, с которой он маневрировал среди самых каверзных тем.
Северянин стоял в стороне от всего, что нас волноволо, с чем у нас были большие, запутанные счёты, — в стороне от французской живописи, от символизма. Для него этих вопросов не существовало. Он ещё не подошёл к порогу раннего символизма, бродил в предрассветных его сумерках и, вопреки собственному заявлению:
Двадцать лет, отделявшие нас от первого сборника русских символистов, были для Северянина прожиты впустую: он отталкивался от Надсона, как мы отталкивались от Брюсова.
Девяностые годы наступали на нас из плюшевых с бронзовыми застёжками семейных альбомов, где затянутые в рюмочку дальневосточные красавицы ещё не успели расстаться с турнюрами, чтобы превратиться в столичных “кокотесс”; где мечтательные почтово-телеграфные чиновники, в блаженном неведении торпедо и лимузинов, вдохновенно опирались на слишком высокий руль слишком тонкошинного велосипеда; где будущие защитники Порт-Артура ещё щеголяли в юнкерском мундире, держа руку у пояса на штыке новейшего образца, только что выпущенного Тульским оружейным заводом.
Никакие неологизмы, никакие „крем де мандарины”, под прикрытием которых наползал на нас этот квантунский пласт культуры, не могли ввести ни меня, ни Маяковского в заблуждение. Но рецидив девяностых годов до того был немыслим, их яд до такой степени утратил свою вирулентность, что перспектива союза с Северянином не внушала нам никаких опасений.
Однако выгоды этого блока представлялись нам слишком незначительными. Мы медлили, так как торопиться было незачем. Тогда Кульбин предложил поехать в «Вену», зная по опыту, что в подобных местах самые трезвые взгляды быстро теряют всякую устойчивость. Действительно, к концу ужина от нашей мудрой осторожности не осталось и следа.
Кульбин торжествовал. Он размяк от умиления и договорился до того, что в лице нас троих, отныне, несмотря на все наши различия, тесно спаянных друг с другом, он видит... Пушкина. За Пушкина обиделся я один: и Северянин и Маяковский явно обиделись каждый за себя.
Но новорожденный союз выдержал это первое испытание.
Неделю спустя мы уже выступали совместно в пользу каких-то женских курсов.
Во второй половине дня Маяковский зашёл за мною и предложил отправиться к Северянину, чтобы затем втроём поехать на вечер.
Северянин жил на Средней Подьяческой, в одном из домов, пользовавшихся нелестною славой. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин. Одна из них, скрытая за облаками пара, довольно недружелюбно ответила на мой вопрос: „Дома ли Игорь Васильевич?” — и приказала мальчику лет семи-восьми проводить „этих господ к папе”.
Мы очутились в совершенно тёмной комнате с наглухо заколоченными окнами. Из угла выплыла фигура Северянина. Жестом шателена он пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван.
Когда мои глаза немного освоились с полумраком, я принялся разглядывать окружавшую нас обстановку. За исключением исполинской музыкальной табакерки, на которой мы сидели, она, кажется, вся состояла из каких-то папок, кипами сложенных на полу, да несчётного количества высохших букетов, развешанных по стенам, пристроенных где только можно. Темнота, сырость, должно быть от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе. Нужна было поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных „озерзамков” и „шалэ”.
Мы попали некстати. У Северянина, верного расписанию, которое он печатал ещё на обложках своих первых брошюрок, был час приёма поклонниц. Извиняясь, но не без оттенка самодовольства, он сообщил нам об этом.
Действительно, не прошло и десяти минут, как в комнату влетела девушка в шубке. Она точно прорвалось сквозь какую-то преграду, и ей не сразу удалось остановиться с разбега. За распахнувшейся дверью, в облаках густого пара, призванных, казалось, обеззараживать от микробов адюльтера всех северянинских посетительниц, там, в чистилище прачечной, слышалось сердитое ворчанье.
Девушка оглянулась и, увидав посторонних, смутилась. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил её рядом с нами. Через четверть часа — ещё одна поклонница. Опять — дверь, белые клубы пара, ругань вдогонку, цветы, замешательство...
Мы свирепо молчали, только хозяин иногда издавал неопределённый носовой звук, отмечавший унылое течение времени в склепе, где томились пять человек. Маяковский пристально рассматривал обеих посетительниц, и в его взоре я уловил то же любопытство, с каким он подошёл к папкам с газетными вырезками, грудою высившимся на полу.
Эта бумажная накипь славы, вкус которой он только начинал узнавать, волновала его своей близостью. Он перелистывал бесчисленные альбомы с наклеенными на картон рецензиями, заметками, статьями и как будто старался постигнуть сущность загадочного механизма „повсесердных утверждений”, обладатель которого лениво-томно развалился на диване в позе пресытившегося падишаха.
В том, как Маяковский прикасался к ворохам пыльной бумаги, в том, как он разглядывал обеих девушек, была деловитость наследника, торопящегося ещё при жизни наследодателя подсчитать свои грядущие доходы. Популярность Северянина, воплощённая в газетных вырезках, в успехе у женщин, будила в Маяковском не зависть, нет, скорее — нетерпение.
Эта нервная взвинченность не оставляла его и на концерте, превратившемся в турнир между ним и Северянином. Оба читали свои лучшие вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудитории, состоявшей сплошь из женщин. Инициатива вечера принадлежала, если не ошибаюсь, Северянину: эти курсы были одним из мест, где он пользовался неизменным успехом. Русский футуризм всё ещё находился в стадии матриархата.
Я впервые слышал чтение Северянина. Как известно, он пел свои стихи — на два-три мотива из Тома: сначала это немного ошарашивало, но, разумеется, вскоре приедалось. Лишь изредка он перемежал своё пение обыкновенной читкой, невероятно, однако, гнусавя и произнося звук ‘е’ как ‘э’:
Северянину это, должно быть, казалось чрезвычайно шикарным: распустив павлиний хвост вовсю, он читал свои вещи на каком-то фантастическом диалекте. Однако, несмотря на эти многократно испытанные приёмы покорения наивных сердец, успех Маяковского был ничуть не меньше. Это само по себе следовало признать уже победой, так как обычно после автора «Громокипящего кубка» публика крайне холодно принимала других поэтов.
В поединке на женских курсах, закончившемся вничью, уже проступили грозные для Северянина симптомы: на смену „изысканному грезэру”, собиравшему дань скудеющих восторгов, приближался уверенной походкой „площадной горлан”.
Помимо совместных публичных выступлений, блок с Северянином ознаменовался выпуском «Рыкающего Парнаса», в котором рядом с нашими вещами были напечатаны стихи Северянина. Из художников, кроме обоих Бурлюков, приняли участие в сборнике Пуни, Розанова и Филонов.
Из-за рисунков Филонова, в которых цензура, относившаяся спокойно к голозадым женщинам Давида, усмотрела порнографию, «Рыкающий Парнас» был конфискован сразу по выходе в свет. Это было тем более прискорбно, что сборник открывался декларацией, которой мы отмежевывались как от символистов, так и от эгофутуристов и акмеистов. Ввиду того что «Рыкающий Парнас», за исключением десятка экземпляров, вынесенных тайком из типографии, совсем не получил распространения, мне кажется нелишним привести этот документ полностью:
Составили мы этот манифест вшестером, на квартире у четы Пуни, взявших на себя расходы по изданию сборника. Николай Бурлюк отказался присоединить свою подпись, резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к чёрту людей, которым через час будешь пожимать руку. Действительно, ни одна из наших деклараций ещё не вызывала в литературной среде такого возмущения, как этот плод нашего совместного творчества. Каждое слово в нём как будто было рассчитано но то, чтобы кого-нибудь оскорбить.
Василий — не опечатка, а озорство: поэт любил своё имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием, что даже дало Потёмкину повод в ходившей тогда по рукам пародии вложить ему в уста горделивое утверждение:
Ладно — назовём его в таком случае Василием! Пробка — тоже неспроста; это — намёк на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а, может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод.
Больше всего вознегодовал Сологуб — на Северянина, которого он “вывел в люди”, и Гумилёв — на нас всех: особенно задело его выражение „свора Адамов”.
Из текста манифеста ясно, что, вступая в блок с Северянином, мы и не думали включать в свою “литературную компанию” ни «Петербургский Глашатай», ни «Мезонин Поэзии». Что произошло вслед за тем в Москве, каким образом удалось “мезонинцам” сблизиться с Маяковским и Бурлюком, чем руководствовался “отец российского футуризма”, доверяя одному из „табуна молодых людей без определённых занятий” переиздание «Дохлой Луны» и наблюдение за выпуском «Первого журнала русских футуристов», — не знаю. Но вскоре после выхода обеих книг Давид писал мне из Ростова-на-Дону:
„Очень жаль, что ты не живешь в Москве. Пришлось печатание поручить Шершеневичу и — мальчишеское самолюбие! — № 1–2 журнала вышел вздор!..”
В самом деле, для того, чтобы поместить свои жалкие подражания Маяковскому, Шершеневич не постеснялся выбросить из «Дохлой Луны» пять вещей Хлебникова, в том числе «Любовника Юноны» и «Так как мощь мила негуществ». А с журналом получилось ещё хуже: он весь оказался нафарширован безответственными писаниями каких-то Эгиксов, Гаеров, Вагусов, превозносивших гений Вадима Шершеневича, упрекавших Пастернака в том, что он душится северянинскими духами, поучавших его рифме и ассонансу, пренебрежительно окрестивших Асеева „Неогальперином” и заявлявших, что у него, быть может, много скрытых талантов, но что к поэзии они не имеют ни малейшего отношения.
Не надо было обладать особой прозорливостью, чтобы заметить, что все эти статейки если не писаны одной рукою, то инспирированы одним лицом — кем, у меня не оставалось никаких сомнений. К сожалению, это обнаружилось слишком поздно, когда два объёмистых сборника, внешне изданные прекрасно, были вконец испакощены самовлюбленным графоманом, опьяневшим от неожиданного раздолья.
Между тем как в Москве столь своеобразно пополнялись наши ряды, в Петербурге происходило то, что в будущей истории нашего движения получит, вероятно, название второго призыва футуристов.
Как я уже упоминал не раз, будетляне представляли собою замкнутый кружок, центром которого была «Гилея». Хотя мы и провозгласили себя единственными футуристами мира, это, однако, не означало монополии даже в пределах России: каждый, кому захотелось бы, мог объявить себя футуристом. Но «Гилея» продолжала оставаться настоящей кастой: несмотря на неоднократные попытки расширить это основное ядро, в «Гилею» после Маяковского уже никто не вошёл до самого её распада.
В связи с присоединением к нам Северянина поднялся вопрос о включении в нашу группу и Василиска Гнедова: среди эгофутуристов он был белой вороной и неоднократно выражал желание перейти в наш лагерь. Разумеется, это имело бы гораздо больший смысл, чем допущение Шершеневича, но Гнедову помешала болезнь, вынудившая его спешно уехать на юг.
Добивался принятия в «Гилею» и Александр Конге, молодой, талантливый поэт, находившийся под комбинированным влиянием французов и Хлебникова: его стихи были бы уместнее многих иных но страницах наших сборников, но я — сейчас мне даже трудно вспомнить, по каким соображениям, — отклонил его домогательства.
Да вопрос, в сущности, заключился уже не в формальном вхождении в нашу группу. Те, кто желал работать с нами, могли это делать, не именуя себя футуристами. Так поступил Виктор Шкловский, с которым меня в декабре тринадцатого года познакомил Кульбин.
Кульбин был слишком любвеобилен и медоточив и слишком легко раздавал патенты на гениальность, чтобы к каждой его рекомендации можно было относиться с полным доверием. Однако розовощёкий юноша в студенческом мундире, тугой воротник которого заставлял его задирать голову даже выше того, к чему обязывает самый малый рост, действительно производил впечатление вундеркинда.
Кроме того, у Шкловского была филологическая культура, отсутствовавшая у нас всех, за исключением, конечно, Хлебникова. Но высказывания короля времени были, во-первых, аутентическими толкованиями, а не констатацией литературного феномена и его исследованием со стороны, и, во-вторых, носили слишком случайный и лирический характер. В лице Шкловского к нам приходила университетская — никогда не слишком молодая — наука. Это было уже интересно: взглянуть на своё отражение в только что наамальгамированном стекле, которое мы, вероятно, постеснялись бы признать зеркалом истории.
В последних числах декабря Шкловский прочёл в «Бродячей Собаке» свой первый доклад: «Место футуризма в истории языка». Он говорил о словообразе и его окаменении, об эпитете как средстве подновления слова, о “рыночном” искусстве, о смерти вещей и об остранении как способе их воскрешения. На этом он основывал теорию сдвига и в возвращении человеку утраченной остроты восприятия мира видел главную задачу футуризма. Противопоставляя „полированной поверхности” Короленко „тугой язык” Кручёных, вскрывая процесс образования бранных и ласкательных слов, ссылаясь на полупонятный язык древней поэзии, он устанавливал связь между будетлянским речетворством и приёмами общего языкового мышления.
Во всём этом для гилейцев было мало нового. Каждый из нас только тем и занимался, что „воскрешал вещи”, сдвигая омертвевшие языковые пласты, причём пытался достигнуть этого не одним лишь „остранением эпитета”, но и более сложными способами: взрывом синтаксической структуры, коренною ломкой традиционной композиции и т.д. Разве теперь, когда отшумели опоязовские бури в стакане воды, уже не стоило бы, положа руку но сердце, признаться, что пресловутая формула „искусство — совокупность стилистических приёмов” заключена in nice в определении поэзии, данном вступительной статьёй к «Дохлой Луне»?
Ещё весною тринадцатого года я писал: „Для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или фантастична наша поэзия: за исключением своей отправной точки она не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним никак, и все остальные точки её возможного с ним пересечения заранее должны быть признаны незакономерными”.
Повторяю: я нисколько не горжусь этим, ибо смешно гордиться воздухом, которым дышал... Но здесь уместно вспомнить об этом, чтобы объяснить, почему выступление Шкловского никем из нас не рассматривалось как событие. Новым, пожалуй, было лишь то, что Шкловский пришёл к нам со стороны, из университетского семинария, как филолог и теоретик: до тех пор к нам доносились оттуда только пренебрежительные насмешки да брань. Кроме того, он был хороший оратор: говорил с неподдельным задором, горячо и плавно, не заглядывая ни в какие бумажки. Нам оставалось только поздравить себя с таким союзником.
Едва ли не на лекции Шкловского неутомимый Кульбин свёл меня с Артуром Лурье, окончившим в том году Петербургскую консерваторию. К музыке, как я уже говорил, у меня никогда не было особенного влечения: в этой области мне до конца моих дней суждено быть профаном.
Я должен был поэтому верить на слово и Кульбину и самому Лурье (мог ли я в ту пору, без риска скомпрометировать своё футуристическое “лицо”, полагаться на другие авторитеты?), что не кто иной, как он, Артур Винцент Лурье, призван открыть собою новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский — уже пройденная ступень. Принципы “свободной” музыки (не ограниченной тонами и полутонами, а пользующейся четвертями, осьмыми и ещё меньшими долями тонов), провозглашенные Кульбиным ещё в 1910 году, в творчестве Лурье получали реальное воплощение.
Эта новая музыка требовала как изменений в нотной системе (обозначения четвертей, осьмых тонов и т.д.), так и изготовления нового типа рояля — с двумя этажами струн и с двойной (трёхцветной, что ли) клавиатурой. Покамест же, до изобретения усовершенствованного инструмента, особое значение приобретала интерпретация.
И Лурье со страдальческим видом протягивал к клавишам Бехштейна руки, с короткими, до лунок обглоданными ногтями, улыбаясь, как Сарасате, которому подсунули бы трёхструнную балалайку.
Впрочем, не один лишь «Wohltemperierte Klavier» вызывал саркастическую усмешку на преждевременно увядших губах моего нового приятеля: она не покидала его никогда, прочно расположившись над огромной, от уха до уха распяленной бабочкой чёрного галстука, тревожившей воображение бирзульского денди ещё на школьной скамье частного коммерческого училища.
Ибо, вопреки всему, что он прочел у Барбэ д’Оревильи и что должно было бы заставить его отказаться навеки от неосуществимых мечтаний, Артур Винцент Лурье продолжал считать себя вторым Джорджем Бреммелем, хотя обращался со своим цилиндром, как с дароносицей, и вкушал, как причастие, развесной салат оливье.
Стесняясь своего происхождения, он, словно упорно не заживающую, уродливую культяпку, обматывал собственную фамилию бесконечным марлевым бинтом двойных имён, присоединяя к экзотическому Артуру Винценту (Артуру — в честь Шопенгауэра, Винценту — в честь Ван Гога) Перси Биши (в честь Шелли), и облюбовал к очередному приезду папского нунция в Петербург ещё Хозе-Мария (в честь Эредиа), но этому помешала война.
Став футуристом из снобизма, Лурье из дендизма не называл себя им. Но он заполнял в рядах будетлян место, бывшее до него пустым, и в нашем противостоянии развёрнутой фаланге Маринетти именно он, а не тишайший Матюшин, мог — хотя бы только декларативно — “перекрывать” Балилла Прателлу. Впрочем, это не мешало ему писать романсы на слова Верлена и Ахматовой, которые вскоре под маркой «Табити» (название, придуманное Хлебниковым и означающее по-эскимосски «Полярная звезда») выпускал под обложками в стиле „пудреной розы” его самоотверженный издатель Семичев.
Сговориться с Лурье мне было нетрудно, ибо сговариваться, правду сказать, было не о чем: я без колебаний отдавал ему на съедение всего Баха с потрохами, а он, хотя в своих литературных вкусах не шёл дальше акмеистов, ни за что не решился бы не только выступить против воинствующего будетлянства, но даже признаться в своём равнодушии к Хлебникову или Маяковскому.
В ту многоречивую пору одного такого сердечного согласия было вполне достаточно, чтобы совместными усилиями родить манифест о чём угодно и против кого угодно. Если же принять ещё во внимание, что мы оба, каждый по-своему, тяготели к расовой теории искусства, искушавшей нас примитивным противопоставлением Западу Востока, станет ясно, что мы не могли не выпустить нового “универсала”.
Среди живописцев у нас нашёлся единомышленник в лице Якулова, незадолго перед тем приехавшего из Парижа, где Делоне на лету перехватил у него идею одновременной совместноцветности — ядро симюльтанэ. На берегах Невы апостолом этого течения явился молодой приват-доцент А.А. Смирнов, тоже недавно возвратившийся из Парижа. Вместо „последней песни Беранжера” Смирнов привёз писанную от руки Делоне и его женою, Соней Терк, на длинных полосах бумаги сандраровскую «Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France».
Подобно тому как в живописи речь шла об одновременном восприятии всех элементов картины, вместо последовательного их восприятия одного за другим, основным принципом симюльтанистской поэзии было вытеснение последовательности одновременностью. В отличие от упрощённого разрешения этой задачи теми, кто, как Барзён, сводил всё дело к одновременному чтению произведения несколькими голосами (то есть подменял одновременность поэтическую одновременностью декламационной), Блэз Сандрар в сотрудничестве с женой Делоне сделал попытку добиться искомого эффекта выделением отдельных слов посредством разноцветных букв и раскраски фона.
Параллельно с ним Гийом Аполлинер печатал свои симюльтанистские поэмы, располагая слоги и обрывки фраз по всей странице с таким расчётом, чтобы геометрические фигуры, образуемые беспорядочно разбросанными типографскими знаками, схватывались глазом одновременно. Это уже мало чем отличалось от внешнего начертания футуристических стихов, практиковавшегося Маринетти и Палацески.
Вообще одновременность такого восприятия следовало признать довольно относительной. Нам, поэтам, ломать копья тут было не из-за чего. Но Якулов не мог спокойно слышать о симюльтанэ и надсаживал себе глотку, крича, что Делоне ограбил его, так как он, Якулов, первый своим “вращающимся солнечным диском” показал, каким образом можно достигнуть единства впечатления путём единства технических средств.
Не в пример большинству живописцев, Якулов обладал даром обобщения и умел связно излагать свои мысли.
У него была своеобразная гносеологическая концепция, противопоставлявшая искусство Запада, как воплощение геометрического мировосприятия, направляющегося от объекта к субъекту, — искусству Востока, мировосприятию алгебраическому, идущему от субъекта к объекту. Именно ему принадлежит указание на это в совместно выпущенной нами декларации, точно так же как и противоположение территориального искусства Европы строящемуся на космических элементах искусству России.
Он настаивал на включении в текст манифеста обоих тезисов в качестве принципов, общих живописи, музыке и поэзии. Засунув большие пальцы смуглых рук за огненно-оранжевый жилет и свирепо вращая глазами, он декламировал в доказательство того, что русский стих всегда бессознательно тяготел к “космизму”.
— В этом четверостишии, — убеждал он меня, — сочетание двух стихий: женственной Ламбды, начала влаги, нежности, и пламенного, мужественного Ро... Разве кто-нибудь из западно-европейских поэтов мог бы одним звуковым составом стиха с такой полнотою и силой передать коллизию космических элементов?.. Там, на Западе, они даже не в состоянии понять это! — продолжал он, всё более разгорячаясь. — Их периодически тянет на Восток, они инстинктивно чувствуют, что правда на нашей стороне (на нашей: мы, конечно, отождествляли себя с Востоком!), но взять у нас, даже при желании, не могут ничего. О Делоне говорить не приходится: его холсты безнадёжно поражены тем самым недугом “описательности и последовательности”, от которого, по его собственным словам, свободен только Восток. Да что — Делоне? Делакруа и тот ничему не научился у Востока: он не понял, что в материале уже дан цвет. А импрессионисты? Они ведь тоже не чувствовали воздуха! Никому из них не пришло в голову, что мазок — уже рельеф: недаром китайцы, стремясь избежать рельефа, втирают краску в самую ткань!
Чего, казалось бы, проще? Записать этот монолог, понравившийся и мне и Лурье, прибавить к нему ещё несколько соображений общего характера, и получился бы неплохой манифест. Так нет же! Проклятая склонность к “измам”, к наукоподобной абракадабре сразу дала знать о себе, как только мы сели за стол (действие происходило на квартире у Лурье), чтобы составить декларацию.
Мало того: войдя в азарт, мы забыли, что отрицательные формулы ещё не являются сами по себе программой. Особенно смешно это вышло у Якулова, который в качестве своего основного тезиса выдвинул „отрицание построения по конусу, как тригонометрической перспективы”. Даже Гийом Аполлинер, перепечатавший наш манифест в «Mercure de France», не мог удержаться от иронического замечания по адресу слишком пылкого теоретика.
Декларацию мы выпустили на трёх языках: русском, французском и итальянском, так как полагали, что только с Италией и Францией стоит считаться, как с единственными странами авангардного искусства.
К разбору этого документа я ещё вернусь в связи с лекцией, прочитанной мною на ту же тему и служившей вместе с тем ответом итальянским футуристам. Ибо блок с Якуловым ни в какой мере не знаменовал моего отхода от «Гилеи», участником которой я продолжал оставаться до августа четырнадцатого года. Этот блок свидетельствовал о другом: о процессе внутреннего роста и неизбежной дифференциации в стане будетлян — процессе, явно ускорившемся благодаря приезду в Россию Филиппа Томмазо Маринетти.
