

авторы друг другу
Есть свирель у меня из семи тростинок цикуты
Слепленных, разной длины, — Дамет ее, умирая,
Передал мне и сказал: вторым ей станешь владельцем.
Публий Вергилий Марон. Эклога II
Je sucerai, pour noyer ma rancœur,
Le népenthès et la bonne ciguë
Aux bouts charmants de cette gorge aiguë
Qui n’a jamais emprisonné de cœur.
Charles Baudelaire. Le Léthé1![]()
Ты не бойся, что темно.
Слушай, я тебе открою, —
Всё невинно, всё смешно,
Всё божественной игрою
Рождено и суждено.
Федор Сологуб. Ты не бойся, что темно...
Ясно, что это антивоенный призыв, и потомок, скитающийся в гуще исторических фактов, летописей и легенд, должен быть вооружен не ружьями и пушками, а пристальным зрением. Из одноглазого и разутого он должен превратиться в обутого щеголя — смотреть в оба, как мандельштамовский щегол:
Но настолько же здесь имеет значение шутливая поговорка „Разуй глаза!“ — взгляни, чтобы увидеть; сбрось пелену; расширь кругозор. Перед нами еще один поэтизированный рассказ о Тайной вечере, где провидящий свою смерть поэт-Христос несет людям не меч, но мир: Тайной вечери глаз знает много Нева... Темное имя автора — Вели-мира — Виктора Хлебникова составляет вензель-монограмму ВХ, пасхальный диктант смерти и воскрешения.
Люди прилежно приставляют к глазу монокль, еще одно веко, и совершают пасхальный ритуал — христосуются, целуются. Но только их действия больше напоминают свару, грызню, чем жесты любви и милосердия. В их остекленевших зрачках пылает пламя злобы, залпов и газовых атак. Они ослеплены ненавистью.
Остается лишь надежда на будущего читателя томов — потомка, который разберется — где свершается история, а не уходит сварливым скопом в небытие. Хлебников играет на двойном значении слова ‘история’: то, что было; и то, что рассказано о том, что было. История всегда — и событие, и рассказ. Образ книги и процесс чтения проходят через весь текст: Книга войны... Потомок! От Костомарова... Имя прочтете мое... Это вы тихо прочтете о том... Путешествуя во времени (скитаясь по годам Погодина), изучая труды историков, наследник этих книжных княжеств натыкается на примечательную веху — точку схождения и расхождения жизни и смерти: Хлебников родился в тот год, когда Костомаров умер — 1885.
Основным измерителем текста становится время, оно же и управляет словесными преобразованиями. Столетие-век (созвучный с глазным ‘веком’) дробится на годы — лета, ядовитое имя — вех, пузырек с ядом — летально настолько же, насколько летальна добрая старая тетя, то есть Смерть, к которой война принуждает отправиться поэта-воина. И даже темные воды Невы напоминают о реке смерти и забвения — Лете. Велимир — это тот, кто “Велит чтить мир”. Но его же имя-монограмма, ВеХа, страшней и тревожнее склянки с ядом, на которой изображены череп и кости (костомаровский словесный осколок, опять же), так как ‘вех’ — ядовитое растение.2![]()
“Участники” стихотворения все те же, но “идеологический” колорит совершенно иной. Героиня здесь все та же ‘цикута’, но ее связь с автором подспудная, она зовется ‘бех’ и служит лекарством, а не отравой. Кости, пропитанные ядом, бешено вопят, но не о летальности, не о смерти, а о вековой памяти. Мазь лечит от забвения, груз лет только усиливает скорбь и патриотическую злободневность. Прошлое прорастает в будущее, произрастает даже некоторое надувательство, и возвращенный земле смех восстанавливает историческую справедливость. Басня «Бех» написана до начала войны и воспевает ратные подвиги предков, поэт — ревностный поборник кровопролитных побоищ, бешеный певец-воитель русской славы. В 1916 году реальная война заставляет самого Хлебникова разуть глаза, иначе взглянуть в глаза смерти.
Ядовитая цикута становится созвучной свирели мира. Цикутой также называется род флейты, свирели. И мы оказываемся слушателями поэтического соревнования двух аэдов русского футуризма, заклинающих мир прислушаться к лире и прозреть. Один вооружен свирелью Пана, цикутой, другой — флейтой водосточных труб, флейтой-позвоночником. Поэтому Владимир Набоков отправляет своего alter ego, английского писателя Себастьяна Найта на год в ученики к футуристу Алексису Пану. И не довольствуется этим. В романе «Bend Sinister» редактору лакейского журнала он дает имя Панкрат Цикутин, уклончиво указуя незадачливому читателю на связь имени с Сократом и цикутой. О других связях — с набоковским революционным тезкой, например, читатель должен догадаться сам. ‘Веко’, по Далю, — это еще и ‘кузовок’. Но об этом как-нибудь потом.
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 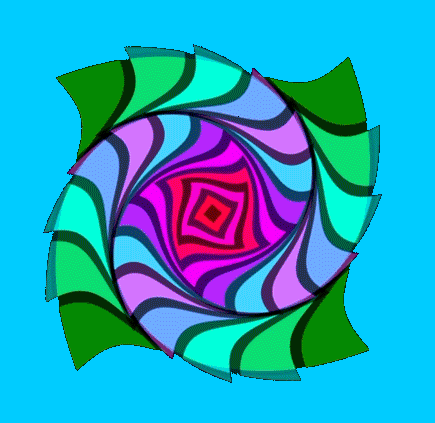 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||