

Юрию Сенокосову
И в каждой битве знак особый
Дела героев освещал
И страшным блеском покрывал
Земле не преданные гробы…
Эдуард Багрицкий. Знаки
Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой тёмной путников в ночи
Земля поила благодарно.
Николай Тихонов. Не Заглушить, / Не Вытоптать Года…
Но что это сзади за грохот звенящий?
По лестнице… Слышишь? Там…
Рояля, как чёрного гроба, ящик
За нами ползёт по пятам.
Михаил Зенкевич. Баллада о безногом рояле
 оначалу загадочная поэма Хлебникова «Ночной обыск» называлась «Переворот Советов». То ли в виде эпиграфа, то ли датировки под заглавием стояло: 7.XI.1921. 36 + 36. Изменив название, цифры поэт оставил, и при первой публикации Н.Л. Степанов их воспроизвёл и прокомментировал со ссылкой на хлебниковского душеприказчика художника П.В. Митурича, утверждавшего, что формула эта означает „выраженное в ударах сердца число минут, необходимое для прочтения поэмы”.
оначалу загадочная поэма Хлебникова «Ночной обыск» называлась «Переворот Советов». То ли в виде эпиграфа, то ли датировки под заглавием стояло: 7.XI.1921. 36 + 36. Изменив название, цифры поэт оставил, и при первой публикации Н.Л. Степанов их воспроизвёл и прокомментировал со ссылкой на хлебниковского душеприказчика художника П.В. Митурича, утверждавшего, что формула эта означает „выраженное в ударах сердца число минут, необходимое для прочтения поэмы”.Поэма — обыск матросами подозрительного дома на предмет “белогвардейской сволочи”, заканчивающийся страшным погромом. В цепи малопонятных событий — от начавшегося обыска, разбоя и до попойки и общей гибели белых и красных в охваченном пожаром доме — есть одно, являющееся ключевым в интерпретации текста в целом. Оно связано с выбрасыванием революционными матросами рояля из окна:
Падение рояля, „рояля культуры” (Белый), на мостовую символизирует сокрушительную гибель роялистского, самодержавного строя в России. Предсмертный полёт самодержавного орла — птицей, умирая, полетело. Роялистский орел, сниженный образом щенка, неожиданно разместившегося внутри инструмента, вполне объясним в связи с блоковским сравнением „старого мира, как пса”. Матросы сами называют себя убийцами святыми, и эта освященность революционной стихии, несомненно, блоковского происхождения.
Но противостояние старого и нового миров у Хлебникова исчезает. Подлинно ли это победа, оплаченная такой ценой? Смертельные враги «Ночного обыска» описываются одним и тем же языком, принадлежат одному и тому же миру, становятся раскольниками какого-то общего исторического самосожжения. Один из крепко захмелевших матросов, указывая на образ Спасителя, бормочет:
Но языческая татуировка бесконечно далека от истинного образа Спасителя. Революция во имя всеобщего братства захлёбывается в братоубийственной крови. „Мировой пожар в крови — Господи, благослови!” — требуют матросы из «Двенадцати» Блока. Для Хлебникова этот сотериологический призыв звучит уже трагически самоубийственно:
В черновой редакции поэмы, перед всеобщей гибелью в огне, упоминается о решётке на окнах, странным образом не помешавшей выбрасыванию рояля:
Решётка символизирует не только безвыходность ситуации и надвигающуюся погибель. На сей раз историософская шутка Хлебникова строилась на каламбурном звучании игры “орёл или решка”, орлянке. При этом нечувствительный каламбур лежит в основе всего сюжета «Переворота Советов». Именно с орлом / решкой связано появление самодержавного орла и загадочной решки в финале поэмы.
Однако для Хлебникова, помешанного на исторических законах, игра в орла и решку — не область случайного. Вернее, подбрасывая монету, ты ещё находишься во власти случая, но падающая монета уже во власти неумолимой закономерности. Если орёл падает вниз, решка неминуемо должна одержать верх. Низвержение самодержавного орла почти фатально означает победу пагубной решки. Но для Хлебникова — это оборотная сторона той же самой медали. Переход события в свою противоположность, переворот самого революционного переворота — закономерный итог.
Сюжет «Ночного обыска» строится также и на полной противоположности, переворачивании смысла того основного события, которое за ним маячит — травестировании сюжета Тайной вечери. Все роли перераспределены шиворот навыворот, перед нами воистину Пир на пепле, „La Cena delle ceneri”. Вечерю устраивают матросы, ужин превращен в попойку, пьяный пир на трупах. О цене жизни рассуждает моряк, повествуя о полном достоинства поведении офицера, с улыбкой встречающего смерть:
Матрос, побеждённый смехом убитого, желает точно так же “победить бога”. Для чего просит Христа на иконе убить его взглядом глаз, что скрывают вещую тайну. Если пьяный моряк тоже засмеётся, то все заплатят равную цену — за смерть. Такого искупления грехов он не получает, тогда икону он предлагает превратить в пепел, а затем вообще переводит Иисуса из мужского рода в женский и ёрнически предлагает ему променад по бульвару. Следующий переворот свершается, когда о пире огня, в котором погибнут все, возвещает именно безмолвный Христос с иконы. Торг закончен, цена жизни для всех едина — все гибнут в огне.
Десять лет спустя Пастернак откликается на хлебниковский «Ночной обыск»1![]()
Кроме падающего рояля Пастернак видит в хлебниковском тексте ещё и то, чего, к сожалению, не видит Борис Кац. Видит потому, что это его тема — игра в орлянку. Она появляется у Пастернака рано и проходит через всё творчество. В развитии этой темы Пастернак не менее разнообразен, чем Хлебников. Пастернаковский повтор „опять, опять” — не дурная бесконечность торжества варварства над культурой, смерти и разрушения над жизнью, поскольку:
Выход из вероятья в правоту какого-то высшего одиночества, смерти и воскресения — удел истинного поэта и для Пастернака, и для Хлебникова. Умрёшь — начнёшь опять сначала, по словам Блока. Шопен здесь не имя автора, а имя содержания всякого подлинного искусства, умирающего и воскресающего. Божественная природа слова и заставляет рояль застыть “распятьем” — ферматой вечной жизни.
„Умри и стань”, — по завету Гёте. Превращение незатейливой игры в орлянку в „рояля гулкий ритуал” Пастернак легко прочитал в «Ночном обыске», и, возвращаясь к нему от колобродящего пастернаковского стихотворения, мы начинаем понимать то, о чём у Хлебникова, казалось бы, нет ни слова, — об особой спасительной миссии поэта в мире.
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 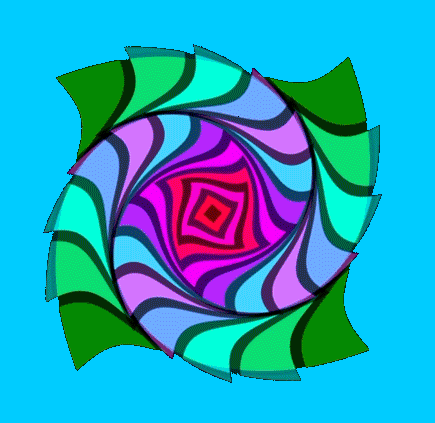 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||