

I heard a fly buzz when I died;
The stillness in the room
Was like the stillness in the air
Between the heaves of storm.
‹...›
I willed my keepsakes, signed away
What portion of me be
Assignable — and then it was
There interposed a fly,
With blue, uncertain, stumbling buzz,
Between the light and me;
And then the windows failed, and then
I could not see to see.
Emily Dickinson
Интересно, как участвует муха в образной структуре текстов у столь различных художников, как Велимир Хлебников и Лев Толстой. При том, что оба автора опираются на некий общий культурно-языковой “код” этого образа, муха в их произведениях по-разному вмонтирована в индивидуально-авторскую поэтическую картину мира.
Пожалуй, самая значимая муха в произведениях Толстого — это муха из Войны и мира. Смертельно раненый Андрей Болконский лежит в избе в Мытищах, в той самой избе, где на другой половине только что остановились Ростовы (князь, княгиня, Соня и Наташа), бежавшие от горящей Москвы. В бредовом состоянии Андрея посещают видения, он слышит разные звуки, действительность принимает у него контуры сна. Время от времени он просыпается и воспринимает реальную обстановку:
Шуршанье мухи превращается для Андрея в какие-то иные звуки, он слышит „какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: ‘И пити-пити-пити’ и потом ‘и ти-ти’“ (с. 430). Этот речитатив сопровождается странным видением: над своим лицом Андрей видит воздушное здание из тонких иголок. “Здание” заваливается и воздвигается опять. Прислушиваясь к шепоту, ощущая это воздвижение здания из иголок, князь Андрей одновременно видит урывками красное, в световом ореоле, пламя свечи и слышит шелест тараканов и „шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его“ (сс. 431–432).
Муха бьется о подушку, прикасается к лицу Андрея, что вызывает у него „жгучее ощущение“. И хотя муха ударяется о „здание из иголок“ на лице Андрея, она не разрушает это сооружение. К мухе и иглам присоединяется еще одно существо, которое давит и беспокоит Андрея:
Мысли Андрея переходят к Наташе Ростовой („никого больше не любил я и не ненавидел, как ее“), и именно в тот момент, когда он думает — „Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее“, — в третий раз возникают звуки „пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити“, и как аккомпанемент к ним — „бум, ударилась муха...“ (с. 433).
Уже ясно, что настойчиво повторяемые звуки пити-пити-пити передают не только “шепот” мухи. Муха сама играет роль некоего вестника, приносящего Андрею какое-то судьбоносное слово. Конструкция из иголок над лицом Андрея, которую можно интерпретировать как еще одну ипостась мухи (она ведь влетает в него и не разрушает его), вводит как вероятный также и мотив судьбы (ср. значение иглы в фольклоре и мифологиях). А когда муха ударяется о лицо Андрея, он вдруг замечает изменение в обстановке: у двери стоит „новый белый сфинкс“. В действительности это Наташа, одетая в белую ночную рубашку, которая перебралась сюда из другой половины избы.
Введением сфинкса в текст Толстой поднимает в памяти читателя целый ассоциативный пласт, связанный с мифологией. Сфинкс ведь загадывает загадку, от правильной разгадки которой зависит жизнь или смерть отвечающего. Тем замечательнее, что первое слово, сказанное „белым сфинксом“ (т.е. Наташей), — это слово „простите“, в котором появляются именно звуки пити-ти. Судьбоносное слово, загадка сфинкса, на которую должен ответить Андрей, — это просьба Наташи о прощении. И Андрей отвечает правильно: „Я вас люблю... Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде.“
Итак, муха получает в этой сцене роль предвестника. Она предвещает смерть (как, впрочем, и другие реалии “нижнего мира” в этой сцене, такие, как „шелестящие тараканы“ или нагоревшая свеча в форме „гриба“), муха вызывает боль („жгучее ощущение“), но в ее шуршании слышатся звуки, которые, если их правильно разгадать, освободят Андрея, отпустят его с миром. В мушином “слове” проступает не только „Простите!“ Наташи (кстати, произносимое ею три раза, как и „пити-пити-пити“ в тексте), муха приносит Андрею и другую весть — „прости!“ („пити“), т. е. “прощай! — твой срок окончен”. На одно слово налагается другое, и только через “прости” (в смысле “полюби!”) Андрей может проститься с миром.
Реальная муха, к тому же осенняя, которой самой скоро предстоит умереть, у Толстого становится важным элементом символического плана романа. В шуршанье мухи переносится то слово, которое вращается в подсознании Андрея (о подсознательном статусе слова свидетельствует еще и форма „пити-пити-пити“). Муха у Толстого, со всеми своими мифологическими коннотациями, принесенными “из нижнего мира, мира смерти”,3![]()
Однако, хотя муха у Толстого участвует в символическом слое романного пространства, она тем не менее продолжает существовать и в реально-бытийном плане Войны и мира: мухи естественно появляются там, где лежат люди с гноящимися ранами.
С мухой у Хлебникова дело обстоит иначе. Я хочу предложить для анализа следующее маленькое стихотворение.
У Хлебникова муха сразу возводится в ранг слова. И в этом статусе муха как будто очищается от той грязи и гноя, которые ассоциируются с этим насекомым, — слово муха нежное, красивое. Такой поворот настораживает, требует от читателя перестройки на особый “хлебниковский” поэтический лад, и только тогда становится возможным приблизиться к значению слова муха в этом четверостишии. Как известно, Хлебников неоднократно высказывался в том смысле, что каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя (в трактате «Наша основа», т. 5, 237). К этому надо еще добавить его мысль о ведущей роли первого согласного в каждом слове.
Таким “понятием” для звука М является, по Хлебникову, “деление”, “распыление на единицы”: Что М значит распад некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой величине (т. 5, 217) или Мо — распадение одного объема на мелкие многочисленности (НП, 345). Исходя из своей звуковой этимологии, Хлебников объединяет, например, следующие слова: М — мор, морок, мороз, мертвец, мера, меч, молот, мертвый — полный тул стрел Смерти, как охотницы за людьми. Жизнь как миг, мрак могилы (т. 5, 210).
Как видим, тут М-слова связаны у Хлебникова со Смертью, у нее их полный колчан. Такую же функцию выполняет Мава, злая русалка фольклора:
Можно предположить, что муха также воплощает в себе то “перемалывание на части”, которое характеризует другие М-слова.
Что же касается той “реальности”, которая стоит за словом, то мы видим, что действие мухи вполне натуралистическое: Ты мордочку лапками моешь. Таким образом, не теряя особого словесного статуса, муха — еще и просто насекомое. Это “колебание” между словом и обозначаемым объектом — характерная черта поэтики Хлебникова.
В дальнейшей интерпретации этого стихотворения должна быть учтена модальность побуждения, которая пронизывает его. Восклицательный знак (Муха!) и обращение на ты предполагают некое действие с желаемым результатом. А что может произойти, когда муха “моет мордочку лапками”? Обращение к фольклору дает ключ: в таком действии видят примету “прихода гостя”.5![]()
![]()
Тот факт, что муха ест, к тому же полностью соответствует ее М-сути в хлебниковской системе — в поедании/разжевывании происходит некое “распыление на части”. Как всегда у Хлебникова, мы присутствуем при полном слиянии словесного и “реального” уровня.
Но что ест муха? Объект еды — письмо. Сочетание “есть письмо/а” находим и в другом стихотворении Хлебникова:
Письмо/а для Хлебникова означает что-то мертвое (у него возрождается библейское „Письмя убивает, дух животворит“, см. 2 Кор. 3:6), и архаическим актом поедания это мертвое может “озаряться”, возрождаться. Поэт добивается этого с помощью “созвучия”: через иволгу просвечивает Волгу (по поэтике Хлебникова: Художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, очертания слова другого корня. Чем первому дается образ, лик второго; НП, 453). Хлебников не довольствуется одним значением. В трактате «Наша основа» он разделяет значение слова на одно бытовое, дневное, как днем исчезают все светила звездной ночи, и на самовитое, через которое строятся в слове звездные сумерки. Следуя этой логике, ночную высь, которая “озаряется” актом “поедания письма”, можно считать тем особым звездным небом, которое Хлебников строит из созвучных слов. Хлебников ведь говорит о своих словесных констелляциях как о “звездах”: лепешка, лепень, ладья, лодка, лоскут, летающая латуха, ‹...› лубок, ложка ‹...› лишай, лемех, ляжка ‹...› все эти слова, звезды Л-неба летят в одну точку (т. 5, 199).
Можно предположить, что письмо, которое съедает муха, тоже имеет отношение к тому дневному, бытовому, которое предстоит преобразовать, оживить. Моя интерпретация такова: последняя строка (А иногда за ивою / Письмо ешь) отсылает нас к предыдущей строке (Мордочку лапками моешь), которая и есть то самое поедаемое (и тем трансформируемое) письмо. И мухе предстоит (и нам, вместе с ней) съесть строку, букву за буквой, (М-о-р-д-о-ч-к-у-л-а-п-к-а-м-и-м-о-е-ш-ь), “переваривать” эти звуки, озарить ночную высь новым созвучием, и тогда именно из предложенного звукоскопления выделится имя первостепенной важности в мире Хлебникова:
Муха таким образом справляет архаический ритуал, воскрешая свое божество Мокошь, которое своей “руководящей сущностью” (звук М) принадлежит к тому же словесному созвездию, что и сама муха.8![]()
И как Мокошь царствует в мире мухи, так “небесными светилами” у поэта являются звуки.
У Хлебникова муха, таким образом, выступает двойником поэта, они летают в паре, как в строках самого Велимира:
Замечательно, что и у “реалиста” Толстого, и у авангардиста Хлебникова муха реализует свой архаико-мифологический потенциал. Она — вестник мира смерти, преисподней, земного разложения, но через нее передается и весть о возрождении. Так, у Толстого из мушиного шелеста „пити-пити-пити“ вырастает очищающее и отпускающее „прости“ умирающему Болконскому. У Хлебникова же муха приобщена к святой тайне сотворения поэтического: поеданием “мертвых слов” созидается живая поэзия.
| Персональная страница Барбары Лённквист | ||
| карта сайта | 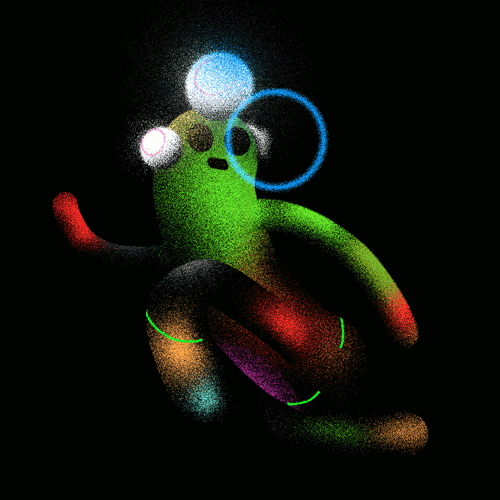 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||