

 утуризм...
утуризм...Но оставим в покое те или иные языки, возьмём просто язык и спросим: как же не видеть неизбежного пути развития слова от простого звука через сложнейший смысл к усложнённейшему в своей простоте звуко-смыслу? Слово было “физиологией”, слово стало “логикой”, слово становится “эстетикой” — и футуризм заговорил „о новой грядущей красоте самоценного, самовитого Слова”; в этом была и остается его внешняя, так осмеиваемая правда.
Красота слова, как и красота звука — такое ли, однако, новое ощущение? Кто же не испытывал этого чувства, слушая стихи на незнакомом языке? Но разве поэзия — тот играющий на курантах Усмиритель (из «Кота в сапогах» Тика), который возбуждает восторг всякой пошлостью, лишь бы слушающие отбивали такт... Дело не в ритме, дело не в рифме, но в самом слове, в самом звуке. Красота или безобразие самого звука пленяют — и оттого иногда живут века и тысячелетия. Недаром Гауптман в «Потонувшем Колоколе» вспомнил о колючем крике аристофановских лягушек: „Брекекекекс-коакс-коакс”. И если припомнился Аристофан, то уж не футуризм ли и его знаменитый птичий язык:
Не стоит слишком долго останавливаться на этом — на внешней правде футуризма, на признании художественной самоценности слово-звука. Прежде смеялись и негодовали, теперь недоумевают, потом поймут. Поймут, что можно говорить о красоте самого звука слова, что голос человеческий, по меньшей мере, равноправен и с флейтой, и со скрипкой... и с турецким барабаном, только безмерно богаче всех их, вместо взятых. И если мужику Никите (из «Печали полей» Сергеева-Ценского) читающая публика милостиво разрешает петь:
Но ещё раз: никакого переворота, никакого открытия Америки в этом нет; скорее, здесь лишь “колумбово яйцо”, основательно забытое и вновь крепко поставленное на очередь футуризмом. Ибо никогда подлинная поэзия, построенная на слово-смысле, не обходила мимо прав связанного с ней слово-звука. Не говорю уже о новейшей русской поэзии, которая и в стихах, и в прозе дала — и до сих пор даёт — высочайшие достижения мастерского сочетания звука и смысла: романы Андрея Белого «Петербург» и все последующие когда-нибудь ещё будут изучаться со стороны звуковой, слоговой, буквенной техники; стихи А. Блока, В. Брюсова, Ф. Сологуба и других будут подлежать такому же изучению. Но разве ещё у Пушкина не было сознательных поисков и непревзойдённых достижений, — у того самого Пушкина, которого футуристы приказали нам „сбросить с парохода современности”?..
Напомню, как двадцатидвухлетний Пушкин морщится от какофонии нескладно сталкивающихся согласных в строке кн. Вяземского:
„Что за звуки!” — восклицает Пушкин. Через год он иронизирует и над цензурой, и над одним собственным „киркиц-кайсацким стишком” из «Кавказского Пленника»; ещё через год он кричит караул: „зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей — ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала”... И тогда же он пишет про одну из строк «Бахчисарайского Фонтана»: „Нет ничего легче поставить Равна грузинка красотою, но инкакр, а слово грузинка тут необходимо”... Стоит ли удесятерять число таких примеров?
Поэзия всегда была синтезом слова–смысла со слово-звуком (отметай пока другие слагаемые этого интеграла). Футуризм выставил вперёд право на существование одного лишь слово-звука, и, как всегда, впав из крайности в крайность, одно время пошёл войною во имя слово-звука на слово-смысл. Чем это кончилось — мы увидим: а теперь прекратим на этом разговор о внешней, звуковой правде футуризма и перейдём к определению его правды внутренней, “идеологической”. Но для этого нам придётся совершить длинный путь через футуризм в его разных проявлениях.
Ровно за двадцать лет до футуризма рождалось русское “декадентство”, тотчас же собравшее в свои ряды десятки бездарностей, рекламистов и скандалистов; они были теченьем времени смыты, забыты, но “подлинные” — остались, и та же почтенная Публика с уважением покупала десяти и двадцати томные собрания сочинений Бальмонта и Брюсова, а самые публичные журналы радостно были готовы дать их, говоря стихом В. Маяковского, „бесплатным приложением к своей двуспальной кровати”... И — так бывало всегда, со всеми новыми художественными и идейными течениями.
Вот разве только муки скандала — это “новое слово” ХХ-го века (да и то: новое ли?), но и объясняется оно самой жизнью. Была она прежде тихая, безбурная, неторопливая, без железных дорог, без телефонных звонков, без гудящих трамваев, без оглушающих автомобилей: тихая извне, сонная внутри, “интеллигентски обывательская”, обломовская и в городе, и в душе горожанина. Теперь — трамваи, автомобили, гудки, звонки, телефоны, кричащие газеты; теперь месяц идёт за год, жизнь каждого из нас удесятерилась. Обратить теперь на себя внимание Улицы может лишь звучная мысль, лишь громкое слово; а так как второе легче первой, то “муки скандала” особенно радуют духовно-старых бездарностей, примыкающих к рождающемуся течению.
Прошли века войны, тысячелетия революции — футуризм выжил и победил, sed quantum mutatus ad illo Hectore! Вся „обнаглевшая бездарь” отпала и увяла; немногие оставшиеся Гекторы футуризма безмерно “поправели” литературно и скоро дождутся, пожалуй, своего „бесплатного приложения” к новым „двуспальным кроватям”, дождутся всеобщего “признания и уважения”. Правда, Гекторов этих немного. Оставляю пока в стороне “отдел изобразительных искусств”, но в области слова — одному только В. Маяковскому грозит эта участь.
А раньше! Перелистываю груды сборников, книг и листовок футуристов, вспоминаю — какие “пьесы” писались ими прежде, сравниваю — какие пишутся и ставятся на сцене теперь. Вот одна из первых пьес — «Первовеликодрама». В ней — „действ0нль∞” (вы без труда разгадываете: “действий — ноль или бесконечность”), „лиц0иль∞” „времядленья0иль∞”, и вся эта „первовеликодрама” состоит ровно из десятка следующих строк:
Другой какой-то “футурист” дал тогда же пьесу, уже более разработанную и обширную. Она занимала собою две страницы, начиналась заявлением, что „новый театр бьёт по нервам привычки и даёт наши новые откровения во всех искусствах”. Откровения этого «Дейма» (заглавие пьесы) были таковы: какая-то Женщина говорила несколько бессмысленных фраз, а тем временем — о, ужас! — „кровать, стоявшая доселе незаметно у стены, приподнималась. Чтец, стоявший незаметно у стола, начинал быстро и высоко читать”:
Но Женщина, так некстати прерванная, продолжала и заканчивала свой монолог: „всё сказа, всё сказала, — (тут по сцене „пролетали вещи”), — вижу перед, себя собою с ну скажи, винограв карандав в ти ры превращает, ры бы все как полюбит за всё, ничего где-то 13 78 скажите, съеденные сырые бумаги и д л”... Но тут, наконец, быстро входил Некто непринуждённый, и аккомпанировал уходу актёров монологом из „слов с чужими брюхами”: „Сарча кроча буча на вихроль опохромел пяти конепыт проездоал вза”... И „дейму” — конец.
Ах, всё это было так давно, так давно! Больной собачьей старостью, коллективный „Некто непринуждённый” футуризма всеми этими невинными благоглупостями и бездарностями “нового откровения” хотел не только восславить “слово-звук” в пику “слово-смыслу” — он хотел в муках скандала и в ореоле жёлтой кофты обратить на себя внимание Улицы, Публики, Толпы. Но когда в своё время В. Маяковский хотел быть “идеологом” наружной и духовной жёлтой кофты, когда он заявлял от своего и чужого имени:
И ещё вспоминаю я футуристические пьесы. Талантливый маниак голого слова и оттого нудно многословный и голословный В. Хлебников написал, в свою очередь, обширные „дейма”. Трагедия В. Маяковского «Владимир Маяковский» была даже поставлена на сцене года за два до войны, и я хорошо помню это тягостное зрелище издевающейся, улюлюкающей галёрки, и от этого сияющей самодовольством кучки “жёлтых кофт” на своей дешёвой Голгофе. А между тем “трагедия” В. Маяковского была уже не „словами с чужими брюхами”, а подлинным литературным произведением, была уже не „деймом”, а подлинным действом.
С тех пор и до «Мистерии-Буфф» В. Маяковский настолько же вырос, насколько и литературно “поправел”. К худу ли, к добру ли — покажет будущее. „Некто непринуждённый” футуризма уготовал дорогу таланту, а сам, бездарный, исчез с лица литературы. Своё дело он сделал: шумом скандала обратил внимание на новое рождающееся течение. Но этот шум — только внешняя “жёлтая кофта”; за ней надо было разглядеть и укутанную душу футуризма.
Бывает: пышным цветом распускается идейное или художественное явление — и оказывается пустоцветом, бесплодно увядает и опадает. Нет зерна, нет “духа” жизни, неоткуда восстать телу духовному. И всякое явление надо раскутать до последней пелены (будь то даже жёлтая кофта футуризма), чтобы увидеть, не является ли его пышный цвет — пустоцветом, есть ли за душой — живой дух.
Душа футуризма? — Её вы не найдёте во всех громкозвонных “манифестах” от Маринетти до В. Маяковского (в его статейке «Капля дёгтя»). В них лишь грубый остов, неладно скроенное и некрепко сшитое тело футуризма. Тут, в манифесте духовно плоского Маринетти — и „прославление войны”, этой „единственной гигиены мира”, и прославление „многокрасочных и многоголосых бурь революции”; тут в одну кучу свалены „милитаризм, патриотизм, анархизм” вместо с „презреньем к женщине”. В первом “манифесте” русского футуризма (сборник 1912 года «Пощёчина общественному вкусу»), подписанном среди других и В. Маяковским, выставлялись грозные требования („мы приказываем!”) — сломать старый язык и питать к нему „непреодолимую ненависть”, это раз; два — сбросить старых великих „с парохода современности”, и три — броситься вниз головой в словоновшество и словотворчество. Как видите — всё “жёлтые кофты”, всё внешний покров, который надо ещё развернуть, чтобы дойти до “души футуризма”... не говоря уже о “духе” его.
Возьмём ещё раз слово. Что оно — мёртвый футляр мысли или живое существо? Футуризм острее многих своих предшественников символистов почувствовал „новую грядущую красоту самоценного, самовитого Слова” — и выделил из своей среды одного талантливого маниака этой “самовитости”. В. Хлебников так полюбил живое Слово, что не только не овладел им, но, влюблённый, униженно покорился ему. Лишь изредка — и как раз в самых осмеянных Улицею стихах — удавалось ему совладать с бурно текущим через него потоком слов. «О засмейтесь, смехачи!» — для него это пресловутое стихотворение было ужё победою. Издеваться над этим было легко; труднее было почувствовать в тягостном косноязычии новую силу и правду вечно рождающегося Слова. И лишь немногие тогда (я помню среди них А. Блока) чувствовали это в самых обсмеянных строках В. Хлебникова: крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер. Пинь, пинь, пинь! Тарарахнул зинзивер. Или: я смеярышня смехочеств смехистеллино беру нераскаянных хохочеств кинь злооку-губирю... Или еще: немь лукает луком немным в закричальности зари... Помню, как тогда же А. Ремизов, влюблённый в Слово, но не покорившийся ему, внимательно, с карандашиком, читал хлебниковское «Любхо» — четыре страницы „словоновшеств” на корень ‘люб-’, помещённые в “гилейском” сборнике «Дохлая Луна».
Остов футуризма строился из новых, ещё не рождённых слов; в муках косноязычия рождали это Слово одни, другие извергали эти слова в любом количество, с лёгкостью и апломбом:
Слово, пусть живое, само имело душу; за оболочкой словоновшества лежала, главным образом, отрицательная сила — разрушение старого. И хотя на зубах навязли слова о страсти разрушения, как созидательной страсти, надо помнить, что она лишь расчищает место для возведения новых ценностей. В глубине этих ценностей — душа футуризма. И снова вопрос: какие же были эти, созидаемые из новых слов, ценности?
Отрицание всего “великого старого” при невозможности сразу создать своё, хотя бы и невеликое, новое оставляло вместо ценности, вместо души — пустое место.
Это — откровенно, но ведь это же и несомненно. Ибо таков подлинно был путь “футуризма” в России. В своих немногих талантах — он преодолел “nihil” и вступил в преемственные ряды творчества и жизни; в своих бесчисленных бездарностях — он прошумел восьмьюдесятью миллиардами „квадратных слов”, пустой и старой душой „привыкнув ко всем безобразьям”, а когда „все износились проказы”, то бесшумно опустился с головой в воды Леты: „мордой уткнулся в Обводный канал”.
Но не об этом футуризме квадратных слов идёт речь. Немногие, изнутри сумевшие его преодолеть — они теперь уже не былые “футуристы”, ибо уже не “нигилисты”; они уже знают, что „мир вовсе не рвотное”, у них есть духовные ценности. Талант вынес их ковчег из вод Обводного канала на сушу, разные спаслись по-разному, а погибшие — все погибли от одной главной причины: от духовной собачьей старости, от духовного “нигилизма”. Ибо суть его именно — в отсутствии “души”; и если былой футуризм, подобно былому “декадентству”, погиб, то именно потому, что массовая “душа футуризма” — была пустым местом.
Как и чем спаслись разные из былых футуристов, что общего есть в их новом пути — об этом здесь говорить не придётся. В двух словах: повторилась история гибели “декадентства” и рождения от него “символизма”, его сына и его худшего врага. Духовно старческое декадентство создало почву для расцвета духовных богатств символизма. Но чтобы стать “символистом”, надо было преодолеть в себе “декадентство”. Чтобы стать своего рода “символистами футуризма” — надо было преодолеть старческий “футуризм”, преодолеть “пустое место”: а ведь преодоление пустоты — самое трудное для человека. Надо было, наконец, победить в футуризме внешнее, победить Вещь, тирана старчески-футуристических душ.
История Хомы Брута повторилась с футуризмом. Ведьма современной культуры, машинная Вещь, покорила его, поработила его, оседлала его, — и он, подпрыгивая, как верховой копь, понёс её на плечах своих. Теософ теперь сказал бы: “карма капиталистического развития”, душа созданной машины покоряет душу создавшего человека. Глеб Успенский рассказал когда-то, как живого человека покорило мёртвое железо. Но те, кто верят в будущее, знают: Вещь мало создать, её надо ещё и покорить. Надо иметь право повторить о себе слова Заратустры: „я — верхом на вещи”.
Желание это, стремление это — смысл и сущность всей деятельности подлинного футуризма. Да и только ли футуризма? А “символизм” с его „преображением мира?” И даже не символизм, а вообще — искусство?
Цель — одна, пути — разные. Символизм в своё время потерпел поражение, “не удался”, не преобразил мира, а сам преобразился: когда был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состарился, то пришли эпигоны символизма, препоясали его эстетством и повели, куда захотели: в «Золотое Руно», в «Аполлон». Символизм тоже был “осёдлан”, был усмирён, был взнуздан, но не “вещью”, а именно “не вещью”, мёртвыми душами вещей.
Футуризм (не считая мёртворожденного и давно похороненного “акмеизма”) восстал против царства мёртвых душ. Но и сам футуризм был многообразен, в нём самом вечные “романтизм” и “реализм” были двумя полюсами отношения к жизни, к миру, к “вещи”. В области слова самыми подлинными выразителями этих двух течений футуризма явились Е. Гуро и В. Маяковский.
Е. Гуро путём углубления символизма пыталась победить “Вещь”, пыталась быть “верхом на вещи”. Внешняя вражда с символизмом, внутренняя зависимость от него. Новое “сочетание слов” должно было дать и “новое восприятие мира” (то есть прежнее „преображение” его); новое “сочетание вещей” должно было стать победой над Вещью:
В новых формах прежние вопросы: „как распутать нить?” (Бальмонт). И на новых путях — прежнее поражение. Когда художник футурист рисует корову, шествующую по скрипке, ему кажется, что он этим побеждает “вещь”, едет “верхом на вещи”, как Заратустра. В мире вещей скрипка и корова так далеки и различны, в мире творчества художник соединил несоединимое, победил “вещь”. И ведь как раз наоборот: не победа это, а полное поражение, бессилие преодолеть вещь внутренне. Конец клубка вещей спрятан глубже этой поверхности, глубже даже, чем думали до футуристов:
„Законом моей игры” может быть сочетание коровы и скрипки, но этим не преодолеть ни „скрипки”, ни “коровы”. Преодоление в том, как изобразить. За давнишнюю «Скрипку» Пикассо, за недавние «Скрипки» Петрова-Водкина я отдам сотню былых “футуристических” скрипок и коров. А вот «Скрипка» В. Маяковского — совсем недурна:
Он прав: в этом его свойство, — не доказывает, „орёт”. Но ведь и задача художника — не “доказывать”, а “показывать”; а чем и как — на то многие ость пути. Е. Гуро хотела распутать „клубок вещей” переутончением символизма; В. Маяковский хочет достичь этого же огрублением, нутряным „оревом”, истошным криком; Е. Гуро вся была в “романтизме”, в мистике, в теософии; В. Маяковский всему этому чужд, он “наивный реалист”, он надрывается от крика, чтобы сбросить “вещь”, сидящую на его шее.
Оба пути — закончились, пока что, провалом. А вот, к слову сказать, и обратный пример величайшего художественного достижения, распутывания „клубка вещей”: «Котик Летаев» Андрея Белого, подлинного символиста, сумевшего “оседлать вещь”. Но это только к слову, для контраста, а теперь обращаюсь к “оседланному вещью” В. Маяковскому, этому громкоголосому Хоме Бруту русской литературы. Какие заклятия голосит он, чтобы избавиться от “ведьмы”, и кто побеждает в конце концов в этом неравном поединке? Кто он: „Старик с кошками” (из его же трагедии «Владимир Маяковский»), который трусливо ёжится:
И вот — вещи взбунтовались: с„ейчас родила старуха время огромный криворотый мятеж”. Сперва — отдельные вспышки бунта: то „по крышам затанцевали трубы”, то „музыкант не может вытащить рук из белых зубов разорённых клавиш” (вот это — не корова на скрипке, это подлинно хорошо), то „даже переулки засучили рукава для драки”. И вдруг —
Об этом “радостно” сообщает „Человек без глаза и ноги”. Радостно — ибо перевернулся порядок вещей, корова зашагала по скрипке, „пришло начало новой поры, открылись страны”. Здесь — “революционность” футуризма, ненависть к обыденному, культурой набальзамированному, постоянному. Но революционность эта — внутренняя или внешняя?
„Преображение мира”, о котором говорил символизм, провозглашается теперь и футуризмом. Вещи ли взбунтовались и оседлали человека, или человек творчеством своим преобразил вещи? В сильной “вещи” В. Маяковского «Человек» (заглавие так и гласит: «Человек. Вещь») он сам говорит о человеческом творчестве, преображающем мир: „чтоб зимы в лето, воду в вино превращать, чтоб мог — у меня и под шерстью жилета бьётся необычайнейший комок...”
И „стоногий окорок” прачек в мокрой прачечной обращается в „дочери неба и зари”; булочник, „мукой измусоленный ноль”, и вдруг — „и вдруг у булок загибаются грифы скрипок”; сапожник прохвост и нищий: „взглянул — и в арфы распускаются голенища...” И всё это —
„Небывалое” — вздор: весь символизм (да что символизм! всякое искусство, творчество) на этом строится, говорит теми же словами о претворении воды в вино; у Ф. Сологуба есть и рассказ об этом чуде в Кане Галилейской. Но символизм презирал “вещь”, смотрел сквозь вещь, и за это был осёдлан призраком вещи; футуризм же хочет ощупать руками и „булки”, и „грифы скрипок”, и „голенища”, и „арфы”. Он “материалистичен”, но в переносном смысле, и зато уже не призрак вещи, а сама “вещь” осёдлывает его широкую спину.
Когда „тринадцатый апостол” этого нового “евангелия вещи”, В. Маяковский, порывает с былой поэзией, культурой, религией, когда он, „невероятно себя нарядив”, идёт по земле, „солнце моноклем вставив в широко растопыренный глаз”, а впереди „на цепочке Наполеона ведёт, как мопса”, — то вот, казалось бы, скинута им со спины ведьма Панночка, освобождён он в столь новом и гордом виде от ветхого Адама. Но тут же показывает он, сам того не желая, что в прежнем рабстве он у ведьмы, что солнце моноклем и мопсовидный Наполеон на цепочке не могут скрыть собою внутренней сущности бурсака Хомы Брута. Ибо когда он в таком наряде идет но земле, „чтоб нравился и жегся”, то как же ведут себя “вещи”, которых ведь надо любить, у которых ведь „душа другая?” А вот как:
И не случайность этот омерзительный образ сюсюкающих “вещей”. Стоит лишь вглядеться, как чувствует поэт вообще “вещь”, город, природу, мир. „Улица клубилась, визжа и ржа; похотливо взлазил рожок на рожок”; вот картина города. Образы сильные, кричащие, часто запоминающиеся: трубы крыши „в неба свившиеся губы воткнули каменные соски”; „рогами в небо вонзались дымы”; „в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей”. Но общее чувство города у поэта до назойливости однообразно: „лысый фонарь сладострастно снимает с улицы чёрный чулок”; в ресторане — „кресла облиты в дамскую мякоть” (а прежде, помните, у Ал. Блока: „По вечерам, над ресторанами...” Грубо и правдиво рисуется изнанка былой поэтизации, не менее страшной и в прежнем обличии). Но город — „адище города”, где
Пусть всё это ненавистно поэту, пусть с болью и отчаянием кричит он всё это в глухую стену города („кричу кирпичу, слов исступлённых вонзаю кинжал в неба распухшего мякоть”...), но ведь иным он ничего и не может (оседлан!) увидеть вокруг.
Ибо это — он ненавидит (как ненавидит себя), но иного — не видит. Хома Брут, даже осёдланный, всё-таки видел в былые времена, как сквозное покрывало тумана дымилось по земле, как месячный серп светлел на небе, как спали с открытыми глазами леса, луга, небо, долины. Ныне, для Хомы Брута Футуризма, вместо всего этого — „квакая, скачет по полю канава, зелёная сыщица, нас заневолить верёвками грязных дорог”. Для него небо — „шершавое, потное небо”, „распухшая мякоть”, а тучи — „тучи отдаются небу рыхлы и гадки”. Для него закат — то „вздрагивая, околевает”, то „туч выпотрашивает туши кровавый закат мясник”... Для него — „ещё не успеет ночь-арапка лечь, продажная, в отдых, в тень, на неё раскаленную тушу вскарабкал новый голодный день”. Для него солнце — сумасшедший маляр, оно то подымает рыжую голову, „запёкшееся похмелье на вспухшем рте”, то „обсасывает лучи в спячке”. Для него, наконец, вся вселенная — „спит, положив на лапу с клещами звёзд громадное ухо”...
Так он чувствует, городской Хома Брут ХХ-го века, и не может чувствовать иначе. Вещь оседлала его. Машина восстала, взбунтовалась и покорила душу человека. Для него теперь весь мир
Для него, „воспевающего машину и Англию”, весь мир — машина; для него, проводящего жизнь между телефонной трубкой и штепселем электрической лампы, весь мир — “вещь”. Ибо он — „тринадцатый апостол” нового евангелия: благовестия “вещи”. Апостол, раб и богоборец против этого своего Бога — всё сразу. Трагедию своего «Владимира Маяковского», свою “осёдланность” — он осознал или бессознательно почувствовал с первых же шагов. Отсюда — бунт, отсюда — усталь, отсюда — боль; и — тот надрывный крик, который бросает он в мировые кирпичи.
Слёзки, слёзы и слёзищи несут люди в трагедии «Владимир Маяковский» её автору, — до тех пор, пока не взмолился он: „господа! послушайте, я не могу! Вам хорошо, а мне с болью-то как?” И топчется он, запихивает „слёзы” в чемодан, идёт, — „выйду сквозь город, душу на копьях домов оставляя за клоком клок”, — идёт с этой ношей, чтобы никуда её не донести. Ноша эта — крестная ноша не футуризма, но всей русской литературы, и здесь — подлинная внутренняя связь его с ней. Здесь футуризм, который хочет быть отвержением всего старого, является лишь слабым его продолжением (истошный крик — не сила); здесь футуризм, желающий порвать все старые связи, лишь крепко привязывает себя к основной нити развития русской литературы; здесь „тринадцатый апостол” продолжает вечный путь „двенадцати”.
И когда он, в поэме «Война и мир», чувствует свою личную извечную вину за всё и за всех, вину за человека, то лишь в новых формах выражает он старую “достоевскую” идею. Старец Зосима — и футуризм! Хлюпающий Алёша Карамазов — и Владимир Маяковский! Боль — за всех; вина за всё.
Боль за всех — Голгофа каждого подлинного творчества. И вот — „смотрите: под ногами камень, на лобном месте стою”. Подлинное ли это лобное место или только бумажная Голгофа? “Мистерия” это, или только “буфф”? „Творись, распятью равная магия! Видите: гвоздями слов прибит к бумаге я”. Если бы лишь словесные гвозди в бумажный крест были уделом поэта, то о нём не стоило бы и говорить: слишком много в литературе таких бумажных страстотерпцев. Но подлинную боль — не подделаешь, “мистерия” прорвётся и сквозь “буфф”:
Боль познаётся любовью и ненавистью. Ненависть у В. Маяковского проявляется в „замученном крике”. Он ненавидит „лик мира сего” и его “культурные” формы. „Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию — четыре крика четырёх “частей”,— говорит В. Маяковский в предисловии к своему „тетраптиху” («Облако в штанах»). И это подлинно „четыре крика”, один сплошной истошный крик, ещё более усиливающийся в «Войне и мире». Земля заражена — и кровавая бойня войны точно искупительная гекатомба старого мира; а не то — „заражённая земля сама умрёт, сдохнут Парижа, Берлины, Вены”. Ибо „человек” этого “культурного” мира — жалкий ублюдок великих предков. А “человеки” эти вкупе и влюбе — только „массомясая, быкомордая орава”.
И здесь начало “богоборчества” поэта, и в этом — ещё и ещё раз тесная связь его футуризма со всем прошлым русской литературы. Правда, “богоборчество” футуризма — наивнейшее, мелкое, детское, плоское: после глубин Кириллова и Ивана Карамазова — бледно и бедно звучат все эти вопли и проклятия криком кричащего футуриста; сильные внешне, слабы и нищи они внутренне.
От большой боли к мелкому богу — снова трагический путь и провал. Ведьма Вещь гнетёт долу голову поэта; он видит явно своего земного врага, „Повелителя Всего”, но взглянуть выше ещё не умеет.
Так тому и быть надлежит: в этом — футуризм В. Маяковского, в этом — его сила и бессилие. Криком кричит он в борьбе с „Повелителем Всего”, рушит стены городов на его лысую голову. Боль, ненависть, крик. И — боязнь: есть ли силы в мире, чтобы одержать когда-либо победу? По-видимому — нет:
Проходят тысячи, миллионы лет; возносится поэт на небо, в „центральную станцию всех явлений”; снова возвращается на землю, — а на земле „тот же лысый невидимый водит, главный танцмейстер земного канкана, то в виде идеи, то чорта вроде, то Богом сияет, за облако канув”... Что же? Сложить руки, покориться? Нет, покорность не до конца совместна с ненавистью. „Антиквар? Покажите! Покупаю кинжал”.
Так боль, ненависть, крик приводят футуризм к „кинжалу” — приводят его к революции.
В. Маяковский давно осознал эту связь. Свой кинжал он купил до революции 1917 года. „Повелитель Всего”? Какой там повелитель: он просто „Николаев, инженер; это моя квартира” (улица Жуковского, кв. № 42... Впрочем, поэт верит, что улицу со временем переименуют; „она — Маяковского, тысячи лет”...). И удар надо направить против этого массового быкомордого Николаева старого строя: идёт революция политическая и социальная.
Он видел, что революция будет “социальная”, что революция будет тяжёлая, кровавая. Быть может, самые сильные строки его „тетраптиха” посвящены как раз этому предсказанию грядущих событий.
Да, почти такой прошла революция. Но, ещё раз: что же видел поэт за ней? „Николаев” старый низвергнут — что же дальше? Видел ли поэт, смотрел ли он вдаль? — Смотрел и видел: в безмерном далёке видел он царство подлинного человека. „И он, свободный, ору о ком я, человек — придёт он, верьтё мне, верьте!”. В этом — новое благовестие „тринадцатого апостола”; впрочем — какое же новое! Старое, исконное, вечное, опять связующее футуризм с “благовестием” всей русской литературы. Опять с криком, с вопом, с оревом — „проповедует, мечась и стеня, сегодняшнего дня крикогубый Заратустра”. И он, крикогубый (меткое слово!), думает, что никто кроме него не провидит человека грядущего, что никто кроме него не предчувствует будущего победителя мирового „Повелителя Всего”.
И он, В. Маяковский — „его предтеча”. Он прав: всякий видящий — предтеча грядущего. „Звенящей болью любовь замоля, душой иное шествие чающий, слышу твоё, земля: ныне отпущаеши”. Ибо идёт „Человек” (так и озаглавлена “вещь” В. Маяковского), который сумеет освободить землю, освободить людей, освободить и его, несчастного Хому Брута ХХ-го века, от гнетущего духовного рабства. Пусть это будет „через горы времени” — но это будет; и всякая внешняя “революция” — лишь новая медленная ступень к новому пришествию.
Итак, вот что видит поэт за революцией: „человека”. Но снова вопрос: что же видит он в этом человеке? Кто он? „Ангел” ли Гердера? Сверхчеловек ли Ницше? Или просто „blonda bestia” опошленного ницшеанства? К кому из них ближе всего футуризм?
Человек, личность, “я” — величайшая ценность земли, во имя его и за него ведется борьба со „стоногой вошью”, с „быкомордой оравой”, с „многокамой мордой”, с массовым мировым мещанином, пачкающим имя человека. Рождение каждого человека — рождение мира, и каждый раз должна была бы знаменовать его новая вифлеемская звезда. Ибо — „если не человечьего рождения день, то чорта ль, звезда, тогда ещё праздновать?!” Прекрасно; но всё-таки — что ценно в человеке этом и за человеком? Духовное творчество? Или, быть может, внешняя физическая сила и красота? Сократ или Милон Кротонский? Аполлон, Дионис — или Геракл аттической комедии?
Футуризм с самого начала склонен был восторгаться идеалом „blondae bestiae”, восхищаться собою, как его предтечей, провозвестником, апостолом.
Видеть в этом и только в этом идеал футуризма было бы, конечно, и односторонне и несправедливо. Но сами футуристы слишком черно подчёркивают начало внешнего творчества, говоря о творчестве внутреннем. Словами „простыми, как мычание” открывают они миру свои „новые души, гудящие, как фонарные дуги”. Они воспевают новое искусство, адище города, заводские трубы, и заявляют:
Каждый из них „держит в своей пятерне миров приводные ремни”; все они — „перья линяющих ангелов бросят любимым на шляпы, будут хвосты на боа обрубать у комет, ковыляющих в ширь”; они идут, „мир огромив мощью голоса”, они, крикогубые Заратустры. И —
Возможно. (Действительно: попробуйте доказать обратное!). И хотя поэт тут же зачисляет футуристов в цех деревообделочников („голов людских обделываем дубы!”), но, всё же, теперь несомненно: „от копоти в оспе” — это лишь для красного словца сказано, а в действительности „копоть” на лице этих “пролетариев духа”, очевидно, тоже духовная.
Но не в этом дело. Интереснее другое: какое внутреннее творчество стоит за этим внешним? То есть — снова прежний вопрос: что же такое для них грядущий в мир „человек”?
Культура, революция, мир, человек, Бог: каков на всё это последний ответ футуризма?
Мы найдём ответ в последнем произведении — «Мистерия-Буфф», „героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. 1918 год”. Оно пока подводит итоги всему творчеству этого поэта, самого талантливого и подлинного выразителя футуризма, а потому оно подводит итоги и всему литературному футуризму.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 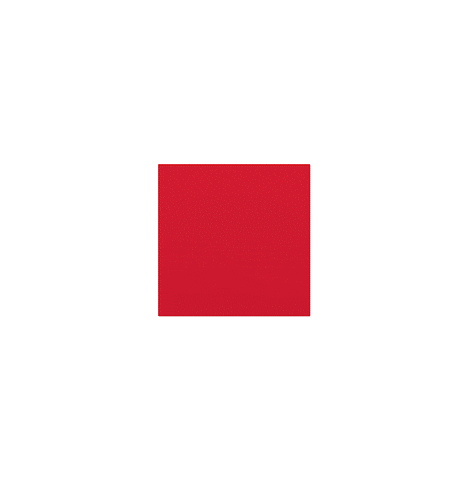 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||