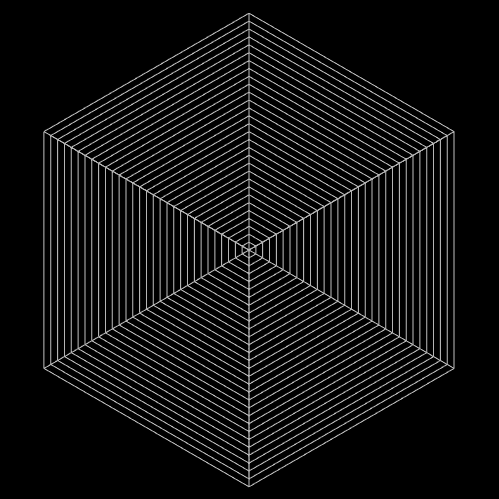Р.О. Якобсон
Новейшая русская поэзия.
Набросок первый: подступы к Хлебникову.
I
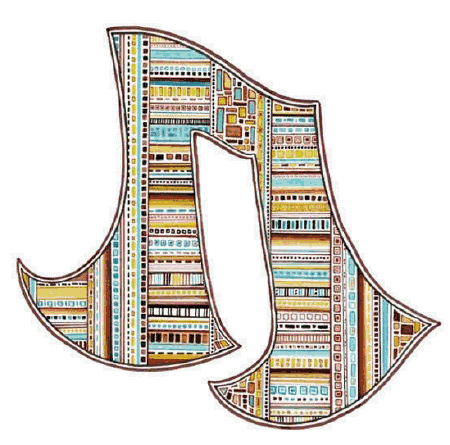
ингвистика давно не довольствуется изучением мёртвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. Документы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.
В силу этого всё с большей настоятельностью выдвигается изучение современных говоров. Диалектология становится главным импульсом раскрытия основных лингвистических законов, и лишь изучение процессов живой речи позволяет проникнуть в тайны окаменелой структуры языка былых периодов. Только по отношению к языку современному безусловно применим прием временного разреза, так называемый синхронический метод, дающий возможность отделить живые процессы от окаменелых форм, продуктивные системы от “лингвистической пыли” (термин Ф. де Соссюра), дающий возможность усмотреть не только выкристаллизовавшиеся лингвистические законы, но и намечающиеся тенденции.
Трактуя о языковых явлениях прошлого, трудно избегнуть схематизации и некоторого рода механизации. Сегодняшний уличный разговор понятней языка Стоглава не только обывателю, но и филологу. Точно так же стихи Пушкина, как поэтический факт, сейчас непонятней, невразумительней Маяковского или Хлебникова.
Каждый факт поэтического языка современности воспринимается нами в неизбежном сопоставлении с тремя моментами — наличной поэтической традицией, практическим языком настоящего и предстоящей данному проявлению поэтической задачей. Последний момент Хлебников характеризует так:
Когда я замечал, что старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них будущее становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова.II, 81
Если же мы оперируем с поэтами прошлого, эти три момента должны быть реставрированы, что удается лишь с трудом и отчасти.
В свое время стихи Пушкина были, по выражению современного ему журнала, “феноменом в истории русского языка и стихосложения”, и критик тогда ещё не задумывался о “мудрости Пушкина”, а вопрошал: „Зачем эти прекрасные стихи имеют смысл? Зачем они действуют не на один только слух наш?“
Ныне Пушкин — предмет домашнего обихода, кладезь домашней философии. Стихи Пушкина как стихи ныне явно принимаются на веру, окаменевают, став объектом культа. Недаром попались недавно на удочку такие пушкинисты, как Лернер и Щеголев, приняв за подлинное творение корифея ловкую подделку одного молодого поэта.
Пушкиноподобные стихи сейчас так же легко печатать, как фальшивые керенки: они лишены самостоятельной ценности и лишь имеют хождение взамен звонкой монеты.
Мы склонны говорить о легкости, незаметности техники как о характерной особенности Пушкина, и это ошибка перспективы. Для нас стих Пушкина — штамп; отсюда естественный вывод о простоте его. Совсем иное для пушкинских современников. Обратитесь к их отзывам, обратитесь к самому Пушкину. Например, для нас нецезурованный пятистопный ямб гладок и легок. Пушкин же ощущал его, т.е. ощущал как затрудненную форму, как дезорганизацию формы предшествовавшей:
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цензуру на второй стопе.
Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.
(«Домик в Коломне»)
Форма существует для нас лишь до тех пор, пока нам трудно её воспринять, пока мы ощущаем сопротивляемость материала, пока мы колеблемся: что это — проза или стихи, пока у нас „скулы болят“, как болели, по свидетельству Пушкина, скулы у генерала Ермолова при чтении стихов Грибоедова.
Между тем, наука и поныне трактует лишь о покойных поэтах, а если и коснется изредка живых, то лишь упокоившихся, вышедших в литературный тираж. То, что стало трюизмом в науке о практическом языке, до сих пор почитается ересью в науке о языке поэтическом, вообще плетущейся доселе в хвосте лингвистики. Исследователи поэзии прошлого обычно навязывают этому прошлому свои эстетические навыки, перебрасывают в прошлое текущие способы поэтического производства. Такова причина научной несостоятельности ритмики модернистов, вчитавших в Пушкина сегодняшнюю деформацию силлабо-тонического стиха. Прошлое рассматривается, мало того — расценивается, под углом зрения настоящего, но лишь тогда станет возможна научная поэтика когда она откажется от всякой оценки, ибо не абсурдно ли лингвисту, как таковому, расценивать наречия сообразно с их сравнительным достоинством. Развитие теории поэтического языка будет возможно лишь тогда, когда поэзия будет трактоваться как социальный факт, когда будет создана своего рода поэтическая диалектология.
С точки зрения последней, Пушкин есть центр поэтической культуры, определенного момента, с определенной зоной влияния. С этой точки зрения, поэтические диалекты одной зоны, тяготеющие к культурному центру другой, подобно говорам практического языка, можно подразделить: на диалекты переходные, усвоившие от центра тяготения ряд канонов, диалекты с намечающейся переходностью, усваивающие от центра тяготения известные поэтические тенденции, и смешанные диалекты, усваивающие отдельные инородные факты, приемы. Наконец, необходимо иметь в виду существование архаических диалектов с консервативной тенденцией, центры тяготения коих принадлежат прошлому.2
II
Хлебникова называют футуристом. Стихи его печатаются в футуристических сборниках. Футуризм есть новое движение в европейском искусстве. Я не дам здесь более точного определения этого термина. Оно может быть дано лишь индуктивно, путем анализа ряда сложных художественных явлений.
Всякая априорная формулировка грешит догматичностью, создает искусственное, преждевременное деление на футуризм подлинный, псевдофутуризм и т.п. Я не хочу повторять методологическую ошибку современников романтизма, из которых одни относят к нему, по словам Пушкина, все произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности, а иные называют романтизмом неологизм и ошибки грамматические.
Коснусь лишь одного признака, который некоторым оценщикам, привносящим в анализ поэтических фактов чуждые им моменты, кажется существенным для футуризма. Приведу несколько цитат из манифестов Маринетти:
Мы воспоем огромные толпы, движимые работой, удовольствием или бунтом; многоцветные и полифонические прибои революций в современных столицах; ночную вибрацию арсеналов и верфей, под их сильными электрическими лунами; прожорливые вокзалы, проглатывающие дымящихся змей; заводы, привешанные к облакам на канатах своего дыма; мосты, гимназическим прыжком бросившиеся на дьявольскую ножовую фабрику солнечных рек; авантюристические пакетботы, нюхающие горизонт; локомотивы с широкой грудью, которые топчутся на рельсах, как огромные стальные лошади, взнузданные длинными трубами; скользящий лет аэропланов, винт которых вьется, как хлопанье флагов, и аплодисменты толпы энтузиастов.
3
Новые факты, новые понятия вызывают в поэзии итальянских футуристов обновление средств, обновление художественной формы, так де возникает, например, parole in libertà. Это реформа в области репортажа, а не в области поэтического языка.
Замечу в скобках, что говорю в данном случае о Маринетти лишь как о теоретике. Для его поэзии всё это может оказаться лишь оправдательной мотивировкой, практическим применением поэтического факта. Подобными явлениями кишит история поэзии. Таковы пресловутые философские истолкования Гоголем своих произведений, таково заявление Радищева:
обвинили ‹...› стих „во свет рабства тьму претвори“: он очень туг, и труден на изречение, ради частого повторения буквы Т, и ради соития частого согласных букв “бства тьму претв””; на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на итальянском ‹...› Согласен ‹...› хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия ‹...›
4
Точно так же на суде хлыстовский пророк Варлаам Шишков переводил на русский язык свои языкоговорения.
Но обращаюсь опять к манифестам Маринетти:
Il nostro amore crescente per la materia, la volontà di penetrarla e di conoscere le sue vibrazioni, la simpatia fisica che ci lega ai motori, ci spingono all’
uso dеll’onomatopea ‹...›
Vi sono diversi tipi di onomatopee:
а)
Onomatopea diretta imitativa elementare realistica, che serve аd arricchire di realta brutale il lirismo, е gli impedisce di diventare troppo astratto о troppo
artistico. (Es.:
pic pac pum, fucileria.)
Nel mio «Contrabbando di Guerra», in
Zang tumb tumb, l’onomatopea stridente
ssiiiiii dá il fischio di un rimorchiatore sulla Mosa ed è seguita dall’onomatopea velata
ffiiiii ffiiiiiii, eco dell’alartra riva. Le due onomatopee mi hanno evitato di descrivere lа larghezza del fiume, che viene cosi definita dal contrasto dal due consonanti
s ed
f;
b)
Onomatopea indiretta complessa e analogical. Es.: nel mio poema
Dune, l’onomatopea
dum-dum dum-dum esprime il rumore rotativo del sole africano e il peso arancione del cielo, creando un rapporto tra sensazioni di peso, calore, colore, odore e rumore ‹...›
с)
Onomatopea astratta, espressione rumorosa e incosciente dei moti più complessi e misteriosi della nostra sensibilità. (Es.: nel mio poema
Dune, l’onomatopea astratta
ran ran rаn non corrisponde а nessun rumore della natura о del macchinismo, ma esprime uno stato d’animio.)
d)
Accordo onomatopeico psichico cioè fusione di 2 о 3 onomatopee astrate.
5
Наша растущая любовь к материи, желание проникнуть в нее, познать её вибрации, физическое притяжение, которое мы испытываем к моторам, всё это принуждает нас к использованию ономатопеи ‹...›
Ономатопеи бывают разных типов:
а) Ономатопея прямая, подражательная, элементарная, реалистическая, служащая обогащению лиризма элементами грубой реальности, не позволяя ему стать слишком абстрактным или слишком артистичным (например: ник нак пум, перестрелка). В моей «Контрабанде войны» из «Занг тумб тумб» пронзительная ономатопея ссииииии передает свисток буксира на Мозеле, а за нею следует пропущенная ономатопея ффиииии ффиииииии, эхо с другого берега. Две ономатопеи позволили мне избежать описания ширины реки, которое получило свое определение путем контраста между двумя согласными с и ф.
b) Ономатопея косвенная, комплексная и по аналогии. Например: в моей поэме «Дюны» ономатопея дум-дум-дум-дум выражает мощный шум африканского солнца и ярко-оранжевую тяжесть неба, передавая тем самым взаимоотношения между ощущениями веса, жары, цвета, запаха и шума ‹...›
с) Ономатопея абстрактная — шумовое и бессознательное выражение сложных и таинственных движений нашей восприимчивости. (Например, в моей поэме «Дюны» абстрактная ономатопея ран ран ран не соответствует ни одному из звуков, существующих в природе или производимых механизмами, а выражает состояние души.)
d) Психический аккорд из нескольких ономатопей, то есть слияние двух или трех абстрактных ономатопей”.
итал., пер. Н.В. Котрелёва
И здесь решающим побудителем нововведения является стремление сообщить о новых фактах в мире физическом и психическом.
Совершенно иной тезис был выдвинут русским футуризмом:
Раз есть новая форма, следовательно, есть и новое содержание, форма, таким образом, обуславливает содержание.
Наше речетворчество ‹...› на всё бросает новый свет.
Не новые ‹...› объекты творчества определяют его истинную новизну.
Новый свет, бросаемый на старый мир, может дать самую причудливую игрую
Кручёных. Сборник «Трое»6
Здесь ясно осознана поэтическая задача, и именно русские футуристы являются основоположниками поэзии “самовитого, самоценного слова”, как канонизованного обнаженного материала. И уже не поражает, что поэмы Хлебникова имеют касательство то к середине каменного века, то к русско-японской войне, то к временам князя Владимира или к походу Аспаруха, то к мировому будущему.
Еще одна — последняя цитата из Маринетти (цитирую по переводу Шершеневича):
Лиризм ‹...› способность окрасить мир специальными красками нашего изменчивого я. Предположите, что один приятель, одаренный этой лирической способностью, находится в полосе интенсивной жизни (революция, война, кораблекрушение, землетрясение и т.д.) и сейчас же после этого приходит рассказать Вам свои
впечатления. Знаете ли, что сделает
совершенно инстинктивно Ваш приятель, начиная свой рассказ: он грубо разрушит синтаксис, остережется терять время на построение периодов, уничтожит пунктуацию и порядок прилагательных и бросит Вам наскоро в нервы все свои зрительные, слуховые и обонятельные ощущения по произволу их безумного галопа. Буйность пара-волнения взорвет трубу периода, клапан пунктуаций и прилагательных, обычно размечаемых с регулярностью болтов. Таким образом, у Вас будут пригоршни существенных слов, без всякого условного порядка, потому что Ваш приятель позаботится передать только все вибрации своего я ‹...›
7
Мы видим здесь культ чистейшего импрессионизма, своего рода — pendant “телеграфному стилю души”, о котором мечтал Петер Альтенберг.8 Т.е. мы имеем в данном случае дело не с поэтической, а с эмоциональной, аффективной языковой системой.
Т.е. мы имеем в данном случае дело не с поэтической, а с эмоциональной, аффективной языковой системой.
В нормальном практическом языковом мышлении, по формулировке Л.В. Щербы, „полученные ощущения и результат ассимиляции не различаются сознанием как два отдельных по времени момента, иначе говоря, мы не сознаем разницы между объективно данными ощущениями и результатом данного восприятия”.9
В языках эмоциональном и поэтическом языковые представления (как фонетические, так и семантические) сосредоточивают на себе большее внимание, связь между звуковой стороной и значением тесней, интимней, и язык в силу этого революционней, поскольку привычные ассоциации по смежности отходят на задний план. Ср., например, богатую фонетическими и словообразовательными изменениями жизнь слов-воззваний, а отсюда и личных имен вообще.
Но этим исчерпывается родство эмоционального и поэтического языков. Если в первом аффект диктует законы словесной массе, если именно “буйность пара-волнения взрывает трубу периода”, то поэзия, которая есть не что иное, как высказывание с установкой на выражение, управляется, так сказать, имманентными законами; функция коммуникативная, присущая как языку практическому, так и языку эмоциональному, здесь сводится к минимуму. Поэзия индифферентна в отношении к предмету высказывания, как обратно индифферентна, согласно формулировке Сарана,10 деловая, точней, предметная (sachliche), проза, например, в отношении ритма.
деловая, точней, предметная (sachliche), проза, например, в отношении ритма.
Конечно, поэзия может использовать методы эмоционального языка как родственного в своих собственных целях, и такое использование особенно характерно для начальных этапов развития той или иной поэтической школы, например, романтизма. Но не из Affektträger, согласно терминологии Шпербера,11 не из междометий и не из омеждомеченных слов истерического репортажа, декретируемого итальянскими футуристами, слагается поэтический язык.
не из междометий и не из омеждомеченных слов истерического репортажа, декретируемого итальянскими футуристами, слагается поэтический язык.
Если изобразительное искусство есть формовка самоценного материала наглядных представлений, если музыка есть формовка самоценного звукового материала, а хореография самоценного материала-жеста, то поэзия есть оформление самоценного, самовитого, как говорит Хлебников, слова.
Поэзия есть язык в его эстетической функции.
Таким образом, предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т.е. то, что делает данное произведение литературным произведением. Между тем, до сих пор историки литературы преимущественно уподоблялись полиции, которая, имея целью арестовать определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и всё, что находилось в квартире, а также случайно проходивших по улице мимо. Так и историкам литературы всё шло на потребу — быт, психология, политика, философия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти статьи отходят к соответствующим наукам — истории философии, истории культуры, психологии и т.д., и что последние могут естественно использовать и литературные памятники как дефектные, второсортные документы. Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать “прием” своим единственным “героем”. Далее основной вопрос — вопрос о применении, оправдании приема.
Мир эмоций, душевных переживаний — одно из привычнейших применений, точнее в данном случае оправданий, поэтического языка, это то складочное место, куда сваливается все, что не может быть оправдано; применено практически, что не может быть рационализовано.
Когда Маяковский говорит:
Я вам открою словами простыми, как мычание,
Наши новые души, гудящие, как фонарные дуги, —
(Трагедия «Владимир Маяковский»)
то поэтическим фактом являются “слова простые, как мычание”, а душа — факт вторичный, привходящий, притянутый.
Романтиков постоянно характеризуют как пионеров душевного мира, певцов душевных переживаний. Между тем современникам романтизм мыслился исключительно как обновление формы, как разгром классических единств. А показания современников — единственно ценные свидетельские показания:
Нужны ли воображению и чувству, законным судьям поэтического творения, математическое последствие и прямолинейная выставка в предметах, подлежащих их зрению? Нужно ли, чтоб мысли нумерованные следовали перед ними одна за другою, по очереди непрерывной для сложения итога полного и безошибочного? Кажется, довольно отмечать тысячи и сотни, а единицы подразумеваются. Путешественник, любуясь с высоты окрестною картиною, минует низменные промежутки и объемлет одни живописные выпуклости зрелища перед ним разбитого, живописец, изображая оную картину на холсте, следует тому же закону и, повинуясь действиям перспективы, переносит в свой список одно то, что выдается из общей массы. Байрон следовал этому соображению в повести своей. Из мира физического переходя в мир нравственный, он подвел к этому правилу и другое. Байрон более всех других в сочувствии с эпохою своею не мог не отразить в творениях своих и этой значительной приметы. Нельзя не согласиться, что в историческом отношении не успели бы мы пережить то, что пережили на своем веку, если происшествия современные развивались бы постепенно, как прежде, обтекая заведенный круг старого циферблата: ныне стрелка времени как-то перескакивает минуты и считает одними часами. в классической старине войска осаждали город десять лет, и песнопевцы в поэмах своих вели поденно военный журнал осады и деяний каждого воина в особенности; в новейшей эпохе, романтической, минуют крепости на военной дороге и прямо спешат к развязке, к результату войны; а поэты и того лучше; уже не поют ни осады, ни взятия городов. Вот одна из характеристических примет нашего времени: стремление к заключениям. Мы на письме и на деле перескакиваем союзные частицы скучных подробностей и порываемся к результатам, которых, будь сказано мимоходом, по-настоящему нет у нас, и поневоле прибегаем к галлицизму, потому что последствия, заключения, выводы, все неверно и неполно выражают понятие, присвоенное этому слову. Как в были, так и в сказке мы уже не приемлем младенца из купели и не провожаем его до поздней старости и, наконец, до гроба, со дня на день исправляя с ним рачительно ежедневные завтраки, обеды, полдники и ужины. Мы верим на слово автору, что герой его или героиня едят и пьют, как и мы, грешные, и требуем от него, чтоб нам выказывал их только в решительные минуты, а в прочем не хотим вмешиваться в домашние дела.
12
Единообразная отчетливость в делах и происшествиях, описываемых в поэмах, утомительные битвы, сумасбродная любовь, олицетворенные страсти, заводящие сердце человеческое, как часы, в условленное время, когда должно герою действовать, волшебство или сила свыше, которые появляются всегда, когда автору нужно выпутаться из какого-нибудь хитро сплетенного обстоятельства, все эти пружины слишком ослабли от излишнего употребления, и множество поэм находило весьма мало читателей. Не менее утомительными сделались эти вечные приступы к песням, эпизоды, подробные описания местоположений, родословных героев и эти вечные восклицания: “пою” или “призвание Музы”. Одним словом, люди требовали от поэм чего-то другого; чувствовали, что может быть что-нибудь лучше, сильнее, занимательнее — и ожидали ‹...› Байрон, чувствуя потребности своего века, заговорил языком, близким к сердцу сынов девятнадцатого столетия ‹...› Постигая совершенно потребности своих современников, он создал новый язык для выражения новых форм. Методическое, подробное описание, все предварительности объяснения, введения, изыскания аb ovo — отброшены Байроном. Он стал рассказывать с середины происшествий или с конца, не заботясь вовсе о спаянии частей. Поэмы его созданы из отрывков ‹...›
13
Итак, несомненно, определенный литературный прием был оправдан логически — привлечением мятущейся титанической души, своевольного воображения.
В эмбриональном виде мы находим тот же прием у сентименталистов, осмысленный, например, так называемым сентиментальным путешествием. Точно так же натурфилософские, мистические элементы романтического художественного credo — лишь оправдание иррационального поэтического построения. Сюда же и сны, бред и другие патологические явления, как поэтический мотив. Характерная иллюстрация того же типа — символизм.
Возьмем прибауточку типа: “Шел я, стоит избушка, зашел, квашня женщину месит, я и усмехнул, а квашне не понравилось, она хватит печь из лопаты, хотела ударить; я через штаны скочил, да и порог вырвал, да и убежал”14 — и сравним её с отрывком из Гоголя:
— и сравним её с отрывком из Гоголя:
Все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и всё перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось; на самой реснице его глаз. И всё это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки.
“Невский проспект”
Прием, оправданный в прибауточке юмористическим применением, у Гоголя осмыслен аффектом.
У Хлебникова, в поэме «Журавль», мальчик видит, как заплясали трубы фабрик, как происходит восстание вещей:
На площади в влагу входящего угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей,
Там мальчик в ужасе шептал: „Ей-ей!
Смотри, закачались в хмеле трубы-те!”
Бледнели в ужасе заики губы,
И взор прикован к высоте.
Что? Мальчик бредит наяву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит: какие страшные скачки!
Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи ‹...›
(I, 76)
Здесь мы имеем реализацию того же тропа, проекцию литературного приема в художественную реальность, превращение поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное построение. Но здесь это построение всё ещё частично логически оправдано при помощи патологии.
Однако в другой поэме Хлебникова, «Маркиза Дезес», нет уже и этой мотивировки. На выставке оживают картины. Затем оживают прочие вещи, а люди каменеют.
Но почему улыбка с скромностью ученицы готова ответить: я из камня и голубая-с.
Но почему так беспощадно и без надежды
Упали с вдруг оснегизненных тел одежды!
Сердце, которому были доступны все чувства длины,
Вдруг стало ком безумной глины!
Смеясь, урча и гогоча,
Тварь восстает на богача.
Под тенью незримой Пугача
Они рабов зажгли мятеж.
И кто их жертвы? Мы те же люди, те ж!
Синие и красно-зеленые куры
Сходят с шляп и клюют изделье немчуры,
Червонные заплаты зубов,
Стоящих, как выходцы гробов.
Вон, скаля зубы и перегоняя, скачет горностаев снежная чета,
Покинув плечи, и ярко-сини кочета.
Там колосится пышным снопом рожь
И лица людей передают ей дрожь.
Щегленок вьет гнездо в чьем-то изумленном рте.
И всё приблизилось к таинственной черте.
(IV, 234)
Аналогичная реакция приема и обнажение его от всякой логической мотивировки в «Трагедии» Маяковского ( — литературное чудо).
И вдруг
Все вещи
Кинулись,
Раздирая голос,
Скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
Как по пальцу сатаны,
Сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
Сбежали штаны
И пошли —
Одни —
Без человечьих ляжек!
Пьяный —
Разинув черную пасть —
Вывалился из спальни комод:
Корсеты слезали,
Боясь упасть,
Из вывесок «Robes et modes».
Город дает благодарный фактический материал для заполнения прибакулочной схемы и сродных ей, что очевидно из приведенных примеров Гоголя, Маяковского и Хлебникова. Ряд поэтических приемов находит себе применение в урбанизме. Отсюда урбанистические стихи Маяковского и Хлебникова.
А рядом у Маяковского: „Бросьте города, глупые люди” («Любовь», 1913).
Или у Хлебникова:
Есть некий лакомка и толстяк, который любит протыкать вертелом именно человеческие души, слегка наслаждается шипеньем и треском, видя блестящие капли, падающие в огонь, стекающие вниз, и этот толстяк — город.
IV, 211
Что это — логическое противоречие?
Но пусть другие навязывают поэту мысли, высказанные в его произведениях! Инкриминировать поэту идеи, чувствования так же абсурдно, как поведение средневековой публики, избивавшей актера, игравшего Иуду, так же нелепо, как обвинять Пушкина в убийстве Ленского.
Почему за поединок мыслей поэт ответственней, чем за поединок мечей или пистолетов?
Притом надо заметить, что мы по преимуществу оперируем в художественном произведении не с мыслью, а с языковыми фактами. Здесь ещё не место детально останавливаться на этом большом и трудном вопросе. Приведу лишь в виде иллюстрации примеры формального параллелизма, не сопровождающегося параллелизмом семантическим.
Не по небу тучки ходят,
По небесной высоте,
Не по девке парни сохнут,
По девичьей красоте.
(Частушка)
Не трубонька трубит рано no yтpy,
Поликсена плачет рано по косе
(Свадебная песня)
Боянъ ‹...› растекашеся мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.
(«Слово о полку Игореве»)
Купец спросил у матроса: как умер твой отец? — Погиб на море. — А дед? — Тоже. — Как же ты решаешься ездить по морю? — А как умер твой отец? — На собственной кровати. — А дед? — Тоже. — Как же ты решаешься ложиться спать в постели?
(Нравоучительный рассказ)
Все эти примеры характеризуются прежде всего тем, что здесь тождественные падежные формы употреблены в различных значениях. Так, в последнем рассказе “на море” имеет не только локативное значение, как “на кровати”, но и каузативный оттенок, что не мешает формальным тожеством обосновывать мораль.
Так, часто теоретизирования поэтов обнаруживают логическую несостоятельность, ибо являют собой незаконное перенесение, подмен логического хода словесной плетенкою из поэзии в науку, философию.
Излюбленный мотив поэзии Хлебникова — метаморфоза, например:
Были наполнены звуком трущобы,
Лес и звенел и стонал,
Чтобы
Зверя охотник копьем доконал.
Олень, олень, зачем он тяжко
В рогах глагол любви несет?
Стрелы вспорхнула медь на ляжку,
И не ошибочен расчет.
Сейчас он сломит ноги о земь
И смерть увидит прозорливо,
И кони скачут говорливо:
“Нет, не напрасно стройных возим”.
Напрасно прелестью движений
И красотой немного девьего лица
Избегнуть ты стремился поражений,
Копьем искавших беглеца.
Все ближе конское дыханье,
И ниже рог твоих висенье,
И чаще лука трепыханье,
Оленю нету, нет спасенья.
Но вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать.
Без несогласья и без крика
Они легли в свои гробы,
Он же стоял с осанкою владыки —
Были созерцаемы поникшие рабы.
(Изборник, «Трущобы», II, 34)
Мы характеризовали выше метаморфозу как реализацию словесного построения; обычно эта реализация-развертывание во времени обращенного параллелизма (в частности, антитезы). Если отрицательный параллелизм отвергает ряд метафорический во имя ряда реального, то обращенный параллелизм отрицает реальный ряд во имя ряда метафорического, например:
Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо…
Гоголь. Страшная месть
Вы думаете —
Это солнце нежненько
Треплет по щечке кафе.
Это опять расстрелять мятежников
Грядет генерал Галифэ.
Маяковский. Облако в штанах
Образцами обращенного параллелизма богата, между прочим, эротическая поэзия.
Предположим: нам дан реальный образ-голова, метафора к нему — пивной котел. Тогда отрицательным параллелизмом будет: “Это не пивной котел, а голова”. Логизация параллелизма — сравнение: “Голова, как пивной котел”. Обращенный параллелизм: “Не голова, а пивной котел”. и наконец, развертывание во времени обращенного параллелизма — метаморфоза: “Голова стала пивным котлом (“голова уже — не голова, а пивной котел”).
В хлебниковском «Чёртике» мы как бы присутствуем при самом процессе реализации словесного построения:
Сиделец (с кружкой в руке)
Напиток охотно подам,
Пришедшим ко мне господам.
Края пенного стакана широки и облы,
О, не хотите ли, сфинксы, кусочка воблы?
Пиво взойдет до Овна и до Рака, —
О, не угодно ли, сфинксы, рака?
Пиво не дороже копеек пяти,
Взметнет до Млечного Пути.
В моем стакане звездная пена,
В обширном небе узнать поднос с пивной закуской —
Обычай ново-русский!
Стакан пива принимает размеры вселенной
‹...› (IV, 223 сл.)
Самый процесс реализации обращенного параллелизма как сюжетное построение встречаем в “Записках сумасшедшего” Гоголя, а также в сологубовском рассказе «В плену».
Пример реализации прямого отрицательного параллелизма:
Он увидел на Маринкином тереми,
А сидят туто голуб со голубкою,
Да носок к носку, сидя, ликуются
А правильныма крылами обнимаются.
Разгорелось у Добрыни ретиво сердце,
А натягал ли Добрынюшка свой тугой лук,
И да накладал ли Добрыня калену стрелу,
Да стрелял он тут во голуба с голубкою,
Не попал тут он во голуба с голубкою,
А попал он ко Маринки во высок терем,
Да во то ли то в окошечко косящато.
А разбил у ней околенку стекольчату,
А сломил у ней прицеленку серебряну,
А убил он у Маринки дружка милого,
А и младого Тугарина Змиевича.
15 
Здесь реализована следующего типа формула: Голубь с голубкою милуются, Добрыня стрелял во голубя с голубкою: не два голубя милуются, не стрелял он во голубя с голубкою, а стрелял к Маринке во высок терем — убил у Маринки дружка милого.
Пример реализации сравнения — в пьесе Хлебникова «Ошибка смерти». Барышня смерть говорит, что у нее голова пустая, как стакан. Гость требует стакан. Смерть отвинчивает голову (IV, 251 сл.).
Пример реализации обоих членов параллелизма, но не во временной последовательности, а в порядке сосуществования:
С бритым, худым лицом и в длинных волосах пробегает ученый и кричит, разрывая на себе волосы: „Ужас, я взял кусочек ткани, растения, самого обыкновенного растения, и вдруг под вооруженным глазом он, изменив злым умыслом свои очертания, стал Волынским переулком с выходящими и входящими людьми, с полузавешенными занавесями окнами, с читающими и просто сидящими друг за другом усталыми людьми, и я не знаю, куда мне идти, — в кусочек растения под увеличительное стекло, или в Волынский переулок, где я живу. Так не один и тот же там и здесь, под увеличительным стеклом, в куске растения и вечернем дворе”.
«Чёртик», IV, 200
Реализация метафоры:
Большому и грязному человеку
Подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
Не знал,
Что с ними делать,
Куда их деть.
Город,
Весь в празднике,
Возносил в соборах аллилуя,
Люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно,
И в подошвах дырочек овальцы,
Он выбрал поцелуй,
Который побольше,
И надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
Укусил его за пальцы. “Что же, —
Рассердился человек, —
Я эти ненужные поцелуи брошу”.
Бросил.
И вдруг
У поцелуя выросли ушки,
Он стал вертеться,
Тоненьким голосочком крикнул:
“Мамочку”
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
Понес домой,
Чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(Искал рамочку).
Оглянулся —
Поцелуй лежит на диване,
Громадный,
Жирный,
Вырос,
Смеется,
Бесится.
(Трагедия «Владимир Маяковский». )
Подобный прием, юмористически примененный, был когда-то использован «Сатириконом»: как дети понимают язык взрослых. Та же мотивировка на протяжении повести Белого «Котик Летаев». Ср. также реализацию метафоры в живописных иллюстрациях, напр., в византийской миниатюре.
Реализация гиперболы:
Я летел, как ругань.
Другая нога
Еще добегает в соседней улице.
16 (Трагедия «Владимир Маяковский». )
(Трагедия «Владимир Маяковский». )
Ясно обнаруживает свою словесную природу реализованный оксюморон, ибо, имея значение, он, по определению современной философии, не имеет своего предмета (как, например, “квадратный круг”). Таков гoголевский «Нос», который Ковалев признает за нос, в то время как он подергивает плечами, вполне обмундирован и т.п.
Точно так же в свадебной народной песне “п-а выскочила, глаза вытращила”.
Ср. также житийное чудо в «Братьях Карамазовых» (юмористически примененное):
Святого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и любезно её лобызаше ‹...›
Здесь человек — традиционная семантическая единица, сохраняющая все свои свойства, т.е. окаменевшая.
Упразднение границы между реальными и фигуральными значениями — характерное явление поэтического языка. Часто поэзия оперирует с реальными образами, как со словесными фигурами (прием обратной реализации) — таковы, напр., каламбуры.
1) Беседа болящего маркиза с духовным отцом иезуитом (Достоевский, «Братья Карамазовы»):
„Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом”. — „Отец святой… я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте”. — „Сын мой… если вы вопиете… что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым всё же как бы остались с носом…”
2)
Она [Анна Каренина] привезла с собою тень Вронского, — сказала жена посланника. — Да что же? у Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказание за что-то. Я никак не мог понять, в чем наказание. Но женщине, должно быть, неприятно без тени. — Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают…
Л. Толстой
На обращении в троп реальных образов, на их метафоризации основан символизм, как поэтическая школа.
В науку о живописи просачивается представление о пространстве как живописной условности, об идеографическом времени. Но науке ещё чужд вопрос о времени и пространстве как формах поэтического языка. Насилие языка над литературным пространством особенно отчетливо на примере описаний, где пространственно сосуществующие части выстраиваются во временной последовательности. Лессинг на основании этого даже отводит описательную поэзию или же реализует приведенное языковое насилие, мотивируя сказовую временную последовательность действительной временной последовательностью, т.е. описывая вещь по мере того, как она созидается, костюм по мере того, как он надевается, и т.п.
Что касается литературного времени, то широкое поле для исследования представляет прием временного сдвига. Я уже приводил выше слова критика: “Байрон стал рассказывать с середины происшествия или с конца”. Или ср., напр., «Смерть Ивана Ильича», где развязка дана до самого рассказа. Ср. «Обломов», где временной сдвиг оправдан сном героя, и т.п. Есть особый разряд читателей, которые навязывают этот прием всякому литературному произведению, начиная чтение с развязки. Как лабораторный прием мы находим временной сдвиг у Эдгара По в «Вороне», который лишь по окончании был как бы вывернут наизнанку.
У Хлебникова наблюдаем реализацию временного сдвига, притом обнаженного, т.е. немотивированного.
МИРСКÓНЦА
I
Поля: Подумай только: меня, человека уже лет 70, положить, связать и спеленать, посыпать молью. Да кукла я, что ли?
Оля: Бог с тобой! Какая кукла!
Поля: Лошади в черных простынях, глаза грустные, уши убогие. Телега медленно движется, вся белая, а я в ней, точно овощ: лежи и молчи, вытянув ноги, да посматривай за знакомыми, считай число зевков у родных и на подушке незабудки из глины, шныряют прохожие. Естественно, я вскочил, — Бог с ними со всеми! — сел прямо на извозчика и полетел сюда без шляпы и без шубы, а они: „лови! лови”!
Оля: Так и уехал. Нет, ты посмотри, какой ты молодец! Орел, право, орел!
Поля: Нет, ты меня успокой, да спрячь вот сюда в шкаф. Вот эти платья, мы их вынем, зачем им здесь висеть? Вот его я надел, когда я был произведен, — гм! гм! дай ему царство небесное, — при Егоре Егоровиче в статские советники, то надел его и в нем представлялся начальству, вот и от звезды помятое на сукне место, хорошее суконце, таких теперь не найдешь, а это от гражданской шашки место осталось, такой славный человек тогда ещё на Морской портной был, славный портной. Ах, моль! Вот завелась, лови ее! (Ловят, подпрыгивая и хлопал руками…) Ах, озорная! (Оба ловят ее.) Все, бывало, говорил: “Я вам здесь кошелек пришью из самого крепкого холста, никогда не разорвется, а вы мой наполните, дай Бог ему разорваться!” Моль! а это венчальный убор, помнишь, голубушка, Воздвиженье? Так мы это всё это махоркой посыплем и этой дрянью, что пахнет и плакать хочется от нее, и в сундук положим, запрем, знаешь, покрепче и замок такой повесим хороший, большой замок, а сюда, знаешь, подушек побольше, дай периновых — устал я, знаешь, сильно, — чтобы соснуть можно было, что-то на сердце тревожно: знаешь, такие кошки приходят и когти опускают на сердце, сама видишь — всё неприятности — коляска, цветы, родные, певчие — знаешь, как это тяжело! (Хнычет.) Так, если придут, скажи: не заходил и ворон костей не заносил, и что не мог даже никак прийти, потому что врач уже сказал, что умер, и бумажку эту, знаешь, сунь им в самое лицо и скажи, что на кладбище даже увезли проклятые и что ты ни при чем и сама рада, что увезли, бумага здесь главное, они, знаешь, того, перед бумагой и спасуют, а я… того (улыбается), сосну.
Оля: Родной мой, заплаканы глазки твои, обидели тебя, дай я слезки твои этим платочком утру ‹...›
II
Старая усадьба. Столетние ели, березы, пруд. Индюшки, куры. Они идут вдвоем.
Поля: Как хорошо, что мы уехали! до чего дожили: в своем дому пришлось прятаться… Послушай, ты не красишь своих волос?
Оля: Зачем? а ты?
Поля: Совсем нет, а помнится мне, они были седыми, а теперь точно стали черными.
Оля: Вот, слово в слово. Ведь ты стал черноусым, тебе точно лет 40 сбросили, а щеки как в сказках: молоко и кровь. А глаза-глаза чисто огонь, право! Ты писаный красавец, как говорили деды в песнях старых! Что за притча такая?
Поля: Ты видишь, кстати, наш сосед приехал к нам и об естественном беседует подборе с Надюшей. Смотри да замечай: не быть бы худу.
Оля: Да, да и я приметила. А Павлик бьет баклуши, пора учиться отдавать.
Поля: К товарищам: пускай собьют толчками и щипками пух нежный детства. Не дай Бог, чтоб вырос маменькин сынок.
Оля: Ну уж, пожалуйста! Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных, тогда он вырос и конский колыхался хвост, над медной каской, и хмурые глаза смотрели на воина лице угрюмом, блестя огнем печально дорогим, а теперь пух черный на губе, едва-едва он выступает, как соль сквозь глину, — опасная пора: чуть-чуть не доглядишь, и кончено! ‹...›
III
Лодка, река. Он вольноопределяющийся.
Поля: Мы только нежные друзья и робкие искатели соседств себе, и жемчуга ловцы мы в море взора, мы нежные, и лодка плывет, бросив тень на теченье; мы, наклоняясь над краем, лица увидим свои в веселых речных облаках, пойманных неводом вод, упавших с далеких небес; и шепчет нам полдень: “О, дети! Мы, мы — свежесть полночи”. IV
С связкой книг проходит Оля и навстречу идет Поля, он подымается на лестницу и произносит молитву.
Оля: Греческий?
Поля: Грек.
Оля: А у нас русский ‹...› V
Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.
IV, 239 сл.
Ср. кинематографический фильм, обратно пущенный.17 Но здесь построение осложнено тем, что в прошлое, как пережитое, отнесены и реальное прошлое, и реальное будущее. (С одной стороны — Давно ли мы, а там они…, с другой — Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных, тогда он вырос…) Часто в литературе подобная проекция будущего в прошлое мотивируется предсказанием, вещим сном и т.п.
Но здесь построение осложнено тем, что в прошлое, как пережитое, отнесены и реальное прошлое, и реальное будущее. (С одной стороны — Давно ли мы, а там они…, с другой — Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных, тогда он вырос…) Часто в литературе подобная проекция будущего в прошлое мотивируется предсказанием, вещим сном и т.п.
Другой тип временного сдвига — анахронизм — неоднократен у Хлебникова. Такова, например, «Училица» (IV, 22 сл.), где героиня — курсистка-бестужевка, а герой — боярский сын Володимерко. Такова «Внучка Малуши» (II, 63 сл.), напоминающая стихи А.К. Толстого о Потоке-богатыре, с той лишь разницей, что временной сдвиг здесь не оправдан логически (см. ниже о неоправданных сравнениях).
В рассказе «Kа» сплетен ряд хронологических моментов:
Ему нет застав во времени. Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной?
IV, 47
Есть у Хлебникова произведения, написанные по методу свободного нанизывания разнообразных мотивов. Таков «Чёртик» (IV, 200 сл.) таковы, пожалуй, «Дети Выдры» (II, 42 сл.). (Свободно нанизываемые мотивы не вытекают один из другого с логической необходимостью, но сочетаются по принципу формального сходства либо контраста; ср. «Декамерон», где новеллы дня объединены тожественным сюжетным заданием.) Этот прием освящен многовековой давностью, но для Хлебникова характерна его обнаженность — отсутствие оправдательной проволоки.
Мы всячески подчеркивали одну типично хлебниковскую черту — обнажение приема. Приведу ещё несколько примеров обнажения сюжетного каркаса.
1. Смугол, темен и изящен,
Не от тебя ли, незнакомец, вчера
С криком — “Маменьки! Он страшен!” —
Разбежалась детвора?
Ты подошел, где девица: “Позвольте представиться!”
Взял труд поклониться
И намекнул с смешком: “Красавица!”
Она же, играя печаткой,
Тебя вдруг спросила лукаво:
“О, сударь с красною перчаткой,
О вас дурная очень слава?”
„Я не знахарь, не кудесник.
Верить можно ли молве?
Знайте, дева, я ровесник”.
Она же: “Извините!
Задумчивый какой!”
Летят паучьи нити
На синий водопой.
Пошли по тропке двое,
И взята ими лодка.
И вскоре дно морское
Уста целовало красотке.
(II, 28)
Сюжет, немало трактовавшийся в мировой литературе, но у Хлебникова сохранивший только схему: герой знакомится с героиней; она гибнет.
2. В поэме «И и Э» (I, 83 сл.) основные мотивы — крестного пути, подвига, воздаяния — остаются исключительно необоснованными.
Если вспомним развитие действия в произведениях поэтов прошлого, то и там осмысление сюжетного действия часто оказывается привходящим, эфемерным, как это было, напр., блестяще вскрыто Писаревым по отношению к ссоре Онегина с Ленским и другим эпизодам Онегина или Толстым применительно к трагедиям Шекспира, но призрак, видимость мотивировки там всё же были налицо.
Так называемый “прием ложного узнавания” был канонизован уже в классической поэтике. (Ср., напр., Аристотель. «Об искусстве поэзии», глава XVI.) Но он постоянно снабжался мотивировкой, у Хлебникова этот прием дан в чистом виде:
‹...›
жрец смотрит глазами безумными и печальными и тихо идет, потупя бороду, к пришельцу.
Тот смотрит загадочно-открыто, и жрец наклоняется к нему шептать тайну, и вдруг, расхохотавшись, касается его уст своими. Но тот смеется. Жрец падает, откидываясь назад, на руки прислужников, и умирает. Но нет, этого ещё нет. Это ещё только наше воображение. Ещё только отошел от кумира жрец и идет мимо неподвижно стоящих девушек с плащами на голове. К спокойно стоящему Девьему богу идет он. И что будет? Дальше что? Несет он с потупленными глазами смерть и, бледный и смеющийся, будет, сражаясь, падать, встретив лобзание, или бежать. Но бежать он мог бы и раньше. Но у него нет оружия.
Да, мы видим, твоя близка казнь, и правит гончих твоя спутница! Медленно движется жрец, задерживаемый какой-то силой.
Но уже приходят цари, и уже бегут убийцы.18 «Девий бог», IV, 193
«Девий бог», IV, 193
III
Значительная часть творений Хлебникова написана на языке, для которого отправной точкой послужил язык разговорный. Так, о своих стихах Малларме говорил, что он преподносит буржуазному читателю слова, которые тот ежедневно встречает в своей газете, но только преподносит эти самые слова в сочетании ошеломляющем.
Лишь на фоне знакомого постигается, поражает незнакомое. Наступает момент, когда традиционный поэтический язык застывает, перестает ощущаться, начинает переживаться, как обряд, как священный текст, самые описки коего мыслятся священными. Язык поэзии покрывается олифой — ни тропы, ни поэтические вольности больше ничего не говорят сознанию.
Так, во времена Пушкина уже не переживался дерзостный ломоносовский троп:
Брега Невы руками плещут,
Брега Балтийских вод трепещут.
Форма овладевает материалом, материал всецело покрывается формой, форма становится шаблоном, мрет. Необходим приток нового материала, свежих элементов языка практического, чтобы иррациональные поэтические построения вновь радовали, вновь пугали, вновь задевали за живое.
От Симеона Полоцкого через Ломоносова Державина, Пушкина, далее Некрасова, Маяковского русская поэзия идет по пути усвоения всё новых и новых элементов живой речи.
Недаром так ужасали критиков в Пушкине: “Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед”; “На красных лапках гусь тяжелый…”; “Морозной пылью серебрится eгo бобровый воротник”.
Уже не воспринимая эффектных гипербол, мы скользим глазами по для нас благозвучным, легким стихам «Полтавы»:
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Брюсов противопоставлял трезвость этих стихов пьяной поэтике раннего модернизма, а современник вопил:
Если кавалерия своя и неприятельская рубятся между собою, то ядра не могут между [ними] прыгать и разить, потому что в толпу неприятеля, смешанного с своими, стрелять не станут. Ядра могут шипеть в крови, когда они раскалены, но раскаленными ядрами не стреляют.
19
Мы говорим о гармоничном сочетании слов у Пушкина, а современник находил, что слова у него визжат и воют от нежданного соседства.
Умирание художественной формы присуще не одной поэзии. Аналогичные факты приводит Ганслик из области музыки:
Сколько, — говорит он, — есть пьес Моцарта, в свое время признанных последним словом страстности, огненности и смелости ‹...› Чувству покоя и чистого наслаждения бытием, будто бы лившемуся из Гайдновых симфоний, противопоставляли взрывы жгучей страсти, суровой борьбы, горькой и едкой боли в музыке Моцарта. Лет двадцать, тридцать спустя точно так же решали вопрос между Бетховеном и Моцартом. Место Моцарта как представителя порывистой, увлекающей страстности занял Бетховен, а Моцарт подвинулся в производстве до олимпийской классичности Гайдна ‹...› Знаменитая аксиома, будто бы “истинно-прекрасное” (а кто в этом качестве судья?) никогда, даже через самое долгое время не теряет своей прелести, относительно музыки давно уже стала только звонкой фразой. Музыка подобна природе, которая каждой осенью проедает тлению целый мир цветов, из них же затем возникают новые. Всякое музыкальное сочинение есть дело человеческое, продукт определенной индивидуальности, времени, культуры и потому всегда содержит элементы более быстрой или более медленной смертности… Законное влечение к музыкальным новинкам ощущают и публика, и артисты. Критика, умеющая преклоняться перед старым и не имеющая духа признать новое, убивает производительность.
20
Такой новобоязнью в России в настоящее время страдает особенно символистская литературная критика. “Надо оценивать лирику только после того, как жизненный путь поэта кончился”, — говорят символисты.21
Трудно оценивать и судить писателя, круг деятельности которого ещё не завершен. Мы совершенно иначе относимся к Вертеру, чем те, кто были современниками его первого появления, и не знали, что Гете напишет две части «Фауста» и «Западно-восточный Диван».22
Отсюда естественный вывод, что картину можно рассматривать только в музее, только покрытую плесенью веков. Отсюда естественно возникает требование консервировать язык поэтов прошлого, навязать как норму их словарь, синтаксис, семантику.
Поэзия пользуется “необычными словами”. Необычна, в частности, глосса (Аристотель). Сюда относится и архаизм, и варваризм, и провинциализм. Но символисты забывают ясное Аристотелю: “Одно и то же имя может быть и глоссой, и общеупотребительным, но не у одних и тех людей”23 — они забывают, что глосса Пушкина в поэтическом языке современности уже не глосса, а стереотип. Так, Вяч. Иванов доходит до того, что рекомендует молодым поэтам стараться употреблять по преимуществу пушкинские слова: если слово есть у Пушкина, это критерий его поэтичности.
— они забывают, что глосса Пушкина в поэтическом языке современности уже не глосса, а стереотип. Так, Вяч. Иванов доходит до того, что рекомендует молодым поэтам стараться употреблять по преимуществу пушкинские слова: если слово есть у Пушкина, это критерий его поэтичности.
Пример поэтического оформления нового практического материала:
На днях я плясал.
На этой неделе. Какого дня?
Среда, четверг или воскресенье?
В сидячей жизни это спасенье.
Знакомые, приятели, родня.
Устал. Вспотел. Уж отхожу.
Как вдруг какой-то воин: “Постричься вам пора-с!”
Сказал и ныр в толпу. Я думал: вот те раз.
Я уже послать ему собрался вызов.
Но не нашел в толпе нахала.
Кроме того, здесь нужно было перейти какую-то межу.
Я в созерцание ушел чьего-то опахала
Из перышек голубеньких и сизых.
Наука-то больно проста: сначала “милостивый государь”,
А потом свинцом возьми, да и ударь.
Да… а потом, глядишь, и парня
Несут кромсать в трупарню.
Делкин: Ха-ха. Куда он гнет! Забавник! и не моргнет!
Перховский: Ну, я не трушу.
Это и не странно. Лицом имея грушу ‹...›
(«Маркиза Дезес», IV, 225)
Подобные стихи Хлебникова поэтом Гумилевым были восприняты как юмористические.24 Оправдание юмористикой, смешливое отношение может быть навязано читателем произведению, но часто новый художественный прием уже подается оправданным юмористически.
Оправдание юмористикой, смешливое отношение может быть навязано читателем произведению, но часто новый художественный прием уже подается оправданным юмористически.
IV
Синтаксис Хлебникова (отдельные замечания). Порядок слов почти не является в русском языке носителем формального значения. Несколько иначе обстоит дело в поэзии, где деформирована интонация практической речи. По сравнению с практическим языком в поэзии Пушкинской школы наблюдается резкий синтаксический сдвиги с широкой ритмической реформой Маяковского — то же явление. Что касается поэзии Хлебникова, то она в этом отношении малохарактерна.
Синтаксис Хлебникова характеризуется широким использованием ляпсуса, оговорки. Такова синтаксическая метатеза: обвита страусом пера: согнувшись в пламени святыни (II, 196).
“О, пощади меня, панич!”
Но тот: “Не может, говорю”.
(II, 192)
Чьи взоры и губы истом не те.
(II, 248)
Очнулся я иначе вновь,
Окинув вас воина оком.
(II, 96; II, 258)
(вместо — очнувшись, окинул.)
Примеры контаминации:
Ворча, реветь умолкнут пушки.
(I, 135)
Она дразня пьет сок березы,
А у овцы же блещут слезы.
(I, 122)
Анаколуф:
Серной вспрыгнув на утес,
Ты грозишь, чтоб одинок
Стал утес ‹...›
(I, 87)
Особенности в согласовании чисел:
Исчезли труд, исчезло дело.
(I, 122)
Синий лен сплести хотят
Стрекоз реющее стадо.
(I, 124)
Малую Медведицу повелел
Оставить от ног подошвы.
(II, 244)
Εναλλαγή :
Алчак хранит святую тайну
Ее ужасного конца.
(II, 53)
(Свято хранит тайну).
Особенности в согласовании падежей:
По лесу виден смутный муж.
(II, 54)
И в ответ на просьбу к гонкам.
(II, 51)
За гриву густую зверя
Впились, веря, ручки туже.
(II, 72)
Я учусь словесо.
(II, 271)
Они кажутся засохшее дерево.
Они прослыли голубки.
(I, 137)
Широко использованным творительным ограничения устраняется механическое примыкание, выдвигается грамматический субъект. Такое применение вызвано, главным образом, разрушением практической интонации, в результате чего примыкающее дополнение как бы виснет в воздухе, подобно тому, как в примере из переводного романа, приводимом Чуковским, “он шел с глазами, опущенными в землю, и с руками, сложенными на груди”,25 неизвестно, к подлежащему или сказуемому относятся дополнения
неизвестно, к подлежащему или сказуемому относятся дополнения
Устами белый балагур.
(II, 69)
Глазами бледными лукав.
(II, 80)
Кто-то чернильницей взглядов недобрый.
(II,252)
Холодной стала взором темь.
Серьгою воздушная ольха.
Я рогат, стоящий вышками,
Я космат, висячий мышками.
(IV, 228)
Косою черная.
(I, 123)
Ведунья взорами прелестная.
(II, 196)
Погонщик скота Твердислав
Губами стоит моложав.
(II, 24)
И лицом прекрасным смугол
Бог блистает серебром.
(IV, 197–198)
Стояла неги дщерь,
Плеч слабая стеной.
(II, 57)
Концами крыла голубой.
(I, 88)
Хребтом прекрасная сидит.
(I,126)
Ср. у Маяковского:
Все эти провалившиеся носами знают ‹...›
Где мордой перекошенный, размалеванный сажей
На царство базаров коронован шум.
Нарушение синтаксического равновесия; два параллельных члена качественно неэквивалентны:
Ах, становище земное
Дней и бедное длиною.
(I, 85)
Глядит коварно, зло и рысью.
(II, 122)
Хотя был красивый и юн.
Смотрит прямо и суха.
(II, 51)
Я белорукая, я белокожая,
Ручьям аукая, на щук похожая,
О землю стукая, досуг тревожу я.
(I, 125)
Два параллельных члена количественно неэквивалентны:
Мы, обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени и балакири ‹...›
(III, 17)
Ср. нарушение семантического равновесия:
И истрепала бы её ненаглядные косы, если бы не любила пуще отца-матери, пуще остатка дней, ее, золотую, и золотую до пят косу.
(IV, 165 сл.)
Пешковский: “Глагольность есть основная форма нашего языкового мышления. Сказуемое-глагол есть важнейший член нашей речи вообще”.26
Для поэтической речи часто характерна тенденция к безглагольности. Таковы знаменитые безглагольные опыты Фета, выдавшие близкое подражание Хлебникова (шёпот, ропот, неги стон, краска темная стыда и т.д.).
Эксперименты на пути к канонизации безглагольности наблюдаются у итальянских футуристов, а также в новой русской поэзии (напр., поэма Мариенгофа «Кондитерская солнц»). Для Хлебникова характерны два метода обезглаголивания:
1. Действие предмета представляется в форме деепричастия или причастия:
Вы здесь, что делая?
(II, 85)
Что же дальше будут делая,
С вами дщери сей страны?
(I, 116)
Ты весь дрожишь? Ты весь дрожа?
(IV, 235)
Народ свой ужас величающий,
Пучины рев и звук серчающий.
(I, 100)
Люди, когда они любят,
Делающие длинные взгляды
И испускающие длинные вздохи.
Звери, когда они любят,
Наливающие в глаза муть
И делающие удила из пены.
Солнца, когда они любят,
Закрывающие ноги тканью из земель
И шествующие с пляской к своему другу.
Боги, когда они любят,
Замыкающие в меру трепет вселенной,
Как Пушкин жар любви горничной Волконского.
(II, 45)
2. Действие предмета представляется как признак качественного признака (деепричастие при предикативном прилагательном):
Ты прекрасна ночью лежа.
(II, 286)
Так точна, лившись, кровь.
(II, 188)
Он был, плача тихо, жалок.
(II, 52)
V
Эпитеты. Эвфонический принцип построения эпитетов.
И, преодолевая странный страх,
По пространной взбегает он лестнице ‹...›
(I, 68)
Качаются старою стрелкой часы ‹...›
(I, 69)
Бурун закрыл младую мель ‹...›
(II, 195)
И с полным пламенем в очах ‹...›
(II, 55)
В влаги вольныя гроба ‹...›
(II, 52)
В чертогах строгих морской пещеры ‹...›
Срыватель ясный во сне одежд ‹...›
(II, 50)
Как снежный сноп сияют лопасти ‹...›
(II,111)
Глаза грустные, уши убогие ‹...›
(IV, 239)
На хохот моря молодого ‹...›
(I,115)
Зорко красные губки ‹...›
(I, 85)
С нею рядом страшно сидя,
Страстны речи лепеча ‹...›
(II, 52)
Примечание: поэтическое наречие я здесь рассматриваю как эпитет признака.
Часто функция эпитета — только дать установку на определение как на синтаксический факт, иными словами, здесь мы имеем обнажение определения. У пушкинской плеяды эта функция осуществлялась, с одной стороны, по верному замечанию О.М. Брика,27 “безразличными эпитетами” (типа — “чистой красоты”, “дивною главой” или даже — “такой-то царь в такой-то год”), с другой стороны, эпитетами притянутыми, не имеющими, по выражению пушкинского современника, “приметного отношения к своим существительным”, эпитетами, которые сей критик предлагает назвать “имена прилепительные”.28
“безразличными эпитетами” (типа — “чистой красоты”, “дивною главой” или даже — “такой-то царь в такой-то год”), с другой стороны, эпитетами притянутыми, не имеющими, по выражению пушкинского современника, “приметного отношения к своим существительным”, эпитетами, которые сей критик предлагает назвать “имена прилепительные”.28 Последний тип характерен и для Хлебникова.
Последний тип характерен и для Хлебникова.
Примеры:
Хитрых лепестков златой венок ‹...›
(II, 55)
Лепешки мудрые ‹...›
Твердим устами косными ‹...›
В умных лесах правей лесовой,
В милых водах силен водяной ‹...› и т.п.
(II, 264)
Заря слепотствует немливо,
Моря яротствуют стыдливо.
Эпитет в ранних (импрессионистских) вещах Хлебникова иногда создается ситуацией, например:
И вечернее вино,
И вечерние женщины
Сплетаются в единый венок.
(II, 30)
(т.е. своего рода εναλλαγή).
Сравнения. Вопрос о поэтическом сравнении у Хлебникова очень сложен. Здесь только намечу вехи.
Что такое поэтическое сравнение? Отвлекаясь от его симметрической функции, мы можем охарактеризовать сравнения как один из методов введения в поэтический оборот ряда фактов, не вызванных логическим ходом повествования.
У Хлебникова сравнения почти не оправданы действительным впечатлением сходства объектов, а являются композиционными заданиями.
Пользуясь образной формулировкой Хлебникова, утверждавшего, что есть слова, которыми можно видеть, слова-глаза, слова-руки, которыми можно делать, и перенеся эту формулировку на сравнения, отметим: у Хлебникова именно сравнения-руки.
Характерна для Хлебникова контаминация сопоставлений.
Словно черным парусом белое море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головой мёртвого, повешенной за косу.
«Есир», IV, 95
(Контаминированы характеристики: цветовая — черным белое — и линейная — парусом море).
Пылает взоров синий колос ‹...›
(II, 54)
И в мы, как день потуск,
Летели тиши язвы.
(II, 261)
Зеленое море, как нива ракит.
(II, 86)
Субъект сравнения часто берется не постольку лишь, поскольку сходен с объектом сравнения, а в ином, большем объеме.
Как те виденья тихих вод,
Что исчезают, лишь я брызну,
Как голос чей-то в бедствий год:
Пастушка, встань, спаси отчизну.
Вид спора молний с жизнью мушки
Сокрыт в твоих красивых взорах,
И перед дланию пастушки,
Ворча, реветь умолкнут пушки,
И ляжет смирно копий ворох.
Так в пряже таинственной с счастьем и бедами,
Прекрасны, смелы и неведомы,
Юношей двое явилось однажды ‹...›
(«Сельская дружба», I, 135)
В тебе, любимый город, старушки что-то есть.
Уселась на свой короб и думает поесть.
Косынкой замахнулась — косынка не простая:
От и до края летит птиц черных стая.
(II, 27)
Сеть аналогий, устанавливаемая Хлебниковым, сложна. Сопоставляются пространство и время, зрительные и слуховые восприятия, персонаж и действие.
Ужасна эта охота, где осока — годы, где дичь — поколения.
(IV, 217)
А взор твой это — хата, где жмут веретено две мачехи и пряхи.
(II, 236)
В глазах убийство и ночлег,
Как за занавеской желтой ссору
Прочесть умел бы человек.
(II, 109)
Она стояла скорбно, странно,
Как бледный дождь в холодном лете.
(II, 57)
Исчезла разница
Людей и шалости.
Но смерч улыбок пролетел лишь,
Когтями криков хохоча.
Зеленый леший — бух лесиный ‹...›
Помазал медом кончик дня.
(II, 92)
Пример сложной композиции аналогий:
Из улицы улья
Пули как пчелы.
Шатаются стулья,
Бледнеет веселый.
По улице длинной, как пули полет,
Опять пулемет
Косит, метет,
Пулями лиственный веник,
Гнетет
Пастухов денег.
(III, 162)
Здесь в первых двух стихах устанавливается звукоóбразная параллель (улица-улей, пули-пчелы), причем субъект первого сопоставления с субъектом второго, а также объект первого с объектом второго связаны по смежности. В пятом стихе между субъектами первого и второго стихов устанавливается звукообразная параллель (по улице — пули полет).
VI
Та установка на выражение, на словесную массу, которую квалифицирую как единственный, существенный для поэзии момент, направлена не только на форму словосочетания, но и на форму слова. Механическая ассоциация по смежности между звуком и значением тем быстрее осуществляется, чем привычней. Отсюда консервативность практической речи. Форма слова быстро отмирает.
В поэзии роль механической ассоциации сведена к минимуму, между тем, как диссоциация словесных элементов приобретает исключительный интерес. Дроби диссоциаций легко комбинируются в новые сочетания. Мёртвые аффиксы оживают.
Диссоциация может оказаться и произвольной, создавать новые суффиксы (процесс известный и в практическом языке — ср. голубчик, — но здесь приобретающий большую интенсивность). Напр., „сохрун, мокрун” в детской считалке.
Игра суффиксами издавна ведома поэзии, но лишь в новой поэзии, в частности у Хлебникова, становится осознанным, узаконенным приемом.
Ср. у Пушкина: “а молодицы-молодушки”, “цветики-цветочки”.
В русском фольклоре, — например, в сказке: “Хлебы хлебисты, ярицы яристы, пшеницы пшенисты, ржи колосисты”.29 В загадках: “На заре зарянской стоит шар вертлянский”.30
В загадках: “На заре зарянской стоит шар вертлянский”.30 “Древо древоданское, листья лихоханские”. “Бегут бегунчики, ревут ревунчики”. “Живая живулечка”. “Четыре ходоста, два бодоста”. “Бегуньки бегут, скрыпульки скрипят, роговатики везут, маховатики колотят”. “На бочке кивало, на кивале зевало, на зевало мигало”.31
“Древо древоданское, листья лихоханские”. “Бегут бегунчики, ревут ревунчики”. “Живая живулечка”. “Четыре ходоста, два бодоста”. “Бегуньки бегут, скрыпульки скрипят, роговатики везут, маховатики колотят”. “На бочке кивало, на кивале зевало, на зевало мигало”.31
В детском фольклоре:
“Потягунушки-потягунушки”. “Поперек толстунушки, а в ножки ходунушки, а в ручки фатунушки”. “Постригули-помигули”. “Пиврошка-другошка”. “Первенчики-другенчики”. “Первелики-другелики”. “Первинчики-другинчики убили голубинчики”. “Катун-ладун”.32
В заговорах: “Три тоски тоскучие, три рыбы рыдучие”.
В частушках: “Коля колистый”.
Хи-ха-хи́, хи-ха-хи́,
Сюда идут ебачи́.
Ха-хи, xа́-хи, ха-хи, ха́-хи,
Сюда идут разъеба́ки.
В былинах:
А у ей было цядо
Вавило.
А пошел
Вавилушко на
ниву,
Он ведь
нивушку свою орати.
33
Выделение в словах основных и формальных принадлежностей совершается путем психической ассоциации этих элементов в данном слове с соответственными элементами в других комбинациях, в других словах.
В тех стихах Хлебникова, где дан простор словотворчеству, осуществляется обычно сопоставление неологизмов с тожественной основной принадлежностью и различными формальными принадлежностями либо обратно с тожественной формальной принадлежностью, но здесь диссоциация происходит не на протяжении языковой системы определенного момента, как мы это видим в языке практическом, а в рамках данного стихотворения, которое как бы образует замкнутую языковую систему.
Приведу примеры:
1) Основная принадлежность тожественна, формальные различны, иначе говоря, сложное тавтологическое построение, т. е. обнаженное “произвождение” (Paregmenon) классической риторики. Произвождение вне логического оправдания широко применяется Хлебниковым и помимо введения неологизмов.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
(II, 35)
2) Формальная принадлежность тожественна, основные принадлежности различны.
Часто эти формы рифмуют как бы в противоречие современной поэзии, где доведена до предела тенденция к рифмовке нетожественных частей речи. Сущность рифмы, которая, по выражению Щербы, является узнаванием ритмически повторяющихся сходных групп фонетических элементов, здесь состоит в выделении тожественных формальных принадлежностей, что облегчает диссоциацию.
Примеры:
а) Все члены сопоставления — неологизмы.
Свинец согласно ненавидим,
Сию железную летаву,
За то, что в мигах мёртвых видим
Звонко-багримую метаву.
Летая, небу рад зорирь,
Сладок, думает горирь,
Людей с навиной единебен,
От лет младых, младых сумнебен
И многих сильных столь гинебен.
(«Война-смерть», II, 187, 190)
Волноба волхвобного вира,
Звеноба немобного яра ‹...›
Поюнности рыдальных склонов,
Знаюнности сияльных звонов
В венок скрутились.
(«Нега-неголь», II, 16, 17)
б) Часть членов — слова практического языка.
В тумане грезобы восстали грезоги,
В туманных тревогах восстали чертоги.
(«Нега-неголь», II, 16)
Везде преследует могун,
Везде преследуем бегун.
[Печальны мёртвых улыбели,]
Сияльны неба голубели.
(«Те-ли-ле»)
Тебе поем, Родун,
Тебе поем, Бывун,
Тебе поем, Радун,
Тебе поем, Ведун,
Тебе поем, Седун,
Тебе поем, Владун,
Тебе поем, Колдун.
(II, 271)
Экономия слов чужда поэзии, если только не вызвана каким-либо специальным художественным заданием. Неологизм обогащает поэзию в трех отношениях:
1. Он сознает яркое эвфоническое пятно, в то время как старые слова и фонетически ветшают, стираясь от частого употребления, а главное, воспринимаясь лишь частично в своем звуковом составе.
2. Форма слов практического языка легко перестает сознаваться, отмирает, каменеет, между тем как восприятие формы поэтического неологизма, данной in statu nascendi, для нас принудительно.34
3. Значение слова в каждый данный момент более или менее статично, значение же неологизма в значительной степени определяется контекстом, обязывая, с другой стороны, читателя к этимологическому мышлению. Вообще этимология постоянно играет большую роль в поэзии, причем возможны две категории случаев:
а) подновление значения. Ср., например, тучные тучи у Державина. Такое подновление может осуществляться не только путем сопоставления слов одного корня, но также путем употребления слова в его прямом значении, между тем как на практике оно употребляется только в значении переносном. Ср. у Языкова стихи: “Громада непогоды ‹...› молниеносна и черна” (пример Боброва); и день восторгнулся, и день восстает (Хлебников).
б) поэтическая этимология. Параллель народной этимологии практического языка. Очень интересные примеры приводит из латышского фольклора чешский языковед Зубатый.35 Напр., в русском, приблизительно передающем оригинал, переводе: “Пять волков волка волокло”.
Напр., в русском, приблизительно передающем оригинал, переводе: “Пять волков волка волокло”.
На поэтической этимологии построена большая часть каламбуров, игра слов и т.п. Примеры из русской поэзии: “Чудь начудила да Меря намерила” (Блок). “Раньше жрал один рот, а теперь обжирают ротой” (Маяковский). Осока наклонила ось (Хлебников). “Охвачена осенью осинка” (Гуро).
У Хлебникова неоднократны неологизмы, обусловленные поэтической этимологией.
Времыши-камыши
На озера бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем ‹...›
(II, 275)
Ср. эпидемическое увлечение поэтической этимологией, отмеченное Тэффи (почему “до-сви-дания”, а не “до-сви-швеция” и т.п.).36
Кроме того, путем словоновшества создаются новые, более дробные семантические единицы. Они излишни и слишком подвижны, слишком неопределенны в своих очертаниях для логических операций. Ср. особенно «Чернотворские вестучки» Хлебникова. Практическому языку куда менее нужны синонимы.
В «Госпоже Ленин» (IV, 246 сл.) мы встречаем иной тип дробной семантической единицы. Здесь Хлебников, по собственному выражению, хотел найти бесконечно-малые художественного слова (II, 10). Персонажа нет. Он рассечен на составные голоса: голос зрения, слуха, рассудка, страха и пр. Это своего рода реализация синекдох. Ср. также рассказ «Ка» (IV, 27 сл.), где душа делится на составные персонажи: Ка, Ху и Ба.
Деформация семантическая очень разнообразна в поэзии, и ей параллель — фонетическая деформация слова. Ср., например, рассечение слов: а) ритмическое (Гораций, Анненский, Маяковский); б) вклинивание одного слова в другое-прием, не чуждый поэтическому мышлению Хлебникова (такова его этимология по-до-л, ко-до-л), но отсутствующий в его поэзии. Этот прием использован латинскими поэтами, ср. у Энния:
cere comminuit brum.
В современной русской поэзии его можно указать у Маяковского с некоторой долей логического оправдания:
Выговорили на тротуаре
“Поч-
Перекинулось на шины
Та”.
(«В авто»)
К фонетической деформации относится и сдвиг ударения.
Ср. в фольклоре:
То́ню тя́ну,
Ры́бу ло́влю,
В ко́шелъ кла́ду,
До́мой не́су.
В современной поэзии: мысле́й, невесты́ (Кручёных).
Часто для этого приема поэзия пользуется наличными акцентными дублетами:
Кабы по́ мосту, по мо́сту, по широкому мосту́ ‹...›
Ты лети, лети, соко́л, высоко́ и далеко́,
И высо́ко, и далё́ко, на чужую сторону ‹...›
Подобные примеры “акцентной диссимиляции” — чрезвычайно любопытные — из поэзии древнеиндийской и древнегреческой приведены в «Опыте психологической лингвистики» ван Хиннекена.37 Ср. также «Neuhochdeutsche Metrik» Минора.38
Ср. также «Neuhochdeutsche Metrik» Минора.38
Перебранные выше образчики семантической и фонетической деформации поэтического слова усматриваются, так сказать, невооруженным глазом, но по существу всякое слово поэтического языка — в сопоставлении с языком практическим — как фонетически, так и семантически деформировано.
Важная возможность поэтического неологизма — беспредметность. Действует закон поэтической этимологии, переживается словесная форма: внешняя и внутренняя, но отсутствует то, что Гусерль называет dinglicher Bezug.39 Пример реализации “беспредметного” неологизма:
Пример реализации “беспредметного” неологизма:
У омера мирючие берега. Мирины росли здесь и там, белые сквозь гнезда ворон. Низ же зарос грустняком... Смертнобровый тетерев не уставал токовать, взлетая на морину. Кругом заросло красивняком и мыслокой ‹...› Миловель стоял в пущах. Миристые звонко распевались песни. Прилетали неведомо откуда миристеющие птицы и, упав на ветку, начинали миристеть ‹...› Гордотяжкий пролетал мирёл...
«Песнь Мирязя», IV, 9–10
О лебедиво! О озари!
(«Кузнечик», II, 37)
Ср. поэтику заклинаний.
VII
В поэтическом языке существует некоторый элементарный прием — прием сближения двух единиц.
В области семантики модификацией этого приема являются: параллелизм, сравнение — частный случай параллелизма, метаморфоза, т.е. параллелизм, развернутый во времени, метафора, т.е. параллелизм, эллиптически сведенный к точке.
В области эвфонии модификациями приема сопоставления являются: рифма, ассонанс и аллитерация (или, шире говоря, повтор).
Возможны стихи, характеризующиеся установкой преимущественно на эвфонию. Есть ли установка на эвфонию установка на звуки?
Если да, то это была бы разновидность вокальной музыки, и притом музыка ущербленная.
Эвфония оперирует не звуками, а фонемами, т.е. акустическими представлениями, способными ассоциироваться со смысловыми представлениями.
Форма слова воспринимается нами, лишь будучи повторной в данной языковой системе. Одинокая форма умирает; так и звукосочетание в данном стихотворении (своего рода языковой системе in statu nascendi) становится “звукообразным” (термин Брика40 ) и воспринимается лишь в результате повторности.
) и воспринимается лишь в результате повторности.
В современной поэзии, где на согласных сосредоточивается исключительное внимание, звуковые повторы, особенно типа АВ, ABC и т.п., освещаются часто поэтической этимологией, так что представление об основном значении связывается с повторяющимися комплексами согласных, а различествующие гласные становятся как бы флексией основы, внося формальное значение либо словообразования, либо словоизменения.
Ценным документом, характеризующим поэтическую этимологию как факт языкового мышления, является следующее рассуждение Хлебникова:
Слыхал ли ты, однако, про внутреннее склонение слов? Про падежи внутри слова? Если родительный падеж отвечает на вопрос откуда, а винительный и дательный на вопрос куда и где, то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом, слова-родичи должны иметь далекие значения. Это оправдывается. Так, бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы бо, самым строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за добычей, а бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя (винительный — куда?), а в другом слове указывается, что действие боя исходит из зверя (родительный — откуда?). Бег бывает вызван боязнью, а бог — существо, к которому должна быть обращена боязнь. Так же слова лес и лысый или ещё более одинаковые слова лысина и лесина, означая присутствие и отсутствие какой-либо растительности — ты знаешь, что значит лысая гора, ведь лысыми горами зовутся лишенные леса горы или головы, — возникли через изменение направления простого слова на склонением его в родительном (лысый) и дательном (лес) падежах … Как и в других случаях, е и ы суть доказательства разных падежей одной и той же основы. Место, где исчезнул лес, зовется лысиной. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок — то место, куда следует направить удар.
V, 171 сл.
Флектирование основ изредка обнаруживаем и в старой поэзии. Ср., например:
Кесарь мой святой косарь.
(Батюшков)
Примеры из Хлебникова:
Война и меч, вы часто только мяч
Лаптою занятых морей.(«Хаджи-Тархан», I, 119)О, прохожий, наши вежи
Меч забыли для мяча.(«Четыре птицы», II, 222) Я лишь кролик пугливый и дикий,
А не король государства времен ‹...›
Шаг небольшой, только „ик”
И упавшее о, кольцо золотое,
Что катится по полу.(«Война в мышеловке», II, 246)Горе вам, горе вам, жители пазух
Мира и мора глубоких морщин.(«Война в мышеловке», II, 248)Девицы дивятся.(«Игра в аду», II, 124)Иди же в ножны, ты не нужен.(«Гибель Атлантиды», I, 99)Толпу имел ли кто понять?
Толпе умел ли кто пенять?(«Война-смерть», II, 189)Сумная умность речей
Зыбко колышет ручей ‹...›
(«Нега-неголь», II, 17–18)Плаха плоха только тем,
Что на ней рубят головы людям.(«Манифест председателей земного шара», III, 19)Босеж и бесеж
На зеленой травушке —
То богиня, то бегиня,
Где цветут купавушки.(II, 22)Пока уста копей кипели ‹...›
О мчи мечи наш крик бегущий.
Милой обыденщиной
Напоена мгла.
В эту ночь любить
И могила могла…(II, 30)Радой Славун, родун Славян ‹...›
Посолонь слава!(«Боевая», II, 23)То видим и верим, чуя и чая.(II, 250)Челн о волны бился валок,
Билась вольная волна.
Он был, плача тихо, жалок,
Она грустью полна.
И потом уходит гордо,
Поправляя волоса,
По тропинке горной твердо ‹...›
41 («Алчак», II, 52)Бурного лёта летá.(«Каменная баба», III, 35)Я видел
(«Алчак», II, 52)Бурного лёта летá.(«Каменная баба», III, 35)Я видел
Выдел
Весен
В осень,
Зная
Зной
Синей
Сони ‹...›
(III, 27)Кант… Конт… Кент… Кин…(«Чёртик», IV, 202)
Популяризация этого приема у Асеева, Маяковского.
Когда земное склонит
лень,
Выходит легким шагом
лань,
С ветвей сорвется мягко
лунь,
Плеснет струею черной
линь.
И чей-то
стан колеблет
стон,
То может —
Пан, а может —
пень,
Из
тины —
тень, из
сини —
сон,
Пока на
Дон не ляжет
день.
(Асеев, 1916)
Наш
бог бег ‹...›
Зеленью
ляг, луг ‹...›
Лет быстролётным коням ‹...›
Радости
пей. Пой.42
(Маяковский, «Наш марш»)
(ср. у Е. Гуро:
День сквозь облако —
дюна)
Любопытным примером звукоóбразного построения является контаминация двух членов построения в третьем.
Фольклорные примеры:
Сила солому ломит.
(Пословица)
В Верейском уезде старик-сказочник рассказывал мне о том как мужик из мести, заманив барина хитростью в баню, там его до полусмерти исколотал, отбарабанил. “Барина да в бане да отбарабанил! Ловко!” — подхватил с восторгом один из парней-слушателей.
У Хлебникова:
Ты знаешь: путь изменит пря,
И станем верны, о Перуне ‹...›
Так ты окончил Перунепр.
(«Перуну», II, 198–199)
И дева векиня, векиня в веках,
Векуя свой век в огнелетных венках.
На долево зарево бросаю я сень,
И гласом без марева кликнула день.
И день восторгнулся, и день ужаснулся, и день восстает,
И день свое вено векине несет.
(«Боготекум», II, 265)
Моих друзей летели сонмы.
Их семеро, их семеро, их сто.
И после испустили стон мы ‹...›
(III, 25)
Начальный звук, говорит Хлебников, имеет особую природу отличную от природы своих спутников. Первый звук слова приказывает остальным. Слова, начатые одной согласной, имеют общее направление, как рои падающих звезд.
На поэтической значимости начального звука слова основана аллитерация в узком смысле этого термина. Примеры сложных консонантных структур у Хлебникова:
И в утонных негах снега.
Былых белых грез зари.
И в дебрях голубых стонало солнце
Любри голубри небо рассыпало.
Смехлые уста смерть протянула целующая,
Дохла и пуста твердь протянулась целуемая,
Голуботелая одуванчикокосая,
Чьи волосы золота волосы,
Овеклые слезы остеклянелые, чьи голосы володы голоса,
Застыли нетленными,
Зовем их слепые-вселенными ‹...›
(II, 272)
В первом четверостишии следующие повторные ряды:
1) Б–Л — былых, белых, любри, голубри. Былых – белых — флектирующий ряд. Любри – голубри — форма воспринимается через сопоставление двух неологизмов с общей формальной принадлежностью и через сопоставление с теми же принадлежностями — основной и формальной, но данными вне неологизмов: дебрях голубых.
2) С–Т–Н–Л — утонных, снега, солнце; контаминация — стонало.
3) Н–Г — негах, снега.
4) Р–З — грез, зари.
Пятый и шестой стихи во вторых половинках своих параллельны в синтаксическом, морфологическом и эвфоническом отношениях: смерть-твердь, протянула-протянулась, целующая-целуемая. Первые половинки параллельны только эвфонически, заключая в параллельных слогах силлабической схемы одинаковые группы интервокальных согласных (хл, cт). Ср. подобное явление в частушках:
Плывет лодка весел восемь,
Мой миленок бросил в осень.
Волосы золота волосы/голосы володы голоса — эвфонико-синтаксическая метатеза.
Последние стихи дают следующие повторные ряды:
1) С–Л — волосы, слезы, голосы, слепые, вселенными.
2) Т–Л — голуботелая, золото, нетленными.
Контаминация обоих рядов: застыли остеклянелые.
3) В–Л — волосы, овеклые, володы.
4) К–Л — овеклые, остеклянелые.
В пору когда в вырей
Времирей умчались стаи,
Я времушком-камушком игрывало
И времушек-камушек кинуло,
И времушко-камушко кануло,
И времыня крылья простерла.
(II, 271)
Стихотворение построено на сопоставлении вр и начального к. Вырей, врем-, игрывало; когда, камуш-, кинуло-кануло, крылья. Остальные консонантные группы — пр (пору), cт (стаи), рл (крылья) контаминированы в заключительном слове (простерла).
Тебя пою, мой синий сон,
И теня саней золотые
Зимы седой и сизый стон
И тени теми ‹...›
(II, 277)
Здесь переплет свистящих (6 с, 3 з) и взрывных зубных (6 т и 1 д) на фоне носовых (6 н и 3 м), контаминирующее слово: стон.
Практический язык знает замену одного начального согласного другим в результате аналогии (например, девять под влиянием десять); ещё более характерно это явление для ляпсусов; таковы случаи антиципации начального звука одного из сопутствующих слов. Напр., “скап стоит” или обратно “леса лостут”.43
В стихах Хлебникова это явление использовано как поэтический прием: начальный согласный заменяется другим, извлеченным из иных поэтических основ.
Слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение зыблется, слово воспринимается как знакомец с внезапно незнакомым лицом или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое.
Сияющая вольза
Желаемых ресниц
И ласковая дольза
Ласкающих десниц.
Чезори голубые
И нрови своенравия.
О, мраво! Моя моролева,
На озере синем — мороль.
Ничь трусы — туда!
Где плачет зороль.
Усвоение облегчено, во-первых, сопоставлением двух субститутов начального согласного в одном и том же слове (вольза – дольза, мороль – зороль); во-вторых, одинаковым субститутом в двух соседних словах (мраво – моролева); в-третьих, соседством с деформируемым словом слова, из которого заимствован начальный согласный (нрови своенравия ).
Подобную субституцию находим в искусственных профессиональных языках.
Толстой, не желая отрывать фамилии героев «Войны и мира» от действительности, стремясь, чтобы они “звучали чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу”, не умел, по собственному выражению, “обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые буквы” (ср., например: Болконский, Друбецкой). “Я бы очень сожалел, — говорит Толстой, — ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо”.
Сходное языковое явление представляют собою и так называемые парные слова (Reimwörter), с тою лишь разницей, что деформированное в этих случаях слово остается связанным с первоначальной формой. Много примеров в прибаутках, которыми, по словам Шейна, шаловливые ребятишки потешаются часто без всякого даже повода ради одной только словесной забавы.44
VIII
Игра на синонимах — это как бы частичная эмансипация слов от значений, т.е. новому слову не сопутствует новое значение; с другой стороны, возможна новая дифференциация семантических оттенков.
Примеры:
Он гол и наг.
(«Вила и леший», I, 129)
Ведай, знай.
(«Гибель Атлантиды», I, 97)
Кто нам товарищ и друг?
(III, 17)
Мы, пастухи людей и человечества.
(III, 17)
Лицо отмщенья и возмездий.
(«Гибель Атлантиды», I, 101)
Смертей и гибели плачевные узоры.
(«Змей поезда», II, 107)
Обратное явление — игра на омонимах, равно как и игра на синонимах, основана на несовпадении единицы значения и слова — параллель протекающей раскраске в живописи. Примеры:
Коса то украшает темя, спускаясь на плечи, то косит траву.
Мера то полна овса, то волхвует словом.
(II, 93)
Ср. в «Балаганчике» Блока: “Появляется ‹...› девушка ‹...› За плечами лежит заплетенная коса. Мистики: — Прибыла!.. За плечами коса. Это — смерть”.
Какие прекрасные книги оставлены ею здесь. Целая куча. Всё Конт да Кант. Ещё Кнут. Извозчик, не нужен ли тебе кнут? — А? У меня свой есть.
«Чёртик», IV, 202
И своды надменные взвились —
Законы подземной гурьбы.
(«Игра в аду», II, 119)
Ср. у Маяковского: “Лишь злобно забившись под своды законов, живут унылые судьи”.
Излюбленный прием современных поэтов — одновременное употребление слова в буквальном и метафорическом значениях.
Ты [Фонтанка] от дворцов переползешь,
Под плоскогорьем Клодта, Невский
И сквозь рябые черныши
Дотянешься, как Достоевский,
До дна простуженной души.
(Б. Лившиц)
Примеры реализации игры на синонимах, когда синонимы становятся как бы самостоятельными персонажами:
Сон ходит по лавке,
Дремота по избе,
Сон-то говорит:
— Я спать хочу. Дремота говорит:
— Я дремати хочу.
Сон ходит по сеням,
Дрема по новым,
Сон у дремы всё выспрашивает ‹...›
45
Здесь несомненна персонификация двух членов формального параллелизма типа:
Девица ходит по сеням,
Красная по новым.
Т.е. в стихе А дано определяемое, в стихе В, параллельном А, — эпитет, а как частный случай — синоним.
Как на Ванины именины
Испекли мы каравай —
Вот такой ширины,
Вот такой ужины,
Вот такой вышины,
Вот такой нижины.
(Детская игровая песня)
Всходит месяц, обнаженный,
При лазоревой луне.
(Брюсов)
Где туч и облака межа ‹...›
(Хлебников, I, 101)
Зачем отечество стало людоедом,
А родина его женой.
(Хлебников, III, 19)
Последний пример характерен как показатель принудительности для словесного образа языковой категории рода. Персонифицируясь, имена женского рода становятся лицами женского пола, а имена мужского и среднего родов становятся лицами мужского пола. Так, например, русский, представляющий себе дни недели в виде лиц, понедельник и воскресение представляет себе как мужчин, а среду — женщиной. Любопытно, что Репин недоумевал: почему грех (die Sünde) у Штука изображен женщиной?
Ср. аналогичную принудительность грамматического рода по отношению к прилагательному принадлежности в детской песенке:
На бабью рожь,
На мужичий овес,
На девичью гречу,
На маличье просо.
46
Излюбленным синонимическим материалом являются иностранные и диалектические слова:
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот,
Там стонут кратко: Дье.
(Хлебников, «Маркиза Дезес», IV, 235)
Сколько скуки в скоке скалки!
О день, и динь, и дзень!
О ночь, нуочь и нич!
Морской прибой всеобщего единства.
(«Дети выдры», II, 168)
(Нуочь и нич — украинские фонетические варианты, дзень — белорусский, динь — диалектический великорусский.)
Ср. у Маяковского:
‹...› В честь
Твоего-сиятельный-сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!
(«Человек»)
Иноязычные слова вообще находят себе богатое применение в поэзии, будучи неожиданны своим звуковым составом, при приглушенном значении.
Таковы же и неологизмы Хлебникова на основании собственных имен:
О, достоевскиймо бегущей тучи,
О пушкиноты млеющего полдня,
Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полня.
(II, 89)
Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И, сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью, облако, роопсь!
(«Четыре птицы», II, 217)
Здесь, как и в большинстве случаев, юмористическая поэзия оказывается провозвестницей новшества. Ср. у Пушкина: кюхельбекерно, огончарован. У Кольцова уже вне юмористического применения: пилатить.
Собственные имена, фамилии, в практическом языке — ярлыки, связанные с называемым объектом лишь ассоциацией по смежности и не вызывающие нормально никаких словесных переживаний. Иное дело в эмоциональном языке и в поэзии. В последней наблюдаем, во-первых, подновление значения, — в юмористическом применении у Пушкина:
Веселися, Русь! Наш Глинка —
Уж не глинка, а фарфор.
У Хлебникова: Из Пушкина трупов кумирных пушек наделаем с на.
У Маяковского: “Сыт, как Сытин”.
Во-вторых, выступает чисто поэтическая этимология: О, Тютчев туч (Хлебников, IV, 233).
IX
Подобно сопоставлениям семантическим, рифма как сопоставление эвфоническое в современной поэзии очень приблизительна (сходное на фоне контрастирующего). Для звукового состава хлебниковской рифмы, да и вообще рифмы в новой русской поэзии, характерно:
1. Согласные более валентны, чем гласные. Это вообще черта современной эвфонии.
Литературный старовер Андреевский возмущался неорганизованным вокализмом в стихах предтечи модернистов Случевского. Уже по мнению Алексея Толстого, безударные гласные никакого значения не имеют: „Одни согласные считаются и составляют рифму“. Для современного поэта такие пушкинские рифмы, как: меня – моя, себя – я, любви – мои, она – сошла и т.п.,47 совершенно немыслимы.
совершенно немыслимы.
2. Различие между твёрдыми и мягкими согласными в значительной степени приглушено.
Гласные акустически характеризуются высотой основного тона, акустическое различие между согласными палатализованными и непалатализованными есть также различие в высоте основного тона. Итак, эволюция поэтической эвфонии параллельна пути современной музыки — от тона к шуму.
3. Пушкинская школа культивировала в рифме замыкающие звуки, современная поэзия — звуки опорные, звуки замыкающие могут не совпадать.
4. Согласные могут быть нетожественны, а лишь сходны акустически.
5. Порядок согласных может быть неодинаков (рифма-метатеза).
6. Ударение в рифмующихся словах может не совпадать.
Если рифма генетически была ритмической фиксацией, узаконением, как бы кристаллизацией отдельного типа эвфонической структуры, то рифма современная исходит и из ряда других типов. Напр., в области повтора — из типа СВА. Очевидно, выпады поэтов разных школ и периодов против рифмы объясняются в значительной степени тем, что она является канонизацией всего лишь одного типа, т.е. оскудением по сравнению с искусным подбором гласных или согласных букв при самом течении речи, за который ратовал, порицая рифму, поэт Семен Бобров.48 Это обогащение рифмы могло осуществиться тогда, когда внимание стало настойчивей фиксироваться на эвфонической структуре стиха: те построения, которые прежде оставались скрыты (latent), наконец, всплыли на светлое поле сознания.
Это обогащение рифмы могло осуществиться тогда, когда внимание стало настойчивей фиксироваться на эвфонической структуре стиха: те построения, которые прежде оставались скрыты (latent), наконец, всплыли на светлое поле сознания.
В области повтора, единственного из неканонизованных эвфонических приемов русской поэзии, которому оказалась посвящена удовлетворительная работа,49 русские поэты прошлого осознали только тип АВ. Только на этот тип обращают они внимание в своих заметках о стихах. Пушкин говорит о музыкальных звуках “вла – вла”, Семен Бобров отмечает художественную строку у Ломоносова:
русские поэты прошлого осознали только тип АВ. Только на этот тип обращают они внимание в своих заметках о стихах. Пушкин говорит о музыкальных звуках “вла – вла”, Семен Бобров отмечает художественную строку у Ломоносова:
Только мутился песок, лишь белая пена кипела.
Радищев возмущается какофоническим стихом Тредьяковского:
Книга держима им была собранием имнов.
Рифма, оставаясь проявлением последовательной или частичной симметрии эвфоническом отношении, идет на протяжении истории русской поэзии от симметрии семантической, синтаксической и морфологической сперва к асимметрии синтаксической, потом к асимметрии морфологической. Симметрия морфологическая сохранилась только в поэзии неологизма, о чем было сказано уже выше.
Характерная разновидность современной асимметричной обнаженной рифмы — рифма составная, первично бывшая монополией юмористической поэзии (т.н. каламбурные рифмы: Минаев и т.д.).
Обнажение рифмы знаменует освобождение её звуковой валентности от смысловой связи. В этом направлении в истории русской поэзии можно установить следующие этапы (хотя в каждый момент как бы на периферии поэзии могут быть в наличии все этапы).
1. Рифмующие слова прежде всего связаны, сопоставлены в смысловом отношении.
2. Рифмующие слова не связаны между собой в смысловом отношении, но объединены важностью в смысловом отношении, как бы смысловым акцентом.
3. В качестве носителей рифмы искусственно выдвинуты слова, не вызванные существом дела, интересами рассказа, несущественные в смысловом отношении (напр., эпитеты).
4. Рифмуют слова, почти не связанные логически с текстом, привлеченные ad hoc. Ср. отзыв Айхенвальда о рифмах Брюсова.50 Таким путем выдвигается эвфоническая ценность рифмы.
Таким путем выдвигается эвфоническая ценность рифмы.
В скрытом виде именно рифмовка слов, привлеченных ad hoc, характерна для поэзии вообще.
Ришэ: “Рифма вызывает стихотворение. Ум работает каламбурами”.
В современной поэзии этот прием обнажен. Подобное обнажение рифмовки ср. у Пушкина, оправданное юмористически.
Фригийский раб, на рынке взяв язык,
Сварил его… (у господина Копа
Коптят его). Езоп его потом
Принес на стол… Опять, зачем Езопа
Я вплел с его вареным языком
В мои стихи? Что вся прочла Европа,
Нет нужды вновь беседовать о том.
Насилу-то, рифмач я безрассудный,
Отделался от сей октавы трудной.
(«Домик в Коломне»)
Обнажение рифмы как бы подчеркивает ее, что очень важно в тех случаях, когда стих слабо ограничен ритмическими константами. Потому в устной поэзии именно сказовый стих культивирует обнаженную рифму; такая рифма нередка и в силлабических виршах, и она естественно была отвергнута создателями тонического стихосложения. Приводя как характерный пример русского силлабического стихосложения анонимную поэму семнадцатого века о Страшном суде, Тредьяковский замечает: “Так рифма почтена необходимою в стихах, что хотя б слово рифмы и ничего не значило и было б всеконечно поврежденное или нарочно вымышленное, а соглашалось бы только изрядно с рифмою предыдущего стиха, такое чудовищное слово, не токмо не пренебрегаемо было, но и ещё предпочитаемо в стихе для рифмы”. Пример:
Составы, кости трепещут,
И власы глав их клекещут.
Все и звезды наипаче
Чисти, светлозрачни в зраче.
Тако же минует и протчих;
Огнь воссияет в горячих…
Оный ему есть светильник,
Твоими враты входильник.
Все веселие духовно,
Всюду глас радости зовно.
Князь, княгини, княжаны,
Воеводы, потентаны,
Военачальники морски,
Сухопутн, велик, маловски.
Всем дадутся венцы драги,
Одежды, златосветовлаги.
51
Ср. также составные этимологические рифмы у Симеона Полоцкого (Плутон — плут он и т.п.). Русский верлибр выдвинул с новой силой установку на рифму.
Повтор также до некоторой степени обнажен у Хлебникова, т.е. образующие повтор словосочетания часто почти не обоснованы логически.
Полна соблазна и бела,
Она забыла про белила.
(«Мавка», II, 196)
Такие нравы и дрова
В стране усопших встречи!
Из слез, что когда-либо лились,
Утесы стоят и столбы ‹...›
Тех властелинов весел сброд ‹...›
Иль вызвать стон лукавой хари
Под визг верховный колеса ‹...›
В очках сидели здесь косые,
Хвостом под мышкой щекоча ‹...›
И взвился вверх веселый туз
И всё невольно загудело,
В глазах измены сладкой трубы, —
Среди зимы течет Нева ‹...›
Она пошла, дабы сгореть,
Высоко, пошло и бесплатно ‹...›
(«Игра в аду», II, 119 сл.)
Ты ‹...› Мы-с мясом теплым нас нежи.
(«Война-смерть», II, 188)
Там, где смысловой момент ослаблен, мы замечаем своего рода эвфоническое сгущение. Ср., напр., бессюжетные частушки типа:
Мамка, мамка, вздуй оГоНь,
Я попал в ГовНо НоГой.
Ср. у Пушкина:
Что? Перестать или пустить на пe?
Признаться вам, я в пятистопной строчке ‹...›
(повтор прстт-псттнп пр-птстпн-стр).
У Хлебникова:
Путеводной рад слезе,
Не противился стезе.
(«И u Э», I, 87)
Последние два стиха образуют сплошной повтор. Хлебников сам говорит:
Вот частушка из «Пощечины общественному вкусу»:
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер ‹...›
В ней, в 4 строчках, помимо желания написавшего этот вздор, звуки у, к, л, р повторяются пять раз каждый.
(V, 185)
Ср. также:
В соногах-мечтогах
Почил он, почему у черты.
В чертогах-грезогах
Почил он, почил у мечты.
(«Нега-неголь», II, 16)
В стихе четвертом по сравнению со стихом вторым — метатеза: мчр – лмч.
Обнажение метатезы при естественном ослаблении смыслового момента в хлебниковском «Перевертне»:
Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Пал, а норов худ и дух ворона лап.
А что? я лов? Воля отча!
Яд, яд, дядя! Иди, иди!..
(II, 43)
Ср. так называемые раки киевского поэта XVII в. Величковского:
Анна ми мати и та ми манна,
Анна пита мя я мати панна,
Анна дар и мне сень мира данна.
Особенно характерны эвфонические сгущения, звуковой орнамент для рефренов и зачина.
Пример зачина у Хлебникова: В шали шалый шел ‹...› (Песня мёртвых из «Ошибки смерти», IV, 251).
На ряде приемов поэзии Хлебникова мы видим то же явление: приглушение значения и самоценность эвфонической конструкции. Отсюда один шаг до языка произвольного.
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — мое второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.
(II, 9)
Это произвольное словотворчество может формально ассоциироваться с русским языком. Таковы стихи Константина Большакова:
Эсмерами вердоми весна лилиелит ‹...›
У Хлебникова:
Вон там на дорожке белый встал и стоит виденнега!
Вечер ли? дерево ль? Прихоть моя?
Ах, позвольте мне это слово в виде неги!
(«Опыт жеманного», II, 101)
Тарарахнул зинзивер.
(«Кузнечик», II, 37)
Такие слова как бы подыскивают себе значение. В этом случае нельзя, пожалуй, говорить об отсутствии семантики. Это, точней, слова с отрицательной внутренней формой, как примерно именительный дом — по Фортунатову, слово с отрицательной формой словоизменения.52
Второй тип произвольного словотворчества стремится не входить ни в какую координацию с данным практическим языком. Таковы, напр., сектантские глоссолалии, относимые их создателями к иностранным языкам.53 У Хлебникова заумные произведения оправданы, например, птичьим языком («Мудрость в силке»), обезьяньим языком («Ка»), бесовским языком («Ночь в Галиции», где Хлебников широко использовал русские заговоры).
У Хлебникова заумные произведения оправданы, например, птичьим языком («Мудрость в силке»), обезьяньим языком («Ка»), бесовским языком («Ночь в Галиции», где Хлебников широко использовал русские заговоры).
Самое оправдание может быть заумным.
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь,
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
(II, 36)
Для заумной речи рассматриваемого типа характерны чуждые практической речи звукосочетания. Так, у Хлебникова: 1) зияние (лиээзй и т.п.); 2) твердость согласных перед е (вээоми и т.п.); 3) необычные группы согласных (ср. особенно «Мудрость в силке» и «Ка»).
На ряде примеров мы видели, как слово в поэзии Хлебникова утрачивает предметность, далее внутреннюю, наконец, даже внешнюю форму. В истории поэзии всех времен и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению Тредиаковского, важен “токмо звон”. Поэтический язык стремится, как к пределу, к фонетическому, точней, — поскольку налицо соответствующая установка, — эвфоническому слову, к заумной речи.
Но о самом пределе характерно отмечает Хлебников: Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!“ из «Ка» вызывали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего — я сам не знаю.
———————
Примечания 1
1 Цитаты отсылают к “Собранию произведений” Хлебникова, т. I–V (
Л., 1928–1933) и “Неизданным произведениям” — НП (М., 1940).
 2
2 Фрагментарность нижеследующего и отсутствие строгой локализации ни в коем случае не опорочивают метода: поскольку не накоплено научно интерпретированного материала, возможны только рабочие эскизы типа диалектологических заметок “об особенностях”.
 3
3 Ср.:
Marinetti F.Т. Fondazione e Manifesto del Futurismo. — Teoria e invenzione futurista.
Milano, 1968, с 7 сл.
 4 Радищев А.Н
4 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву.
СПб., 1790 (фотографически воспроизведено в 1935 г., М.–Л., с. 356 сл.).
 5
5 См.:
Marinetti F.Т. Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica (1914). — Указ. соч., с. 90 сл.
 6
6 Ср.: [
Кручёных А.] Новые пути слова. — В сб.: «Манифесты и программы русских футуристов». Под ред. В. Маркова.
Мюнхен, 1967, с. 72.
 7
7 Манифесты итальянского футуризма (пер. В.Г. Шершеневича).
М., 1914. Ср. «Le parole in liberta» в указ. соч. Маринетти, с. 61.
 8
8 См:
Altenberg Peter. Was der Tag mir zuträgt.
Berlin, 1913, с 6.
 9 Щерба Л.В
9 Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении.
СПб., 1912, с. 2. [Переиздано фототипическим способом в изд. «Наука»,
Л., 1983. — Сост.]
 10
10 См.:
Saran F. Deutsche Verslehre.
München, 1907, с. 7.
 11
11 См.:
Sperber H. Über den Affekt als Ursache der Sprachveränderung.
Halle, 1914, с 19 сл.
 12
12 Московский телеграф, 1827, часть 15, № 10.
 13
13 Сын отечества, 1829, часть 125, № 15.
 14 Ончуков Н
14 Ончуков Н. Северные сказки. СПб., 1909, с. 74.
 15 Гильфердинг А.Ф
15 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины.
СПб., 1873, с. 1088 (№ 227).
 16
16 Ср. гиперболу обыденной речи: „Ну, — одна нога здесь, другая нога там, — живо!”
 17
17 Соответствующий прием по отношению не к сюжетному построению, а к отдельному слову, ср., например, у Белого, где он мотивирован бредом: „Наши пространства не ваши; всё течёт там в обратном порядке... и просто Иванов там японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке, японская: Вонави“ (
«Петербург»).
А вот другая мотивировка у того же поэта: „Модернист срывается головою вниз; и с ним летит «Критика чистого разума», которую он продолжает читать снизу вверх и справа налево: вместо разума он читает какую-то восточную ерунду, если только не восточное заклинание, ибо он читает “амузар” ‹...›“
И уже, кажется, без всякого оправдания у Д. Бурлюка:
рехамкирап, тенибак (парикмахер, кабинет).
 18
18 Ср. романические развязки типа: по одним сведениям.... по другим...
 19
19 Сын отечества, 1829 г.
 20
20 См.:
Нansliсk Е. Vom Musikalisch-Schönen.
Leipzig, 1918, с. 12, сл., 84 сл.
 21 Сидоров А
21 Сидоров А. В защиту книги. — Труды и дни, 1912, № 3, с. 71.
 22 Брюсов В
22 Брюсов В. Далекие и близкие.
М., 1912, с. 54.
 23
23 Об искусстве поэзии. XXI.
 24
24 См.:
Гумилев Н.С. Собрание сочинений, т. IV.
Вашингтон, 1968, с. 323 сл.
 25
25 Ср.:
Чуковский К. Высокое искусство. О принципах художественного перевода.
М., 1964, с. 170.
 26
26 См.:
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении.
М., 1914, с. 119 и 117.
 27
27 Ср.:
Брик О. Ритм и синтаксис. — Новый Леф, 1927, № 4, с. 29.
 28
28 См.: Атеней, 1828, Евгений Онегин, статья В.
 29 Афанасьев А.Н
29 Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. Под ред. А.Е. Грузинского, т. V.
М., 1914, с. 238.
 30 Даль В.И
30 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I.
M., 1956, с. 628.
 31
31 См.:
Сахаров И.П. Сказания русского народа.
М., 1836.
 32
32 См.:
Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п., I,
СПб., 1900;
Бессонов П.А. Детские песни.
М., 1868.
 33 Григорьев А.Д
33 Григорьев А.Д. Архангельские былины и исторические песни, т. I.
M., 1904, с. 376 (№ 85). (Здесь с определенной ритмической локализацией связан определенный суффикс.)
 34
34 Так же точно in statu nascendi подается, напр., обновленная семантика “словечек” Достоевского, муссируемых на протяжении страниц романа.
 35
35 См.:
Zubatý J. О alliteraci v pisnich lotyšských a litevských — Vestnik Kral, české společnosti nauk. Trida flosoficko-historicko-jazykozpytná.1894.
 36
36 Такое переэтимологизирование, как передавал нам М. Горький, любил Толстой. „Столковался” — сказал как-то работник, „стол строгался”, — рассерженно поправил Толстой.
 37
37 См.:
Ginneken J. van. Principes de linguistique psychologique. Essai de synthèse.
Paris, 1907.
 38 Minог J
38 Minог J. Neuhochdeutsche Metrik.
Strassburg, 1902. Кар. Ill, «Der Accent».
 39
39 До известной степени всякое поэтическое слово беспредметно. Это имел в виду французский поэт, говоря, что в поэзии — цветы, которых нет ни в одном букете (Mallarmé, «Crise de vers»).
 40
40 См. статью его «Звуковые повторы». — В сб.: «Поэтика».
Пг., 1919.
 41
41 В сопоставлениях: волна, вольная, волоса, гордо, горной — этимология иного типа.
 42
42 Пить, петь — традиционная этимологическая фигура. Ср. также у болгарского поэта Ботева — пием, пеем.
 43
43 См.:
Богородицкий В.А. Лекции по общему языкознанию.
Казань, 1915, с. 190.
 44
44 Эти любопытнейшие образования ещё не обследованы и даже не систематизированы, если не считать беглых заметок по этому вопросу
Мирзы-Джафара, Дурново, Крымского и Шкловского. Интересно было бы сопоставить фонетические законы, лежащие в основе парных слов в разных языках, и подобным же образом их функции и степень распространения. Для русских парных сочетаний, состоящих из слова (А) + то же слово с субституцией начального согласного (А
1), субститутом является
м, если слово не начинается с губного, в последнем случае
м невозможно, очевидно, в силу тенденции к диссимиляции, и тогда парное слово приобретает вид А
1 + А, причем в А
1 начальный губной заменен зубным (чаще небно-зубным). Не исключена возможность, что такой порядок обусловлен аналогией с парными словами типа
шагом-магом. Несмотря на начальный губной, А
1 приобретает начальное
м и стоит на 2-ом месте в новых образованиях. Таковы
пикники-микники и слова, начинающиеся с
ф, т.е. фонемы, русскому языку почти неизвестной, например:
федя-медя, фигли-мигли, фарасеи (фарисеи)-марасеи.
Примеры сочетаний А + А
1:
куды-муды, каракуля-маракуля, кострюк-мострюк, коляда-моляда, корень-молень (с диссимиляцией плавных),
гусли-мусли, гоголь-моголь, хохол-мохол, сахар-махар, шагом-магом, закон-макон, зарево-марево, татарин-мамарин (здесь
тата осознано как удвоение),
деньга-меньга и т.п.
Примеры сочетаний А
1 + А:
туря-буря, туркать-буркать, шурда-бурда, шалтай-балтай, шаловать-баловать, черемя-беремя, таран-баран (по аналогии с типом А + А
1 возникает и
баран-маран),
шерстень-перстень, шень-пень, шейна-вейна, шесть-весть, шишел-вышел, дикинь-выкинь, шатыль-мотыль и т.п.
По аналогии с сочетаниями А
1 + А в единичных случаях усваивают шумный губной и сочетания А + А
1, например:
хорьки-борки, котик-ботик (у поэтессы Елены Гуро),
чижик-пыжик и дальше
Ваня-баня (путем осмысления из
ани-бани — в детской считалке).
По аналогии с рассмотренными парными словами возникают конструкции из двух существующих рифмующих слов, а также сочетания созвучных бессмысленных словечек, ономатопей.
Первые состоят из слова, начинающегося негубным + слово, начинающееся губным (большей частью
м), не
м возможно, естественно, только после зубных (вл. типа А
1 + А). Примеры:
калина-малина, катушка-матушка, Дарья-Марья, шильце-мыльце, шила-мыла, шатается-мотается, Сашки-Машки, по солоду-по молоду, сусло-масло, целует-милует, травка-муравка, шестом-пестом, заинька-паинька, жил-был, шорох-ворох, не трошь-не ворошь, сею-вею, сито-вито. Сочетания из ономатопей подчиняются тому же закону, т.е. первая начинается с задненёбного (resp. средненёбного), — вторая с
м, либо первая с зубного (чаще нёбно-зубного) — вторая с
м или чаще с
б (по аналогии с сочетаниями А
1 + А). Примеры:
килди-милди, калечина-малечина, кики- мики, кухтарка-мухтарка, кулага-малага, кунды-мунды (исключение:
кидра-видра),
шишел-мышел, чухры-мухры, чикирей-микирей, шалды-балды, шуром-буром, шурки-бурки, шатэр-батэр, шадра-бадра, шуни-буни, жалты-балты, трынка-брынка, ср. также
Добчинский–Бобчинский. Всегда с
б начинаются также сочетания, в которых первая часть начинается с гласного. Примеры:
аты-баты, ани-бани, акир-бакир, ас-бас, эни-бени.
Изредка, при неясных для меня условиях, парные слова разных типов имеют субститутами
j, р, л. Таковы:
соломина-яломина, колобень-ёлобень, шурки-юрки, яйце-райце, шохан-рохан, равлик-павлик, пядун-ладун, шуги-луги.
Приведенные законы действительны и для аналогичных конструкций на расстояние. Так, в хороводной песне — Ах ты, калина моя, ах ты, малина моя, — обратный порядок невозможен. Ср. также прибаутку:
дыш-дыш провалился в пизду мыш.
 45 Шейн П.В
45 Шейн П.В. Указ. соч., № 1 и 7.
 46 Шейн П.В
46 Шейн П.В. Указ. соч., № 134. В крыловской переводной басне «Стрекоза и муравей» грамматический род возобладал над реальным значением La cigale оказалась стрекозой, сохранив тем не менее все признаки кузнечика (попрыгунья, пела).
 47
47 См. статью Брюсова «Стихотворная техника Пушкина». — [Брюсов В.] Мой Пушкин.
М.–Л., 1929.
 48
48 Херсонида.
СПб., 1804, с. 7.
 49
49 См. примеч. 40.
 50 Айхенвальд Ю.И
50 Айхенвальд Ю.И. Валерий Брюсов. Опыт литературной характеристики.
М., 1910.
 51
51 [
Тредьяковский В.К.] О древнем, среднем и новом стихотворении российском. — Сочинения Тредьяковского, т. I.
СПб., 1849, с. 766.
 52
52 См.:
Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды, т. I.
М., 1956, с. 137 сл.
 53
53 Но поскольку последний существует, поскольку налицо фонетическая традиция, заумная речь несравнима с доязыковыми ономатопеями, как обнаженный сегодняшний европеец несравним с голым троглодитом.
Воспроизведено по:
Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–1998.
М.: Языки русской культуры. 2000. С. 20–77, 758–761
Изображение заимствовано:
Thomas Houseago (b. 1972 in Leeds. Lives and works in Los Angeles).
Figure 1. 2008.
Wood, graphite, tuf-cal, hemp, iron, oil stick. 221×221×132.1 cm.
www.saatchi-gallery.co.uk/artists/artpages/thomas_houseago_figure1_c.htm


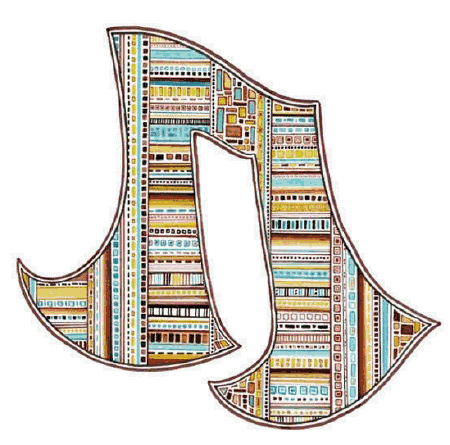 ингвистика давно не довольствуется изучением мёртвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. Документы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.
ингвистика давно не довольствуется изучением мёртвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. Документы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()