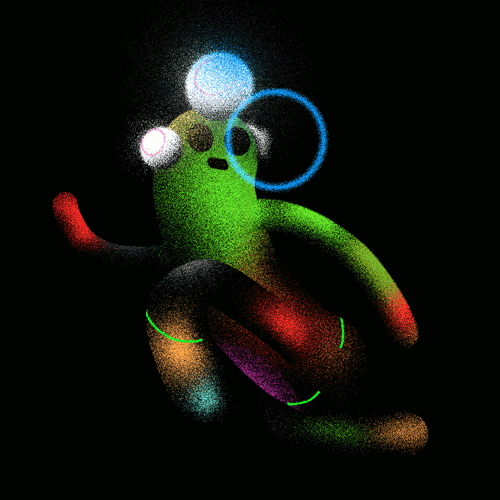Жан-Филипп Жаккар
Поэтический мир Велимира
и реальный мир Хлебникова
к проблеме функции референта в творчестве футуристов
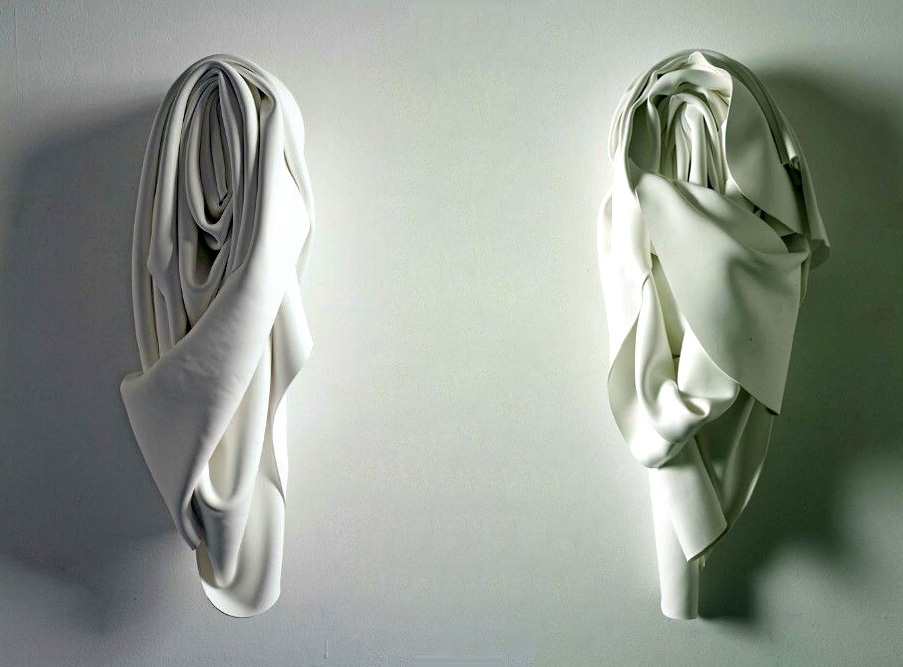
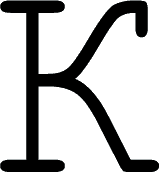
1913 году, когда по примеру “самодовлеющей живописи” в изобразительном искусстве литературный обиход обогатился понятиями “слово как таковое” (“самоценное”,
самовитое слово) и “заумь”, главным достижением русского авангарда оказалась доведённая до предела автореференциальность художественного слова: стихотворения, написанные на „собственном языке”, едва ли не полностью оторвались от действительности, отнюдь не отказываясь при этом от претензий на предметность. Эта общепринятая установка не нуждается в пересмотре, но и не отрицает отсылку к реалиям литературы того времени (по понятным причинам в области изобразительных искусств дело обстоит иначе). Особую наглядность такое сопоставление получает с началом Первой мировой войны: катастрофический масштаб текущих событий положил конец эстетическим спорам и громким заявлениям, вернув так называемое
содержание (или некую “нарративность”) в художественную так называемую
форму. Этот перелом наиболее отчётлив у итальянских футуристов, однако постановки указанной проблемы не избежать ни в русском футуризме, ни в творчестве Велимира Хлебникова. Вопрос важен ещё и тем, что сопоставление хлебниковской военной тематики с проявлениями таковой у европейцев позволяет наряду с
содержанием обнаружить вполне определённую гражданскую позицию.
Замечу предварительно, что дальнейшими наблюдениями у меня нет ни желания политизировать поэта, ни претензии на переворот в подходе к футуристической эстетике (это противоречило бы всему написанному мною за последние годы1 ). Речь о постановке вопроса, на который у меня нет чёткого ответа.
). Речь о постановке вопроса, на который у меня нет чёткого ответа.
На конференции «Первая мировая война и культура», состоявшейся в московском Государственном институте искусствознания в 2014 году, я постарался показать,2 что, в отличие от итальянских “смежников”, отношение к войне русских футуристов отмечено явным антимилитаризмом, выразившимся не только в фактах биографии, но и в художественных произведениях. Позволю себе повторить здесь некоторые положения, доказывающие это, на мой взгляд, непреодолимое различие между русским и итальянским футуризмом — во всяком случае, его маринеттиевской разновидностью (разумеется, не все последовали за вождём).
что, в отличие от итальянских “смежников”, отношение к войне русских футуристов отмечено явным антимилитаризмом, выразившимся не только в фактах биографии, но и в художественных произведениях. Позволю себе повторить здесь некоторые положения, доказывающие это, на мой взгляд, непреодолимое различие между русским и итальянским футуризмом — во всяком случае, его маринеттиевской разновидностью (разумеется, не все последовали за вождём).
Уже в первом манифесте за подписью Ф.Т. Маринетти (1909) читаем о войне как „единственной гигиене мира”.3 Эти слова можно счесть расхожим лозунгом, но увы — дальнейшая история итальянского футуризма показывает, что милитаризм Маринетти нельзя свести ни к элементарной провокации, ни даже к метафоре, какой бы сомнительной она ни была. Подлинная увлечённость войной очевидна уже из его биографии: задолго до начала мировой бойни Маринетти добровольцем воевал в Ливии, а затем на Балканах; известны его призывы объявить войну Австрии. Поэтому, когда в манифесте «Электрическая война» (1915) говорится о „переполненных ненавистью и дерзостью”4
Эти слова можно счесть расхожим лозунгом, но увы — дальнейшая история итальянского футуризма показывает, что милитаризм Маринетти нельзя свести ни к элементарной провокации, ни даже к метафоре, какой бы сомнительной она ни была. Подлинная увлечённость войной очевидна уже из его биографии: задолго до начала мировой бойни Маринетти добровольцем воевал в Ливии, а затем на Балканах; известны его призывы объявить войну Австрии. Поэтому, когда в манифесте «Электрическая война» (1915) говорится о „переполненных ненавистью и дерзостью”4 сердцах футуристов, это, к сожалению, следует понимать буквально. Точно так же буквально приходится понимать слова ‘нация’ и ‘раса’, что отчасти и объясняет лёгкость, с которой Маринетти отдастся самому грубому национализму, а затем и к фашизму.
сердцах футуристов, это, к сожалению, следует понимать буквально. Точно так же буквально приходится понимать слова ‘нация’ и ‘раса’, что отчасти и объясняет лёгкость, с которой Маринетти отдастся самому грубому национализму, а затем и к фашизму.
Но и это не самое главное. Встаёт проблема эстетики войны в целом; словесное отображение в данном случае менее важно. Здесь различие подходов итальянцев и русских очевидно как нигде более. Разумеется, интерес к новым технологиям там и тут очевиден — война служит обширным полем их применения. Более того, звуковая сторона войны (пулемётные очереди, орудийная канонада, гул самолётов) прочно вошла в тексты едва ли не всех футуристов. Таким образом, некоторые высказывания Маринетти можно счесть проявлением эстетической увлечённости вне каких-либо политических соображений.5 Таковыми могут показаться вошедшие в книгу «Занг тум-тум» (1914) стихи, составленные из „слов на свободе”. Маринетти вдохновила бомбардировка Адрианополя, очевидцем которой он был; эти “конкретные” стихи можно сопоставить с экспериментами А.Е. Кручёных той поры как на графическом, так и на звуковом уровне.
Таковыми могут показаться вошедшие в книгу «Занг тум-тум» (1914) стихи, составленные из „слов на свободе”. Маринетти вдохновила бомбардировка Адрианополя, очевидцем которой он был; эти “конкретные” стихи можно сопоставить с экспериментами А.Е. Кручёных той поры как на графическом, так и на звуковом уровне.
Однако политическая компонента присуща итальянскому футуризму с момента его зарождения: в декларации 1912 года, озаглавленной «Футуристический синтез войны»6 провозглашается, что и футуристическая эстетика, и ценности, которые футуризм должен взять на вооружение для борьбы с “пассатизмом” (passatismo), опираются на национальную основу. Симбиоз эстетики и политики сопутствует всей истории движения, и на его фоне создание незадолго до завершения войны Футуристической политической партии воспринимается как логический финал.7
провозглашается, что и футуристическая эстетика, и ценности, которые футуризм должен взять на вооружение для борьбы с “пассатизмом” (passatismo), опираются на национальную основу. Симбиоз эстетики и политики сопутствует всей истории движения, и на его фоне создание незадолго до завершения войны Футуристической политической партии воспринимается как логический финал.7
Ярчайшим проявлением такого симбиоза является обращение, которое Маринетти адресовал студентам Римского университета в декабре 1914 года.8 Претендуя на „сверхжёсткий, антиклерикальный, антисоциалистический и антитрадиционный национализм”, опирающийся на „силу итальянской крови”, футуризм предстаёт здесь как „неутомимая митральеза, направленная против армии мертвецов, подагриков и оппортунистов, которых мы хотим отстранить от власти и подчинить дерзкой творческой молодёжи”.9
Претендуя на „сверхжёсткий, антиклерикальный, антисоциалистический и антитрадиционный национализм”, опирающийся на „силу итальянской крови”, футуризм предстаёт здесь как „неутомимая митральеза, направленная против армии мертвецов, подагриков и оппортунистов, которых мы хотим отстранить от власти и подчинить дерзкой творческой молодёжи”.9 Там же читаем: „Футуризм восстал против интеллектуализма германского происхождения, прославляя инстинкт, силу, смелость, спорт и войну”.10
Там же читаем: „Футуризм восстал против интеллектуализма германского происхождения, прославляя инстинкт, силу, смелость, спорт и войну”.10 Очевидно, пропагандируется футуризм национальный (националистический) — выражение “итальянского гения” — и милитаристский:
Очевидно, пропагандируется футуризм национальный (националистический) — выражение “итальянского гения” — и милитаристский:
Сегодня в Италии
пассатисты — синоним
нейтралистов, пацифистов и евнухов, тогда как
футуристы — синоним
жёстких антинейтралистов.
11
Показательно и то, что в этом тексте война и футуризм уже совершенно смешиваются, граница между эстетикой и политикой исчезает:
Динамичный и агрессивный футуризм полностью реализуется сегодня в мировой войне ‹...›. Футуризм стал милитаризацией для художников-новаторов. Сегодня мы присутствуем на огромной футуристической выставке динамических и агрессивных картин, куда мы тоже хотим войти и выставить себя.
12
Таким образом, с началом войны „слова на свободе” приходят в идеальное соответствие с „бомбардировками, бронепоездами, окопами, артиллерийскими перестрелками, снарядами, электрифицированной колючей проволокой”.13 Война видится Маринетти абсолютным витальным принципом и реализацией футуристической программы искоренения “пассатизма”: „Война — усиленный Футуризм — никогда не убьёт Войну, как надеются пассатисты, но она убьёт пассатизм”.14
Война видится Маринетти абсолютным витальным принципом и реализацией футуристической программы искоренения “пассатизма”: „Война — усиленный Футуризм — никогда не убьёт Войну, как надеются пассатисты, но она убьёт пассатизм”.14
В России практически не найти футуриста, развивающего этот тип дискурса. Разумеется, как и везде в начале войны, налицо первая — если не патриотическая, то во всяком случае антигерманская — реакция. Однако, в отличие от Маринетти и его приверженцов, таковая не является плодом длительного милитаристского вызревания. И главное, этот недолгий порыв сменяет совершенно иное восприятие войны — как в биографо-индивидуальном, так и в эстетическом плане. У В.В. Маяковского, например, воинственность улетучилась мгновенно. О своих настроениях августа 1914 он вспоминает: „Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна”; в первую военную зиму он испытывает „отвращение и ненависть к войне”.15
Но этот факт биографии Маяковского меркнет в сравнение с отображением войны в текстах русских футуристов. Они полностью лишены политических рассуждений, столь занимавших Маринетти. Война как будто чурается принципа реальности, оставаясь тем, чем и прежде была в эстетических концепциях футуристов, а именно: метафорой или символом, шумовым оформлением, абстракцией и т.д., иными словами — по преимуществу литературным (художественным) объектом. Идеей сражения пропитаны едва ли не все лозунги футуризма (поединок с прошлым, с символизмом, с буржуа, с солнцем и т.д.), но фактически-то подразумевалась война духовного порядка. Таковая должна была способствовать, например, обретению Десятой страны из оперы «Победа над Солнцем» (1913) Кручёных и Матюшина. И вдруг война вязнет в грязи поля битвы. Становится сомнительной целесообразность новых технологий и, что ещё обиднее — нового человека, о котором футуризм грезил в своих утопиях. В итоге, за редким исключением, война в текстах русских футуристов напрочь теряет своё метафорическое измерение и показана именно такой, чем является на самом деле — гигантской горой трупов.16 Вот здесь-то и возникает новое содержание.
Вот здесь-то и возникает новое содержание.
Это наблюдается у всех футуристов. Маяковский противопоставляет изящную словесность войне уже в 1914 году. В «Штатской шрапнели» читаем:
Мне легче взять верное перо, чем верный прицел гаубицы. Мне близки слова: „Надменный воин к войне тревожен, / поэт тревожен к своим стихам”.
17
Свою статью он заключает известным высказыванием:
может быть, вся война выдумана только для того, чтоб кто-нибудь написал одно хорошее стихотворение.
18
Рассматривая поэзию Маяковского начала войны, можно только удивляться отсутствию воинственной риторики: когда война выходит из чисто литературной или языковой сферы и становится тематикой, всегда преобладает трагический аспект, с потоками крови, отрезанными членами и т.п., при ужасающем физиологизме с сомнительной “гигиенической” ценностью. Кульминацией здесь становится поэма «Война и мир» (1915–1916).
Подобная трансформацию очевидна и у Хлебникова.19 Его одушевление отнюдь не милитаристское и относится скорее к покоряющей красоте метафоры войны как таковой. Боевые действия занимают его главным образом в плане расчётов периодичности исторических событий для выявления законов времени.20
Его одушевление отнюдь не милитаристское и относится скорее к покоряющей красоте метафоры войны как таковой. Боевые действия занимают его главным образом в плане расчётов периодичности исторических событий для выявления законов времени.20 17 декабря 1914 — одновременно с обращением Маринетти к римским студентам — он пишет М.В. Матюшину, что допустил ошибку в расчётах: предсказанное двумя днями ранее морское сражение не состоялось.21
17 декабря 1914 — одновременно с обращением Маринетти к римским студентам — он пишет М.В. Матюшину, что допустил ошибку в расчётах: предсказанное двумя днями ранее морское сражение не состоялось.21 Что же касается опубликованнного в 1915, а точнее в декабре 1914 «Нового учения о войне» (с подзаголовком «Битвы 1915–1917 гг.»), таковое представляется ему клинописью о судьбах22
Что же касается опубликованнного в 1915, а точнее в декабре 1914 «Нового учения о войне» (с подзаголовком «Битвы 1915–1917 гг.»), таковое представляется ему клинописью о судьбах22 и целиком состоит из расчётов периодичности морских сражений, кратной 317 годам. Именно этим изысканиям Хлебников предаётся в начале войны (одновременно работая над эссе «Время — мера мира»). Ничего воинственного в обоих случаях не усмотреть и под лупой. То же самое наблюдается в знаменитом «Воззвании к славянам», опубликованном в газете «Вечер» ещё 16 октября 1908 года (без подписи, под заглавием «Воззвание учащихся славян»), где Хлебников предсказал Первую мировую войну. В контексте аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией можно подозревать у автора воинственность, едва ли не достойную Маринетти: Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя!23
и целиком состоит из расчётов периодичности морских сражений, кратной 317 годам. Именно этим изысканиям Хлебников предаётся в начале войны (одновременно работая над эссе «Время — мера мира»). Ничего воинственного в обоих случаях не усмотреть и под лупой. То же самое наблюдается в знаменитом «Воззвании к славянам», опубликованном в газете «Вечер» ещё 16 октября 1908 года (без подписи, под заглавием «Воззвание учащихся славян»), где Хлебников предсказал Первую мировую войну. В контексте аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией можно подозревать у автора воинственность, едва ли не достойную Маринетти: Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя!23 Однако следует заметить, что несколько воинственный панславизм Хлебникова довольно-таки абстрактен и весьма литературен. А главное — в нём нет истинно националистического или патриотического в политическом смысле: речь идёт о славянах вообще и, в конечном итоге, о том, что их объединяет, т.е. о корнях и глубинных слоях соответствующих языков — средоточия языковой утопии, лежащей в основе будетлянства Хлебникова.24
Однако следует заметить, что несколько воинственный панславизм Хлебникова довольно-таки абстрактен и весьма литературен. А главное — в нём нет истинно националистического или патриотического в политическом смысле: речь идёт о славянах вообще и, в конечном итоге, о том, что их объединяет, т.е. о корнях и глубинных слоях соответствующих языков — средоточия языковой утопии, лежащей в основе будетлянства Хлебникова.24
Однако из этого не следует, что война у Хлебникова всегда является подручным сырьём или остается строго в словесных рамках, выступая исключительно в качестве тропа. Так же, как у Маяковского, налицо довольно сложный вопрос о референциальности его текстов. Как было сказано, в основе футуристической эстетике лежит главным образом автореференциальность поэтического “слова как такового”. А здесь внимание волей-неволей порой обращено к абсолютно конкретной действительности. И когда в текстах Хлебникова говорится — скорее в порядке исключения — о реальной войне, её восприятие неотделимо от кровавого и смертоносного ужаса.
Трагический настрой Хлебникова очевиден с самого начала войны: поэма «Смерть в озере» (Колесница хлынула Мора / И за нею влажные мечи…25 ) — отклик на поражения при Танненберге в августе 1914 и гибель армии генерала Самсонова в Мазурии. Как показала Н.А. Гурьянова, этой катастрофой пронизана и «Военная опера»26
) — отклик на поражения при Танненберге в августе 1914 и гибель армии генерала Самсонова в Мазурии. Как показала Н.А. Гурьянова, этой катастрофой пронизана и «Военная опера»26 Хлебникова–Кручёных. Исследовательница доказательно продемонстрировала успешный альянс на первый взгляд противоречащих друг другу умонастроений авторов:
Хлебникова–Кручёных. Исследовательница доказательно продемонстрировала успешный альянс на первый взгляд противоречащих друг другу умонастроений авторов:
Любопытно, как эти две категоричные и почти противоположные позиции отражаются в тексте: линия Кручёных — в “реквиеме” погибшим, в гротеске незримо присутствующей смерти и контрасте
нарочито опошленных отголосков обывательских истин; героический эпос Хлебникова — в поэтике времён и поколений, в культовом поклонении юности, во
вселенских образах воина и поэта, Неземного завоевателя и Мечтателя.
27
В развитие этого наблюдения смею утверждать, что именно указанная взаимодополняемость придаёт “опере” антивоенную силу: гротескные видения и заумные шумовые эффекты Кручёных вкупе с эпическим трагизмом Хлебникова не только развенчивают войну, но и расправляются с ней.28
Однако сказанное выше не снимает вопроса референциальности художественного текста. С одной стороны, можно повторить, что мы остаемся в рамках словесной конструкции, а для авторов “оперы”
война была в большей степени метафорой, нежели сюжетом, и в восприятии и поэтике футуризма имела мало общего с конкретикой любой войны.
29
С другой — нельзя в очередной раз не отметить: как правило, ставшую реальностью войну на тематическом уровне русские футуристы раскрывают с позиции абсурда кровавой бойни. Мало сказать, что точка зрения Хлебникова и Кручёных, равно как и других будетлян, предельно далека от “футуристического” милитаризма итальянцев — за литературной игрой угадывается не только содержание, но и вполне определённая гражданская позиция, — разумеется, гораздо более благородная, чем у Маринетти.
Этими краткими заметками я пытаюсь внимание на следующее: помимо необходимого формально-эстетического подхода к поэтике Хлебникова (и других футуристов), стоит интересоваться и реалиями их произведений. Одно не исключает другого, более того: оба подхода связаны до такой степени, что вынуждают нас расширить теоретический инструментарий. Это сделала Л. Юргенсон в своей увлекательной статье, предлагая в качестве инструмента формально-тематического анализа понятие мифо-документ. Исследовательница показывает, как, начиная с 1914 года, и особенно в годы гражданской войны и последующей голодухи,
вербальность, заметная в 1907–1909 годы, уступает место нарративности (в таких текстах как «Ночной обыск», «Голод», «Председатель Чеки»).
30
Юргенсон, задавая вопрос: „Как сочетать “самовитое слово” с квазирепортажностью, отсылающей к реалиям внепоэтическим?”, убедительно показывает, что
обращение к Хлебникову-свидетелю может способствовать осмыслению картины массового насилия в литературе, равно как и осмыслению проблемы референтности, и позволит по-новому подойти к проблеме соотнесения “самовитого слова” с внешней событийностью.
31
В этом контексте мифо-документ позволяет исследовательнице снять оппозицию между самовитым словом и референциальным письмом. Автореференциальный язык Хлебникова представляет, по её мысли, систему уловления событий в сеть мифологических репрезентаций, а некоммуникативная сущность его поэзии соответствует невыразимой сущности самых экстремальных событий, о которых он повествует. Иными словами, Хлебников создает новый язык, соответствующий новым реалиям или предвосхищающий их.
Здесь говорится лишь об одном из возможных подходов к творчеству Хлебникова, но следует обратить внимание на его несомненное достоинство: предлагается трактовка, свободная от вековой борьбы между, грубо говоря, “формалистами” и “реалистами”. Другими словами — между Велимиром и Хлебниковым.
—————————————
Примечания  1
1 См.:
Жаккар Ж.-Ф. Литература как таковая.
М.: НЛО, 2011.
 2 Жаккар Ж.-Ф
2 Жаккар Ж.-Ф. Победа над войной (об антимилитаризме русских футуристов) // „На крайнем пределе веков”: Первая мировая война и культура. Сборник статей / Ред.-сост. Е.А. Бобринская, Е.С. Вязова.
М.: ГИИ, 2017. С. 124–135.
 3
3 Цит. по:
De Villers J.-P. A. Le premier manifeste du futurisme.
Ottawa. 1986. P. 135. Перевод В.Г. Шершеневича (репринт).
 4
4 Цит. по: Авангард в культуре ХХ века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / [под ред. Ю.Н. Гирина].
М., 2010. Кн. 1. С. 378.
 5
5 Именно так, впрочем, Шершеневич прочтёт «Битву у Триполи» (1911), где Маринетти восторгается зрелищем, на котором он присутствует (см.:
Маринетти Ф.T. Битва у Триполи (26 октября 1911 г.), пережитая и воспетая Ф.Т. Маринетти / пер. и предисл. В. Шершеневича; портр. раб. Н. Кульбина. Б. м., 2010).
 6
6 В России манифест-афиша был опубликован как приложение к «Битве у Триполи» в переводе В.Г. Шершеневича (
M., 1915).
 7
7 См.:
Маринетти Ф.Т. Манифест-программа футуристической политической партии // Второй футуризм: Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915–1933 / сост. и пер. Е. Лазаревой.
М., 2013. С. 88–95.
 8
8 См.:
Marinetti F.T. In quest’anno futurista.
Milano, [1914] (листовка). Переизд. в кн.:
Marinetti F.T. Guerra sola igiene del mondo.
Milano, 1915;
Marinetti F.T. Futurismo e fascismo.
Foligno, 1924 (под заглaвием «Manifesto agli studenti»).
 9
9 Цит. по: Manifesti futuristi: manifesti, proclami, interventi e documenti teorici del futurismo, 1904–1944: In 4 vol. / L. Curso (ed.).
Firenze, 1980. Vol. 1. Б. п. Л. 1. Перевод мой.
 10
10 Там же. Л. 2.
 11
11 Там же. Л. 3. Курсив автора.
 12
12 Там же.
 13
13 Там же.
 14
14 Там же. Л. 4. Выделено автором.
 15
15 См.:
Маяковский В. ПСС: В 13 т.
М., 1955–1961. Т. 1. С. 22–24.
 16
16 Об этом см. главку «War as a metaphor» в кн.:
Gurianova N. The Aesthetics of Anarchy. P. 162–167.
 17 Маяковский В
17 Маяковский В. ПСС. Т. 1. С. 303.
 18
18 Там же. С. 304.
 19
19 О Хлебникове во время войны см.:
Weststeijn W.G. Chlebnikov and the First World War // Velimir Chlebnikov / J. Holthusen, J. R. Dцring-Smirnov et al. (Hrsg.).
München, 1986. P. 187–211.
 20
20 Эта характеристика была уже отмечена в своё время В. Вестстейном (Там же. P. 190–191).
 21
21 См.:
Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т.
М., 2000–2006. Т. 1. С. 504.
 22
22 Там же. Т. 6 (1). С. 83.
 23
23 Там же. С. 198.
 24
24 Кручёных прекрасно понял подлинный смысл написанного соавтором — своё предисловие к «Новому учению о войне» он завершает словами: „Но теперь храбрый Хлебников сделал вызов самой войне — к барьеру!” (Там же. С. 388).
 25 Хлебников В
25 Хлебников В. Собр. соч. Т. 1. С. 312–313. См. также «Тризна»:
Гол и наг лежит строй трупов, /
Песни смертные прочли… (Там же. С. 314).
 26 Гурьянова Н
26 Гурьянова Н. Эпос побеждённой войны // Художник и его текст: Русский авангард: история, развитие, значение / сост. Н.В. Злыднева, М.Л. Спивак, Т.В. Цивьян.
М., 2011. С. 157–158. “Опера” относительно недавно была опубликована и подробно прокомментирована Н. Гурьяновой (см.:
Гурьянова Н. «Военная опера» А. Кручёных и В. Хлебникова // Russian Literature. 2009. LXV–I/II/III. С. 183–236).
 27 Гурьянова Н
27 Гурьянова Н. Эпос побеждённой войны. С. 156–157.
 28
28 Ошибка Матюшина, который в одном из писем упоминает об этой опере, называя её «Побеждённая война», — в этом смысле очень показательна (см.:
Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда.
Стокгольм, 1976. С. 151).
 29 Гурьянова Н
29 Гурьянова Н. Эпос побеждённой войны. С. 156.
 30 Юргенсон Л
30 Юргенсон Л. Хлебников — очевидец: создание мифо-документа // 1913. «Слово как таковое»: к юбилейному году русского футуризма / сост. и науч. ред. Ж.-Ф. Жаккара и А. Морар.
СПб., 2015. С. 151–152.
 31
31 Там же. С. 144.
Воспроизведено с незначительной стилистической правкой
по авторской электронной версии.
Впервые напечатано в:
Велимир Хлебников и мировая художественная культура. Материалы XII Международных Хлебниковских чтений,
посвящённых 130-летию со дня рождения Велимира Хлебникова. Астрахань, 2015. С. 30–35.
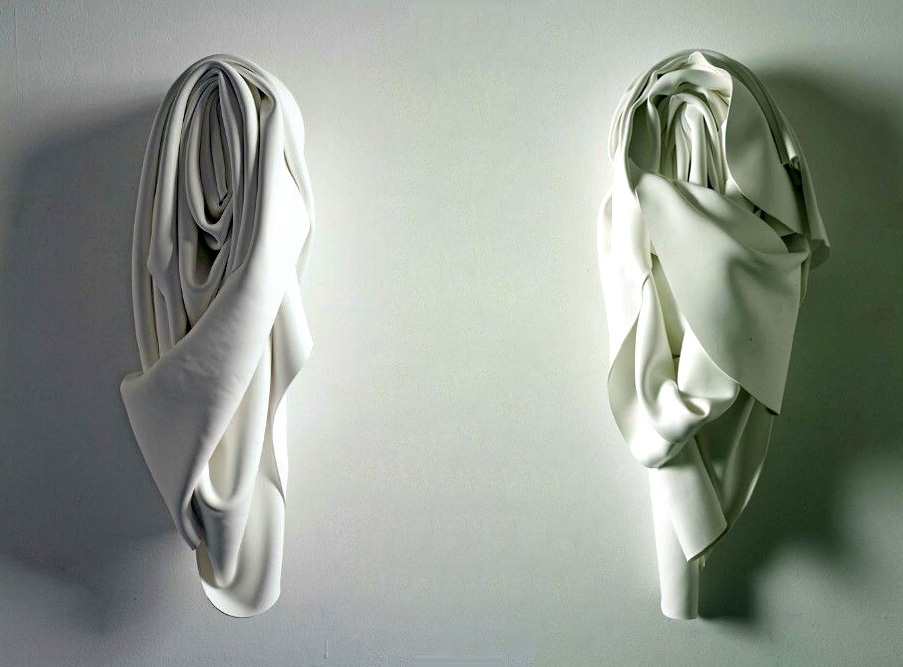
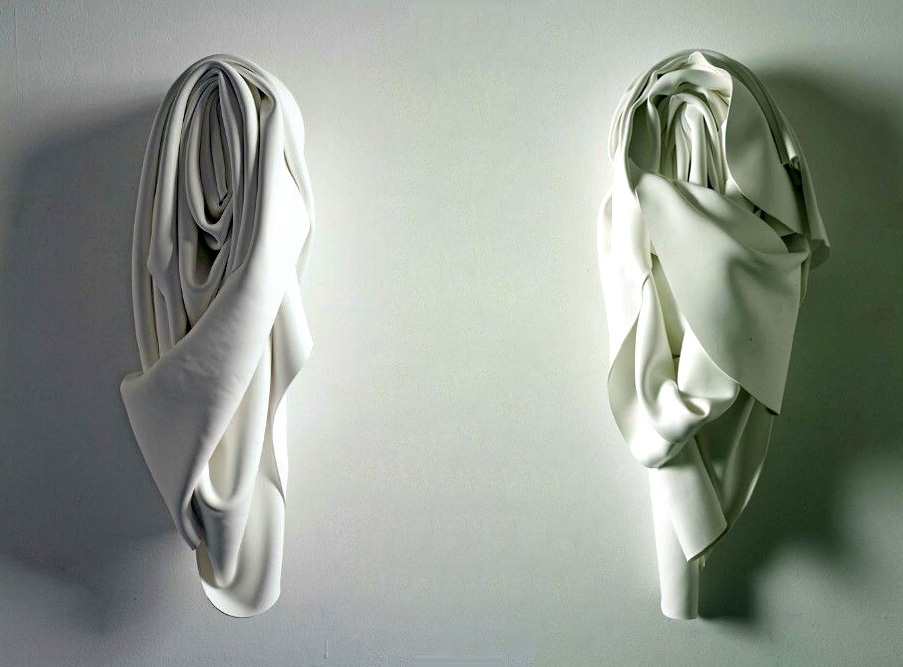
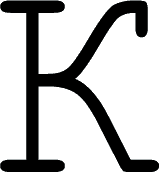 1913 году, когда по примеру “самодовлеющей живописи” в изобразительном искусстве литературный обиход обогатился понятиями “слово как таковое” (“самоценное”, самовитое слово) и “заумь”, главным достижением русского авангарда оказалась доведённая до предела автореференциальность художественного слова: стихотворения, написанные на „собственном языке”, едва ли не полностью оторвались от действительности, отнюдь не отказываясь при этом от претензий на предметность. Эта общепринятая установка не нуждается в пересмотре, но и не отрицает отсылку к реалиям литературы того времени (по понятным причинам в области изобразительных искусств дело обстоит иначе). Особую наглядность такое сопоставление получает с началом Первой мировой войны: катастрофический масштаб текущих событий положил конец эстетическим спорам и громким заявлениям, вернув так называемое содержание (или некую “нарративность”) в художественную так называемую форму. Этот перелом наиболее отчётлив у итальянских футуристов, однако постановки указанной проблемы не избежать ни в русском футуризме, ни в творчестве Велимира Хлебникова. Вопрос важен ещё и тем, что сопоставление хлебниковской военной тематики с проявлениями таковой у европейцев позволяет наряду с содержанием обнаружить вполне определённую гражданскую позицию.
1913 году, когда по примеру “самодовлеющей живописи” в изобразительном искусстве литературный обиход обогатился понятиями “слово как таковое” (“самоценное”, самовитое слово) и “заумь”, главным достижением русского авангарда оказалась доведённая до предела автореференциальность художественного слова: стихотворения, написанные на „собственном языке”, едва ли не полностью оторвались от действительности, отнюдь не отказываясь при этом от претензий на предметность. Эта общепринятая установка не нуждается в пересмотре, но и не отрицает отсылку к реалиям литературы того времени (по понятным причинам в области изобразительных искусств дело обстоит иначе). Особую наглядность такое сопоставление получает с началом Первой мировой войны: катастрофический масштаб текущих событий положил конец эстетическим спорам и громким заявлениям, вернув так называемое содержание (или некую “нарративность”) в художественную так называемую форму. Этот перелом наиболее отчётлив у итальянских футуристов, однако постановки указанной проблемы не избежать ни в русском футуризме, ни в творчестве Велимира Хлебникова. Вопрос важен ещё и тем, что сопоставление хлебниковской военной тематики с проявлениями таковой у европейцев позволяет наряду с содержанием обнаружить вполне определённую гражданскую позицию.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()