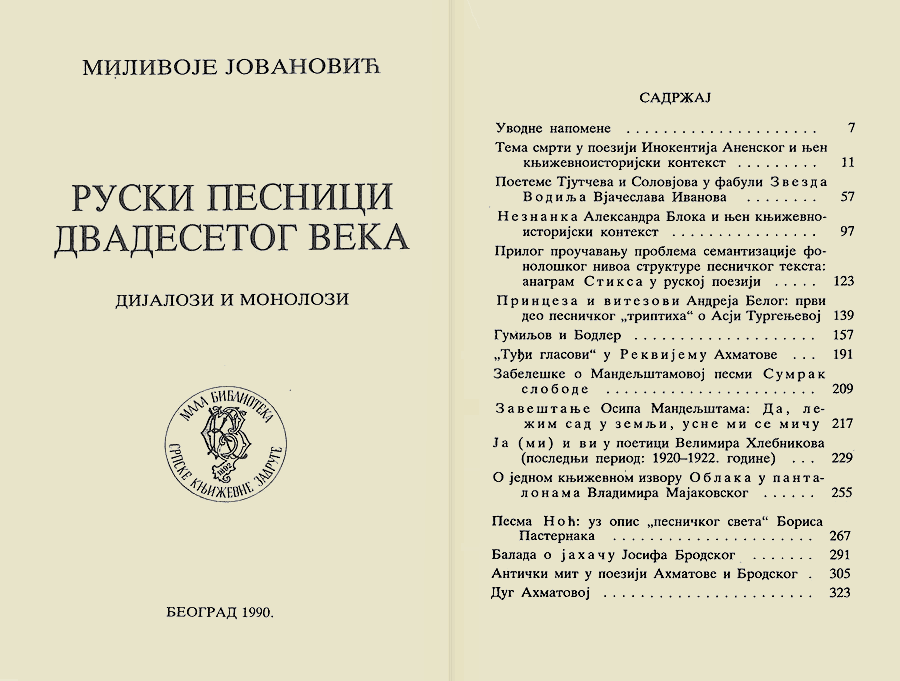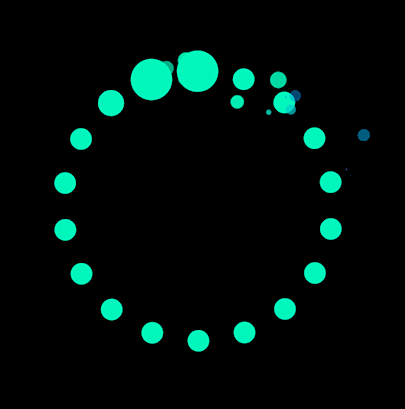Миливое Йованович
Я (Мы) и вы в поэтике Велимира Хлебникова на излёте жизни (1920–1922)
От переводчика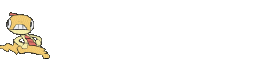

2 января 1920 года Хлебников писал своей сестре Вере:
Я забыл мир созвучий; их я как хворост принёс в жертву костру чисел.
1
В августе того же года поэт это повторил:
совершенно исчезли чувства к значениям слов. Только числа.
2
В записи от 15 июня 1920 г. читаем:
открыл кратность в азбуке. Так началась полоса числа после сыпняка;
3
несколько месяцев спустя (17 декабря) он
открыл чистые законы времени ‹...›
ключ к часам человечества ‹...›
основу предвидения будущего.
4
Это событие, о котором Хлебников мечтал со дня Цусимского сражения,
5
произошло в Баку,
на родине первого знакомства людей с огнём и приручения его,
6
то есть в обстановке своеобразного прикосновения к мифу, подобно едва ли не всем хлебниковским начинаниям. Там, в Баку,
в учёном обществе при университете «Красная Звезда» поэт сделал доклад о своём открытии, предсказав на следующий год установление в Азербайджане Советской власти.
7
Не вдаваясь в подробности, он сообщил об этом своим родным и близким — сестре Вере, В. Ермилову, Л. Брику, П. Митуричу.
8
Открыл основной закон времени и думаю, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до 3.
(НП: 385)
Своё открытие Хлебников не разглашал (Предвидение будущего есть, хранится за надёжной стеной моего молчания. Оно кончится осенью. — НП: 385–386), ожидая выхода в свет доказывающих его правоту расчётов (СП V: 325). В отношении самого закона времени он сохранял некоторую осторожность. С одной стороны, поэту хотелось начертать его на знамени будетлян (см. письмо П. Митуричу от 14 марта 1922 г. — СП V: 325), с другой — он помнил о разного рода недоразумениях, сопровождавших его “предсказания” в недавнем прошлом9 и опасался их повторения. Об окончательном изводе своих законов Хлебников высказался с толикой чёрного юмора:
и опасался их повторения. Об окончательном изводе своих законов Хлебников высказался с толикой чёрного юмора:
если люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее ‹...›,
я буду обучать ему лошадей. Может быть, государство лошадей окажется более способными учениками, чем государство людей.
Лошади будут мне благодарны, у них, кроме езды, будет ещё один подсобный заработок: предсказывать людям их судьбу и помогать правительствам, у которых еще есть уши.
10
Этого намерения в духе Джонатана Свифта Хлебников придерживался и в дальнейшем:
Я полон решимости, если законы не привьются среди людей, обучать им порабощенное племя коней. Эту мою решимость я уже высказывал в письме к Ермилову.
(СС III: 472)11
К сожалению, при жизни Хлебникова был обнародован только «Отрывок из Досок судьбы», второй и третий Листы («Судьбы Отдельных Народов» и «Азбука неба») были напечатаны уже после смерти поэта; множество записей, примыкающих к Доскам судьбы, до сих пор не увидели свет, ими лишь недавно занялись Б. Лённквист и В. Григорьев. Короче говоря, Великому Числяру так и не представилась возможность проверить действенность своих расчётов.
Открытие Хлебникова опирается на магическую семантику числоимён 2n и 3n, отчасти напоминающую веру древних славян в чёт и нечет (СС III: 473), которую современные учёные увязывают с древнекитайской теорией чисел (Инь и Ян).12 По мнению Хлебникова, мировая изба должна быть срублена из брёвен двойки и тройки искусным плотником, держащим в руке действие возведения в степень.13
По мнению Хлебникова, мировая изба должна быть срублена из брёвен двойки и тройки искусным плотником, держащим в руке действие возведения в степень.13 Два — число молодости, число роста успеха, и держит вершину угла событий, точно рог для песен; ему противоборствует тройка — число упадка, убывающего ряда звеньев какой-нибудь цепи событий. Три, закрывая собой угол событий, идёт к его тупику. И далее:
Два — число молодости, число роста успеха, и держит вершину угла событий, точно рог для песен; ему противоборствует тройка — число упадка, убывающего ряда звеньев какой-нибудь цепи событий. Три, закрывая собой угол событий, идёт к его тупику. И далее:
два — дорога от рождения к жизни, к наибольшему мировому расцвету, к здоровью, два это дорога дела, добра, два даёт, делает, дышит. Два — доброе число, оно соединяет события, друзей, 2 начинает ряд восходящих событий,
тогда как
3 это крыло смерти, потому что при нём, точно во время старости, события идут от жизни к смерти, по дороге к смерти. ‹...›
Три — злое число, сказали бы предки.14
Возведённые в степень n, числа 2 и 3 символизируют жизнь и смерть ,15 причём во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней (СП V: 324).16
причём во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней (СП V: 324).16 Таким образом, в историческом времени мир следует понимать как поприще борьбы 3 и 2.17
Таким образом, в историческом времени мир следует понимать как поприще борьбы 3 и 2.17 Борьба тройки и двойки18
Борьба тройки и двойки18 определяет, помимо прочего, взаимоотношения Востока и Запада (в «Зангези»: Востока и запад волны / сменяются степенью трёх. — СП III: 352).19
определяет, помимо прочего, взаимоотношения Востока и Запада (в «Зангези»: Востока и запад волны / сменяются степенью трёх. — СП III: 352).19 К основному закону времени Хлебников добавил закон качелей, кратко изложенный в стихотворении «Закон качелей велит...» 1914 года (СП II: 94). Этот закон определяет способ собирания “страниц» человечества в Единую книгу, позволяет измерить “алгебраическое сходство людей” (в том числе вождей человечества) и уточняет намеченное строкой упомянутого выше стихотворения: А владыками земли быть то носорогу, то человеку.20
К основному закону времени Хлебников добавил закон качелей, кратко изложенный в стихотворении «Закон качелей велит...» 1914 года (СП II: 94). Этот закон определяет способ собирания “страниц» человечества в Единую книгу, позволяет измерить “алгебраическое сходство людей” (в том числе вождей человечества) и уточняет намеченное строкой упомянутого выше стихотворения: А владыками земли быть то носорогу, то человеку.20
Основной закон времени увенчал изыскания Хлебникова, впервые отчётливо изложенные в диалоге «Учитель и ученик». Речь шла о нахождении количественной связи начал времени и пространства. Первый мост между ними (СС III: 477) и разбиении исторического времени на циклы (не события управляют временами, но времена управляют событиями. — СС III: 494). В отличие от мыслителей прошлого, Хлебников ставил перед собой задачу дать очерк жизни человечества на земном шаре не краской слов, а строгим резцом уравнений.21 По его мнению, искусство сочетания личных чисел людей с мировой „правдой” чистых законов времени есть замочная скважина современности, ждущая прочного ключа.22
По его мнению, искусство сочетания личных чисел людей с мировой „правдой” чистых законов времени есть замочная скважина современности, ждущая прочного ключа.22 Такого рода умопостроения ничего общего с проверяемыми опытным путём взглядами не имеют.
Такого рода умопостроения ничего общего с проверяемыми опытным путём взглядами не имеют.
Закон Хлебникова уравнивает всё, что поддаётся познанию. В «Отрывке из Досок судьбы» читаем:
Если существуют чистые законы времени, то они должны управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это душа Гоголя, «Евгений Онегин» Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги земной коры и страшная смена царства змей царством людей, смена Девонского времени временем, ознаменованным вмешательством человека в жизнь и строение земного шара.
(СС III: 479)
Даже грамматика23 и художественное творчество — включая его, Хлебникова, собственное, вкупе с биографией — входят в единую формулу мира.24
и художественное творчество — включая его, Хлебникова, собственное, вкупе с биографией — входят в единую формулу мира.24 Хлебников утверждал, что, поскольку законы вселенной и законы счета совпадают, ‹...› в мире остаются только одни числа, так как числа и есть ничто иное, как отношения между единым, между тождественным, то, чем может разниться единое. (СС III: 512). И звезда есть число, — читаем в другом месте, — и судьба есть число, и смерти есть число, и права есть число.25
Хлебников утверждал, что, поскольку законы вселенной и законы счета совпадают, ‹...› в мире остаются только одни числа, так как числа и есть ничто иное, как отношения между единым, между тождественным, то, чем может разниться единое. (СС III: 512). И звезда есть число, — читаем в другом месте, — и судьба есть число, и смерти есть число, и права есть число.25 Итог этих рассуждений — величественное видение:
Итог этих рассуждений — величественное видение:
Мы начинаем понимать земной шар как большую площадь для зрителей, где под разрезанной, трепещущей занавесью неба происходит вечная игра числа для себя. Оно переодевается то людьми, то деревьями, то жизнью облаков, но везде слышен его знакомый голос.26
Отсюда — один шаг до игры с известным революционным воззванием (Вся власть уравнениям через вычисления!).27 Поэт отнюдь не подтрунивает над социально-политической программой современности — он ставит себе задачу более высокого порядка: победить Судьбу, чудесную швею (СП III: 295), т.е. Парку, изображённую в пушкинских «Стихах, сочинённых ночью во время бессонницы» мышью. В уже цитированном письме к сестре Вере от 2 января 1920 года Хлебников настаивает:
Поэт отнюдь не подтрунивает над социально-политической программой современности — он ставит себе задачу более высокого порядка: победить Судьбу, чудесную швею (СП III: 295), т.е. Парку, изображённую в пушкинских «Стихах, сочинённых ночью во время бессонницы» мышью. В уже цитированном письме к сестре Вере от 2 января 1920 года Хлебников настаивает:
Вся ‹...› мрачная правда, что мы живем в мире смерти, до сих пор не брошенной к ногам как связанный пленник, как покорённый враг, — она заставляет во мне подыматься кровь воина “без кавычек”.
(СП V: 316)
«Доски судьбы» были попыткой найти оправдание смертям (СС III: 472), более того, — в соответствии с «Гаммой будетлянина» (то есть на уровне математического понимания истории) изменить наше отношение к смерти: увидеть в ней временное купание в волнах небытия (СП V: 241). Хлебников искренне верил, что открытие чистых законов времени приведёт к прекращению войн, и такое грубое решение очередного уравнения времени более не пройдёт. Перекличка с вдохновенной программой Николая Фёдорова вполне ощутима, стремление же накормить весь земной шар хлебом одного и того же числа28 свидетельствует о сочувствии религиозно-социальной дилемме Ивана Карамазова, своеобразно преломленной в творчестве современников Хлебникова («Двенадцать» Блока, «Мы» Замятина и др.). В учении Хлебникова приём всеобщей измеримости распространён на и Бога; утверждается, что меродатели одолеют веродателей, и мера победит веру.29
свидетельствует о сочувствии религиозно-социальной дилемме Ивана Карамазова, своеобразно преломленной в творчестве современников Хлебникова («Двенадцать» Блока, «Мы» Замятина и др.). В учении Хлебникова приём всеобщей измеримости распространён на и Бога; утверждается, что меродатели одолеют веродателей, и мера победит веру.29 Это учение коренным образом расходится с законами познаваемого мира, ибо Хлебников измерял “ритмы человечества” извне, в отрыве от реалий окружающей действительности.30
Это учение коренным образом расходится с законами познаваемого мира, ибо Хлебников измерял “ритмы человечества” извне, в отрыве от реалий окружающей действительности.30
Средствами поэзии подобные умопостроения сопроводить нелегко, поэтому песни Хлебникова некоторое время молчат (СП V: 318), в чём он признаётся Маяковскому (см. письмо от 18 февраля 1921 года). Стихи должны строиться по законам Дарвина, — утверждал о ту пору Хлебников, но по каким-то причинам решить поставленную задачу ему не удавалось, отсюда и упадническая запись от 7 декабря 1921 года: Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется чужим (СП V: 318).31 Тем не менее, в творческом плане последние два года жизни выдались для автора «Зангези» как нельзя более удачными, только плодовитость эта была не поэтическим истолкованием Хлебникова-мыслителя, а настойчивой “автобиографичностью” вкупе с “внутренней драмой” такого рода “автопортретов”.
Тем не менее, в творческом плане последние два года жизни выдались для автора «Зангези» как нельзя более удачными, только плодовитость эта была не поэтическим истолкованием Хлебникова-мыслителя, а настойчивой “автобиографичностью” вкупе с “внутренней драмой” такого рода “автопортретов”.

Автобиографическое и монологическое творчество Хлебникова с самого начала строилось на резком отграничении мира
Я и мира
вы. Во время зарождения и расцвета
будетлянства, а в дальнейшем и “предземшарства”, поэтическое
Я Хлебникова, как правило, растворено в собирательном
Мы, в рамках которого определяются задачи
Я. В ту пору
вы, за исключением редких случаев его устоявшегося, “этикетного” употребления в стихотворных посланиях (и даже в “любовных” стихах),
32
являло, главным образом, привычный, устоявшийся мир проверенных временем представлений и рассуждений. Оппозиция эта испытывала определённые колебания, обусловленные социально-исторической обстановкой царской России; революция, предсказанная расчётами Хлебникова, усилила востребованность и драматизм юношеского “самоотвержения”. Излёт жизни, включая открытие
чистых законов времени, обозначил подвижки, которые, на сей раз, были обусловлены неблагоприятными для “числовой утопии” поэта обстоятельствами, да и просто невзгодами его скитальческой жизни.
В ряде произведений того времени совокупное Мы возобновляет будетлянские попытки утвердиться на глыбе будущего и разработать законы, которые можно не слушать, но нельзя ослушаться (СП V: 165). Однако на сей раз Мы адресуется не к ничтожному вы, а ко всему человечеству (отсюда и заглавие «Всем! Всем! Всем!» в подражание знаменитому революционному призыву — СП V: 164–165), которое должно понять: никто не может нарушить наши законы, ибо таковые сделаны не из камня желания и страстей, а из камня времени. Эти законы даны впервые и навсегда (СС III: 514), поэтому Хлебников счёл возможным объявить дату их открытия новым “сотворением мира”.33 Неспроста Велимир Первый, истолковывающий новооткрытые законы времени и направленность Мы — Председателя Земного Шара — на мятеж и восстание вселенского размаха, приказывает, по уже установившемуся обычаю, не людям, а солнцам (СП V: 167), как бы отрекаясь от чреватого наказуемой гордыней противопоставления Мы и вы: последнее ныне олицетворяет весь род людской, от которого требуется лишь поддержка и понимание поставленных перед ним задач. Это стремление выразилось в ряде призывов к единению и равенству.34
Неспроста Велимир Первый, истолковывающий новооткрытые законы времени и направленность Мы — Председателя Земного Шара — на мятеж и восстание вселенского размаха, приказывает, по уже установившемуся обычаю, не людям, а солнцам (СП V: 167), как бы отрекаясь от чреватого наказуемой гордыней противопоставления Мы и вы: последнее ныне олицетворяет весь род людской, от которого требуется лишь поддержка и понимание поставленных перед ним задач. Это стремление выразилось в ряде призывов к единению и равенству.34 Цель всеобщего движения к свободе (огненным песням) — воскрешение (Каждый потом оживёт — СП III: 150) через смерть, что в очередной раз сближает учение Хлебникова с утопией Фёдорова.
Цель всеобщего движения к свободе (огненным песням) — воскрешение (Каждый потом оживёт — СП III: 150) через смерть, что в очередной раз сближает учение Хлебникова с утопией Фёдорова.
Это касается и тех поэтических произведений, в которых наряду с Мы присутствует Я, или Я выступает в роли сочлена Мы. Так, во «Вломе Вселенной», возгласы: Мы полетим со стульев земного шара / В пропасть звёзд ‹...› Мы обратим её в куклу! / Мы заставим её закатывать глаза / И даже говорить папа и мама и др. — СП III: 96, 97), сопровождаются в репликах Сына и в авторском “комментарии” пророческими словами Я:
Я дал обещание всё понять,
Чтоб простить всем и всё
И научить их этому.
Я собрал старые книги,
Собирал урожаи чисел, кривым серпом памяти,
Поливал их моей думою ‹...›
Я нашёл истины величавые и прямые ‹...›
Мой разум, точный до одной энной,
Как уголь сердца, я вложил в мёртвого пророка вселенной,35 Дыханием груди вселенной,
Дыханием груди вселенной,
И понял вдруг: нет времени.
На крыльях поднят как орёл, я видел сразу, что было и что будет ‹...›
И стало ясно мне, Что будет позже. ‹...›
Уже! Я встал на проломленный череп,
Я щупаю небо.(СП III: 94, 95, 98)36
что свидетельствует о единстве взглядов Мы и Я. Подобное видим в одной из ключевых поэм Хлебникова «Сёстры-молнии»:
Мы равенство миров, единый знаменатель.
Мы ведь единство людей и вещей.
Мы учим узнавать знакомые лица в корзинке овощей,
Бога лицо.
Повсюду единство мы — мира кольцо. ‹...›
А я — весёлый корень из нет-единицы.
(СП III: 170)
Я в качестве мыслителя и пророка задействовано лишь в нескольких стихотворениях типа «К зеркалу подошёл...» и двух эпиграфических текстах в «Отрывке из Досок судьбы» — «Если я превращу человечество в часы...» и «Ну, тащися, Сивка...».37 На излёте жизни Хлебникова Я выступает, главным образом, в качестве опытного пропагандиста-агитатора (например, в «Синих оковах»: Я верю: разум мировой / Земного много шире мозга, / И через невод человека и камней / Единою течёт рекой, / Единою проходит Волгой. — СП I: 302), со всей прямотой заявляющего о своей преданности общему делу.38
На излёте жизни Хлебникова Я выступает, главным образом, в качестве опытного пропагандиста-агитатора (например, в «Синих оковах»: Я верю: разум мировой / Земного много шире мозга, / И через невод человека и камней / Единою течёт рекой, / Единою проходит Волгой. — СП I: 302), со всей прямотой заявляющего о своей преданности общему делу.38
Между тем, в судьбе Хлебникова произошли весьма неблагоприятные перемены. Его вызывающее поведение при обсуждении харьковского доклада «Коран чисел» (марксистам я сообщил, что я Маркс в квадрате, а тем, кто предпочитает Магомета, я сообщил, что я продолжатель проповеди Магомета, ставшего немым и заменившего слово числом) присутствующим не понравилось, поэтому он написал сестре, что я в последний раз в жизни поверил людям (СП V: 316). Неправильно была понята и более поздняя речь в Ростове;39 в Баку Хлебникову тоже пришлось плохо (СП V: 321), а ведь именно здесь он открыл законы времени и возобновил знакомство с Вячеславом Ивановым, который настолько высоко ценил его творчество, что посоветовал написать космическую поэму в стиле Данте.40
в Баку Хлебникову тоже пришлось плохо (СП V: 321), а ведь именно здесь он открыл законы времени и возобновил знакомство с Вячеславом Ивановым, который настолько высоко ценил его творчество, что посоветовал написать космическую поэму в стиле Данте.40 Азия продолжала его привлекать (Я остаюсь на всю жизнь на Кавказе — СП V: 319), ибо мечты об основании Соединенных Государств Азии (Азосоюз) не оставляли его, доказательство тому — поэма «Труба Гуль-муллы», сверхповесть Зангези, цикл «Азы из узы» (со знаменитым финалом «Заклинание множественным числом») и ряд стихотворений типа «О, Азия, тобой себя я мучу...». В Азии поэт чувствовал себя легко и свободно; его, урус дервиша и русского пророка (НП:182; СП V: 322, 321), здесь приветствовали,41
Азия продолжала его привлекать (Я остаюсь на всю жизнь на Кавказе — СП V: 319), ибо мечты об основании Соединенных Государств Азии (Азосоюз) не оставляли его, доказательство тому — поэма «Труба Гуль-муллы», сверхповесть Зангези, цикл «Азы из узы» (со знаменитым финалом «Заклинание множественным числом») и ряд стихотворений типа «О, Азия, тобой себя я мучу...». В Азии поэт чувствовал себя легко и свободно; его, урус дервиша и русского пророка (НП:182; СП V: 322, 321), здесь приветствовали,41 он мог без помех заниматься своими предсказаниями и предаваться мечтам о покорении неба (СП V: 234). Но состояние благодушия оказалось недолгим, внутренний раздрай непонятого пророка набирал обороты уже в «Трубе Гуль-муллы» (Я с окровавленным мозгом, / Белые крылья сломив, / Упал к белым снегам — СП V: 234). Будетлянство Хлебникова приводило к новым стычкам с вы, меняющимся на его глазах.42
он мог без помех заниматься своими предсказаниями и предаваться мечтам о покорении неба (СП V: 234). Но состояние благодушия оказалось недолгим, внутренний раздрай непонятого пророка набирал обороты уже в «Трубе Гуль-муллы» (Я с окровавленным мозгом, / Белые крылья сломив, / Упал к белым снегам — СП V: 234). Будетлянство Хлебникова приводило к новым стычкам с вы, меняющимся на его глазах.42 Такого рода столкновения были неизбежны, ибо “пророчества” Хлебникова имели привкус “поэтического анархизма”, вследствие чего будетлянскую опору на многоликого Заратустру и его исполненную уверенности проповедь потеснили обстоятельства лирического героя лермонтовского «Пророка», пришедшего в мир под знаменем Пушкина.
Такого рода столкновения были неизбежны, ибо “пророчества” Хлебникова имели привкус “поэтического анархизма”, вследствие чего будетлянскую опору на многоликого Заратустру и его исполненную уверенности проповедь потеснили обстоятельства лирического героя лермонтовского «Пророка», пришедшего в мир под знаменем Пушкина.

“Поэтический анархизм” хлебниковского
Я неизменно противостоял обывательскому
вы людей места и пространства (
СП V: 104). Вторя Бакунину и Кропоткину,
43
государство, это
властное ничто,
44
поэт считал подлежащим упразднению. О подлинной причине его допроса в ЧК
45
можно только догадываться, равно и о том, на что поэт откликнулся стихотворением «Отказ»;
46
очевидно другое: неприкрытая угроза в поэме «Сёстры-молнии»:
Над государством пискарей /
Буду бедствия рогом (
СП III: 382). В пику насилию от имени государства рабочих и крестьян Хлебников настаивает на
самодержавии народа.
47
В пояснении к одному из набросков стихотворения с вызывающим названием «Что делать вам...» (намёк и на знаменитый роман Чернышевского, и на одноименную статью Ленина) читаем, что восстановление старого государства уже “предсказано” его
госпожой Ленин:
Вы видали как разложение слов на мелкие земельные владения оглавила госпожа Ленин —
в «Ряве» она мною дана.
Луч из будивремен, из Будимира сверкал как чернила над пером Велимира.
А Ленин оглавил разложе[ние]
пространств России, тор[га]
и труд[а]
на мелкие единицы.
Вы видали как копье событий ворочалось во мне рукою оттуда.48
Налицо явное неприятие как государственного социализма, так и НЭПа, определившее критический подход к миру вы в нескольких произведениях Хлебникова.
В знаменитом стихотворении «Трубите, кричите, несите!» “нэпманское” вы предаётся проклятию;49 ненавистью к сытым дышат «Голод» и «Три обеда». Возвратившись из Персии в Москву, Хлебников был озадачен переменой в жизни столицы (Москва, ты кто? / Чаруешь или зачарована? / Куёшь свободу, / Иль закована? — СП V: 95), шибающей благоденствием довоенной поры (И поворот к прошлому + будущее, делённые пополам — СП V: 323). Мутная волна торгашества накрыла всю Россию, обозреваемую с высоты птичьего полёта («Сегодня Машук как борзая...» — СП III: 187). У разочарованного поэта не оставалось иного выбора, кроме попытки отквитаться пером, что он и сделал поэмой «Ночной обыск». Возобновлены образы народных мстителей Пугачёва («Не шалить!») и Разина («Обед», «Кто?» и др.), порождающие новое Мы вместо прежнего, будетлянского.50
ненавистью к сытым дышат «Голод» и «Три обеда». Возвратившись из Персии в Москву, Хлебников был озадачен переменой в жизни столицы (Москва, ты кто? / Чаруешь или зачарована? / Куёшь свободу, / Иль закована? — СП V: 95), шибающей благоденствием довоенной поры (И поворот к прошлому + будущее, делённые пополам — СП V: 323). Мутная волна торгашества накрыла всю Россию, обозреваемую с высоты птичьего полёта («Сегодня Машук как борзая...» — СП III: 187). У разочарованного поэта не оставалось иного выбора, кроме попытки отквитаться пером, что он и сделал поэмой «Ночной обыск». Возобновлены образы народных мстителей Пугачёва («Не шалить!») и Разина («Обед», «Кто?» и др.), порождающие новое Мы вместо прежнего, будетлянского.50 Кстати, нововведение это делом случая не назовёшь: судьба Разина представлялась Хлебникову перекрёстком русской истории, а в послеоктябрьские годы определила и настрой самого поэта в его поединке с миром толп.51
Кстати, нововведение это делом случая не назовёшь: судьба Разина представлялась Хлебникову перекрёстком русской истории, а в послеоктябрьские годы определила и настрой самого поэта в его поединке с миром толп.51 То, что Хлебников называл себя Разиным напротив (Я Разин навыворот в «Трубе Гуль-муллы» — СП I: 234–235) и противо-Разиным (в «Я видел юношу пророка...» — СП III: 305), вполне объясняется его внутренним раздраем на излёте жизни. Выступая от своего имени, Хлебников противостоял герою прошлого: Разин грабил и жёг | деву в воде утопил, а слова божок поступит с точностью до наоборот (спасу!). Иными словами, в историческом реванше, которого заслуживала нэповская Россия, без Разина никак не обошлось бы.52
То, что Хлебников называл себя Разиным напротив (Я Разин навыворот в «Трубе Гуль-муллы» — СП I: 234–235) и противо-Разиным (в «Я видел юношу пророка...» — СП III: 305), вполне объясняется его внутренним раздраем на излёте жизни. Выступая от своего имени, Хлебников противостоял герою прошлого: Разин грабил и жёг | деву в воде утопил, а слова божок поступит с точностью до наоборот (спасу!). Иными словами, в историческом реванше, которого заслуживала нэповская Россия, без Разина никак не обошлось бы.52
Разумеется, “взывание” к Пугачёву и Разину — отвлечённые рассуждения “заединщика” и “любомудра”; в действительности поэт о ту пору был как никогда одинок. Будетляне, даже Кручёных,53 его покинули; отчуждение проглядывает уже в произведениях времён Персармии, включая «Трубу Гуль-муллы» (Только „Мой” не сказала дева Ирана... — СП I: 233). Отсюда стремление доказать свою значимость и бесконечно далёкая от скромности самооценка (Я был единственной скважиной, / Через которую будущее падало / В России ведро в «Здесь я бродил очарованный...» — СП V: 95); поэту всюду мерещится роковая решётка и предательская ухмылка Судьбы (Так обезьяна скалит зубы человеку в «Судьба закрыла сон зевком...» — СП III: 215); в «Шествии осеней Пятигорска» он даже признаёт свою “вину”, готов отречься от выстраданных убеждений (Разбейся, разбейся, / Мой мозг о громады народного „нет”. / Полно по волнам носиться / Стеклянной звездою), исчезнуть (Ухожу целовать / Холодные пальцы зим. — НП: 54, 55). В связи со столь очевидным проявлением упадка особое значение приобретают три стихотворения, где нет и следа уныния: «Я и Россия», «Я увидел юношу пророка...» и «Я вышел юношей один...». В «Я и Россия» сравниваются свобода, которую Россия тысячам тысяч дала, и с лёгкостью (просто сняв рубашку) дарованная Гражданкам и гражданам / Меня-государства воля, вследствие чего каждый зеркальный небоскрёб моего волоса, / Каждая скважина / Города тела / Вывесила ковры и кумачовые ткани (СП III: 304). Порыв человеколюбия в стихотворении «Я видел юношу пророка...» сочетается с “противо-разинской” мечтой об очеловечивании волны (СП III: 305). Идея полного самоотречения достигает высшей точки в последнем тексте этого ряда, где обыгрывается дорога и судьба лермонтовского «Выхожу один я...». В отличие от поэтического Я Лермонтова, избывающего отчуждённость от всего и вся несбыточной мечтой о подлинной жизни после смерти, герой Хлебникова следует по пути Данко из горьковской легенды (Горело Хлебникова поле, / И огненное я пылало в темноте); из этого Я возникает обобщённое Мы, несущее закон и честь (СП III: 306), что приводит на память понятия о нравственности времён Пушкина и Лермонтова. Разумеется, речь шла о прикладном значении хлебниковских открытий и стихов, истолковывающих эти открытия. Но современники, погрязшие в рутине повседневности, этого не понимали или не хотели понять. Оставалось назначить собеседниками „младую поросль” (вспомним Пушкина или Достоевского, с его князем Мышкиным швейцарской поры), о чём свидетельствуют стихотворения «Детуся!» и «Союзу молодёжи», или, за неимением таковой, — животных («Труба Гуль-муллы», «Ночь в Персии», «Зангези» и др.). Всё это позволяет признать хлебниковские настроения той поры трагико-романтическими. 54
его покинули; отчуждение проглядывает уже в произведениях времён Персармии, включая «Трубу Гуль-муллы» (Только „Мой” не сказала дева Ирана... — СП I: 233). Отсюда стремление доказать свою значимость и бесконечно далёкая от скромности самооценка (Я был единственной скважиной, / Через которую будущее падало / В России ведро в «Здесь я бродил очарованный...» — СП V: 95); поэту всюду мерещится роковая решётка и предательская ухмылка Судьбы (Так обезьяна скалит зубы человеку в «Судьба закрыла сон зевком...» — СП III: 215); в «Шествии осеней Пятигорска» он даже признаёт свою “вину”, готов отречься от выстраданных убеждений (Разбейся, разбейся, / Мой мозг о громады народного „нет”. / Полно по волнам носиться / Стеклянной звездою), исчезнуть (Ухожу целовать / Холодные пальцы зим. — НП: 54, 55). В связи со столь очевидным проявлением упадка особое значение приобретают три стихотворения, где нет и следа уныния: «Я и Россия», «Я увидел юношу пророка...» и «Я вышел юношей один...». В «Я и Россия» сравниваются свобода, которую Россия тысячам тысяч дала, и с лёгкостью (просто сняв рубашку) дарованная Гражданкам и гражданам / Меня-государства воля, вследствие чего каждый зеркальный небоскрёб моего волоса, / Каждая скважина / Города тела / Вывесила ковры и кумачовые ткани (СП III: 304). Порыв человеколюбия в стихотворении «Я видел юношу пророка...» сочетается с “противо-разинской” мечтой об очеловечивании волны (СП III: 305). Идея полного самоотречения достигает высшей точки в последнем тексте этого ряда, где обыгрывается дорога и судьба лермонтовского «Выхожу один я...». В отличие от поэтического Я Лермонтова, избывающего отчуждённость от всего и вся несбыточной мечтой о подлинной жизни после смерти, герой Хлебникова следует по пути Данко из горьковской легенды (Горело Хлебникова поле, / И огненное я пылало в темноте); из этого Я возникает обобщённое Мы, несущее закон и честь (СП III: 306), что приводит на память понятия о нравственности времён Пушкина и Лермонтова. Разумеется, речь шла о прикладном значении хлебниковских открытий и стихов, истолковывающих эти открытия. Но современники, погрязшие в рутине повседневности, этого не понимали или не хотели понять. Оставалось назначить собеседниками „младую поросль” (вспомним Пушкина или Достоевского, с его князем Мышкиным швейцарской поры), о чём свидетельствуют стихотворения «Детуся!» и «Союзу молодёжи», или, за неимением таковой, — животных («Труба Гуль-муллы», «Ночь в Персии», «Зангези» и др.). Всё это позволяет признать хлебниковские настроения той поры трагико-романтическими. 54

Среди поэтических текстов излёта жизни Хлебникова резко выделяются произведения “прощальной” направленности: «Одинокий лицедей», «Не чортиком масляничным...», «Что делать вам..», «Русские десять лет побивали меня каменьями..», «Ещё раз, ещё раз...» и
сверхповесть «Зангези». Их единственный в своём роде настрой уже отмечен исследователями.
55
Эти стихотворные “предостережения” уравновешивают противопоставление
Я —
вы (
они) отсылкой к беззаветно человеколюбивому
Я в триптихе «Я и Россия», «Я видел юношу пророка...» и «Я вышел юношей один...».
В «Одиноком лицедее» (СП III: 307) противостояние толпе происходит на мифопоэтическом уровне и в контексте творчества Ахматовой и Пушкина. Я одновременно выступает в роли Тесея, разматывающего клубок чародейки Аматовой (Ариадны), и лирического героя пушкинского «Пророка» (стих Как сонный труп влачился по пустыне — эхо пушкинских „В пустыне мрачной я влачился ‹...› / Как труп в пустыне я лежал”), а печальный итог странствий героя Хлебникова напролом (заключительные строки И с ужасом / Я понял, что я никем не видим: / Что нужно сеять очи, / Что должен сеятель очей идти!) отсылает опять-таки к мифологическим источникам — на сей раз это мифы о Девкалионе и Кадме.56 А.М. Рипелино отметил, что миф о Тесее Хлебников использовал и в стихотворении «Не чортиком масляничным» (в строках А не большими кострами / Для варки быка / На палубе вашей — СП III: 311);57
А.М. Рипелино отметил, что миф о Тесее Хлебников использовал и в стихотворении «Не чортиком масляничным» (в строках А не большими кострами / Для варки быка / На палубе вашей — СП III: 311);57 однако Я отнюдь не отождествляется с Тесеем, а противопоставлено ему (Мною указан вам путь, / А не большими кострами). С другой стороны, в фабулу стихотворения искусно вплетены перепевы Пушкина и Лермонтова. Обстоятельства пушкинского пророка, который „восстал” на призыв „глаголом жечь сердца людей”, замечаем в стихах Нет, я из братского гроба ‹...› Руку свою подымаю / Сказать про опасность (СП III: 311). Дальнейшее (одиночка, вынужденный уйти в пустыню За то, что напомнил про звёзды) весьма напоминает Лермонтова.58
однако Я отнюдь не отождествляется с Тесеем, а противопоставлено ему (Мною указан вам путь, / А не большими кострами). С другой стороны, в фабулу стихотворения искусно вплетены перепевы Пушкина и Лермонтова. Обстоятельства пушкинского пророка, который „восстал” на призыв „глаголом жечь сердца людей”, замечаем в стихах Нет, я из братского гроба ‹...› Руку свою подымаю / Сказать про опасность (СП III: 311). Дальнейшее (одиночка, вынужденный уйти в пустыню За то, что напомнил про звёзды) весьма напоминает Лермонтова.58 Однако Хлебников завершает стихотворение не глумлением толпы (по образцу Лермонтова), а гордым Я одиноким врачом / В доме сумасшедших / Нёс свои песни-лекаря (СП III: 312). Мотив осмеянного пророка красной нитью проходит через сшивную поэму «Что делать вам..», где поэтическое Я — воин, пророчествующий учителя и ученика, художник, чье творчество быт обокрал, Моцарт, окружённый сотней Сальери, мститель за смерть Разина людям, привыкшим видеть жизнь под дающими паёк углами, которым не дано заметить смертоносную символику старого три, преломленную сквозь уничтожение поэтических творений (Вы видели, как сгоревшие страницы рукописи / Становятся сгоревшими сёлами? — СП V: 114, 116, 117).
Однако Хлебников завершает стихотворение не глумлением толпы (по образцу Лермонтова), а гордым Я одиноким врачом / В доме сумасшедших / Нёс свои песни-лекаря (СП III: 312). Мотив осмеянного пророка красной нитью проходит через сшивную поэму «Что делать вам..», где поэтическое Я — воин, пророчествующий учителя и ученика, художник, чье творчество быт обокрал, Моцарт, окружённый сотней Сальери, мститель за смерть Разина людям, привыкшим видеть жизнь под дающими паёк углами, которым не дано заметить смертоносную символику старого три, преломленную сквозь уничтожение поэтических творений (Вы видели, как сгоревшие страницы рукописи / Становятся сгоревшими сёлами? — СП V: 114, 116, 117).
В прозаическом отрывке «Издатели, желающие меня обмануть...» Хлебников примеряет на себя смерть поэта, обманутого мнимыми братьями, которые не преминут поднять вой над гробом поэта (СП V: 274). Наиболее полно и внятно о том же говорится в «Ещё раз, ещё раз...» и «Русские десять лет меня побивали каменьями...». Смерть поэта-пророка взывает к отмщению, подобно гибели Пушкина в лермонтовском отклике на неё; суть возмездия в том, что поэта-пророка уничтожить нельзя.59 В хлебниковской подаче точка отсчёта вновь совпадает с «Пророком» Лермонтова,60
В хлебниковской подаче точка отсчёта вновь совпадает с «Пророком» Лермонтова,60 воспроизведены все подробности мести: побитый каменьями пророк восстаёт как призрак из пены, напуская на своих обидчиков прямо звёздный ужас; он — звезда, которой они пренебрегли, за что и покараны в полном соответствии с законами «Досок судьбы» (звезда ставит им двойку бури и кол подводного камня):
воспроизведены все подробности мести: побитый каменьями пророк восстаёт как призрак из пены, напуская на своих обидчиков прямо звёздный ужас; он — звезда, которой они пренебрегли, за что и покараны в полном соответствии с законами «Досок судьбы» (звезда ставит им двойку бури и кол подводного камня):
Вы, направляя грудь парусов
На подводные камни,
Сами летите разбитые
Всем судном могучим.
(СП V: 109, 110)
В то же время поэт предостерегает своих врагов от рокового (Бойтесь быть злыми ко мне) небрежения светом путеводной (Но я неподвижен! я вечен) звезды (СП V: 110), что перекликается опять-таки с античной мифологией. В окончательном изводе побивание каменьями сменяется нагнетанием угроз (горе моряку | горе и вам); сýдьбы мореплавателей, поленившихся Найти верный угол бега по полю морей / И сверкнувшего сверху луча, и прямых врагов поэта, взявших / Неверный угол сердца ко мне, одинаково незавидны. Заметим, что библейские каменья («Русские десять лет побивали меня...») в «Ещё раз, ещё раз...» “очеловечены” более внятно (И камни будут надсмехаться / Над вами, / Как вы надсмехались / Надо мной — СП III: 314). Кроме того, Хлебников доработал едва ли не главный свой символ — волну: в «Я видел юношу пророка...» противо-Разин ‹...› с русалкой ‹...› обручён: ‹...› Волну очеловечив, ‹...› сделал волной деву (СП III: 305); с другой стороны, в «Ещё раз, ещё раз...» поэт мстит за оскорбления совершенно как Разин: карает врагов смертоносной волной. Оказывается, знание судьбы не менее жестоко, чем сама судьба.61
Круг этих “прощальных” размышлений, как и всего поэтического творчества Хлебникова, замыкается сверхповестью «Зангези»: миры поэта (Я, Мы) и современников (вы, они) сталкиваются в последний раз. Сверхповесть эта задумана как подробный “отчёт” о пути поэта-мыслителя и свод всех его якобы безумных речей,62 которыми современники по недомыслию пренебрегли. То с моста-площадки в горах, то с городской площади Зангези проповедует людям или лесу свой основной закон времени и звёздный язык, рассказывает о лично своём, людей и вселенной (включая богов, “приговорённых” к свободе) предназначении; Зангези убеждён, что его речи снимают со слушателей оковы слов, что звёздный язык ‹...› объединит некогда, может быть скоро всё живое и неживое, что Рок можно победить вечными числами: они стучатся отсюда призывом на родину, число зовут к числам вернуться (СП III: 318, 333, 332, 324). Хлебниковский герой примеряет на себя те же обличья, что и его создатель: воин | победитель солнц | безумный певец | хороший плотник часов ‹...› человечества (СП III: 359, 358, 343, 355), оставаясь при этом простым и земным и одиноким (СП III: 358, 343). Зангези называет себя то узником, то бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни, бьющейся устало в окно человека (СП III: 324); он как будто осведомлён о последствиях своей проповеди и знает личную судьбу, поэтому в гордом Я ведь умею шагать / Взад и вперёд / По столетьям (СП III: 359) сквозит уверенность в своей правоте, несмотря на временное поражение в противостоянии современникам. Те же считают его кто лесным дураком, кто Мыслителем, который божественно врёт, и люди для него как плевательница для плевков его учения (СП III: 321, 332, 322); по мнению слушателей Зангези, его проповеди — сырьё, настоящее сырьё ‹...› сырая колода, а стихи настолько злят, что кое-кто предлагает: Поджечь его! (СП III: 329, 345). Поверхностной, ограниченной бытовым окоёмом толпе нужны не проповеди победителя времени и Рока, а что-нибудь земное, весёленькое, вроде комаринской (СП III: 342). Эти кичащиеся мужеством люди высмеивают заячьи речи героя; им невдомёк, что издёвкой Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой (СП III: 345) Зангези-Хлебникова не оскорбить: животные понимают то, что недоступно людям. В финале сверхповести расхожий мотив смерти героя оборачивается его воскрешением; грустная новость о том, что Зангези зарезался бритвой, причём Поводом было уничтожение / Рукописей злостными / Негодяями с большим подбородком / И шлёпающей и чавкающей парой губ,63
которыми современники по недомыслию пренебрегли. То с моста-площадки в горах, то с городской площади Зангези проповедует людям или лесу свой основной закон времени и звёздный язык, рассказывает о лично своём, людей и вселенной (включая богов, “приговорённых” к свободе) предназначении; Зангези убеждён, что его речи снимают со слушателей оковы слов, что звёздный язык ‹...› объединит некогда, может быть скоро всё живое и неживое, что Рок можно победить вечными числами: они стучатся отсюда призывом на родину, число зовут к числам вернуться (СП III: 318, 333, 332, 324). Хлебниковский герой примеряет на себя те же обличья, что и его создатель: воин | победитель солнц | безумный певец | хороший плотник часов ‹...› человечества (СП III: 359, 358, 343, 355), оставаясь при этом простым и земным и одиноким (СП III: 358, 343). Зангези называет себя то узником, то бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни, бьющейся устало в окно человека (СП III: 324); он как будто осведомлён о последствиях своей проповеди и знает личную судьбу, поэтому в гордом Я ведь умею шагать / Взад и вперёд / По столетьям (СП III: 359) сквозит уверенность в своей правоте, несмотря на временное поражение в противостоянии современникам. Те же считают его кто лесным дураком, кто Мыслителем, который божественно врёт, и люди для него как плевательница для плевков его учения (СП III: 321, 332, 322); по мнению слушателей Зангези, его проповеди — сырьё, настоящее сырьё ‹...› сырая колода, а стихи настолько злят, что кое-кто предлагает: Поджечь его! (СП III: 329, 345). Поверхностной, ограниченной бытовым окоёмом толпе нужны не проповеди победителя времени и Рока, а что-нибудь земное, весёленькое, вроде комаринской (СП III: 342). Эти кичащиеся мужеством люди высмеивают заячьи речи героя; им невдомёк, что издёвкой Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой (СП III: 345) Зангези-Хлебникова не оскорбить: животные понимают то, что недоступно людям. В финале сверхповести расхожий мотив смерти героя оборачивается его воскрешением; грустная новость о том, что Зангези зарезался бритвой, причём Поводом было уничтожение / Рукописей злостными / Негодяями с большим подбородком / И шлёпающей и чавкающей парой губ,63 была всего лишь неумной шуткой, ибо Зангези жив (СП III: 367–368). В отличие от “прощальных” стихотворений Хлебникова, мотив возмездия в «Зангези» не развит, вследствие чего сочащаяся насилием поэма «Ночной обыск» не вошла в состав сверхповести, хотя изначально поэт это предполагал.64
была всего лишь неумной шуткой, ибо Зангези жив (СП III: 367–368). В отличие от “прощальных” стихотворений Хлебникова, мотив возмездия в «Зангези» не развит, вследствие чего сочащаяся насилием поэма «Ночной обыск» не вошла в состав сверхповести, хотя изначально поэт это предполагал.64 Возможно, такую концовку обусловили “вечное возвращение” Заратустры и лермонтовский «Пророк», с их показательной непредвзятостью подачи противоборствующих мнений, мировоззрений, судеб отдельной личности и толпы.
Возможно, такую концовку обусловили “вечное возвращение” Заратустры и лермонтовский «Пророк», с их показательной непредвзятостью подачи противоборствующих мнений, мировоззрений, судеб отдельной личности и толпы.
Противопоставление Я и вы у позднего Хлебникова имеет, разумеется, более широкий историко-литературный контекст, чем намеченный выше. В «Ночном обыске» поэт прикровенно спорит с поэмой Блока «Двенадцать» и ненароком даёт внушительный творческий импульс малоизученной поэме Есенина «Страна негодяев». “Прощальные” тексты с выраженной темой поэта-пророка имеют множество пересечений с ранним Маяковским («Облако в штанах» и «Человек»); в пророческую утопию Хлебникова вошла и фигура “воплощённого Христа”, которого в «Мистерии-буфф» представляет Человек просто. Но и поздний Маяковский, в свою очередь, “должник” Хлебникова-пророка за причастность к философии Фёдорова, особенно в «Пятом Интернационале» (Я / поэзии / одну разрешаю форму: / краткость, / точность математических формул) и «Во весь голос» (подобно “прощальным” стихам Хлебникова, достигшем планки поэтического “завещания”). Однако это отдельная, входящая в более общую постановку вопроса о русских поэтических утопиях, с их великолепием и неизбежным крахом, тема.
————————
Примечания 1
1 Собрание сочинений Велимира Хлебникова. Том V.
Ленинград. 1933. С. 317 (далее
СП указанием тома и страницы).
 2
2 Цит. по:
В. Григорьев. Грамматика идиостиля. В. Хлебников.
Москва. 1983. С. 146.
 3
3 Там же, с. 149.
 4 В. Хлебников
4 В. Хлебников. Отрывок из Досок Судьбы //
В. Хлебников В. Собрание сочинений, III.
München: Band 37, Slavische Propyläen. 1972. P. 471 (далее
СС III со ссылкой на страницы).
 5
5 Там же, р. 472.
 6
6 Там же, р. 471.
 7 СС
7 СС III: 531.
 8
8 См.:
СП V: 319–320;
В. Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 385, 386 (далее
НП с указанием страницы);
СП V: 324–325.
 9
9 См. его отчёт (в письме к сестре от 2 января 1920 г.) о докладе «Коран чисел», о котором речь пойдет далее (
СП V: 316).
 10
10 Из письма В. Ермилову от 3 января 1921 г. (
НП: 385).
 11
11 О взаимосвязи символики лошади и чисел у Хлебникова см.: В. Григорьев, цит. соч., 124.
 12 Вяч. Вс. Иванов
12 Вяч. Вс. Иванов. Категории времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.
Ленинград. 1974. С. 47.
 13
13 Цит. по:
B. Lönnquist. Xlebnikov and Carnival. An Analysis of the Poem ‘Poèt’. Stockholm. 1979. P. 30. См. также:
CC III: 507.
 14
14 Там же, р. 42. См. также соответствующие лексические примеры (оппозиция
дела, дня и духа —
труду, тени, телу, туше), завершающиеся каламбурной конструкцией в стихотворении «Трата и труд и трение», приложенном ко второму отрывку из « » (
СС III: 498). См. также подобное противопоставление:
Кричали трупы: три, три, три. Кричали девы: два, два, два (В. Григорьев, там же, с. 146).
 15
15 В. Григорьев, там же, с. 146.
 16
16 См. другие подобные высказывания: „Следует иметь в виду, что в общем случае степени тройки (3
n) связывают противоположные события, победу и поражение, начало и конец. Тройка — своего рода круг смерти исходного события. // С другой стороны, степени двойки (2
n) связывают возрастание событий, масштаб которых увеличивается” (B. Lönnquist, цит. соч., 45); „3
n — злое божество времени,
колесо смерти, 2
n — доброе божество времени” (цит. по: В. Иванов, цит. соч., с. 46).
 17
17 В. Григорьев, цит. соч., с. 146.
 18
18 Там же.
 19
19 См. характерную для этих раздумий подмену в одном стихе «Трубы Гуль-муллы»:
Только „Мой” не сказало иранское [золото] (
СП I: 233) и
Только „Мой” не сказало иранское два (В. Григорьев, цит. соч., с. 125).
 20
20 См.:
СС III: 504; В. Григорьев, цит. соч., 121–122; B. Lönnquist, цит. соч., p. 106–107; Вяч. Вс. Иванов, цит. соч., 48;
СП V: 240–241 и др.
 21
21 В. Григорьев, цит. соч., с. 146.
 22
22 Там же, с. 122.
 23
23 Там же, с. 128.
 24
24 См. «Уравнения моей жизни...» (
СП V: 268), а также соответствующую запись в «Досках судьбы»:
Закон времени можно проследить на творчестве. Одинокие вспышки творчества связаны со степенями двух. Казалось, что мое вдохновение жило на чердаке показателя степени числа дней, в похожей на голубятню постройке на сваях двойки. 19 X 1919 в Сабурове написал «Русалку». Через 28 второе большое пятно творческого ветра, 2 VII 20 года, когда я писал Разина в обоюдно толкуемом смысле. (B. Lönnquist, цит. соч., 70). См. далее автокомментарии Хлебникова к
лучшей своей вещи Русалке (Поэту):
второй раз имел мужество прочитать 3 марта 1921 года, ‹...› через 2
9 вновь прочёл и полюбил 4 марта 1921 года (Там же, 70–71). О поисках Хлебниковым закономерностей чередования его “творческих приливов и отливов” см. также: В. Григорьев, цит. соч., 171. Несколько иное определение творчества даёт хлебниковское «Послесловие к стихам Ф. Богородского»:
Творчество — это искра между избытком счастья певца и несчастьем толпы. /
Творчество — разность между чьим-нибудь счастьем и общим несчастьем (
СП V: 260).
 25
25 В. Григорьев, цит. соч., с. 130.
 26
26 B. Lönnquist, цит. соч., р. 33.
 27
27 Там же, p. 34.
 28
28 Там же.
 29
29 В. Григорьев, цит. соч., с. 130, 146. — Любопытно, что борьба Хлебникова с
верой основывалась на “злой” символике тройки:
Вера только духа и вера только тела. Эти две отрицательные веры рождены тройкой в основании (B. Lönnquist, цит. соч., р. 45).
 30
30 См. также: „Кто-нибудь может спросить: как можно искать общий закон для рождения подобных людей, когда борцы за одно и то же дело рождаются в разных государствах и принадлежат к разным народам? Но государство-молния давно уже объединило всё человечество, сплетя в одну косу волосы всех людей. Можно представить себе такого наблюдателя с соседней звезды, который бы хорошо их видел, но не замечал бы ни народов, ни государств” (Вяч. Вс. Иванов, цит. соч., с. 48).
 31
31 См. цитату, предшествующую этой записи:
Поворот от числа к слову в воскресенье, 14 марта 1921 года (В. Григорьев, цит. соч., с. 146) как свидетельство того, что
священная речь вернулась к поэту, но он не был ею удовлетворён.
 32
32 На излёте жизни такие стихи встречаются крайне редко (см.: «Самострел любви» —
НП: 181).
 33
33 Ср., например:
Снова мы первые дни человечества! («Навруз труда» —
СП III: 124);
Мы, первый труд и прочее и прочая (Кавэ кузнец —
СП III: 129);
Мы в детской Рода людей («Синие оковы» —
СП I: 300).
 34
34 См., среди прочего:
Друзья, приступим к постройке для всего земного шара общего языка! (
СП V: 273);
Со временем, когда Мы станет богом, речные русла всех мыслей будут течь с высот единой мысли. /
Но мы не боги, а потому будем течь как реки в море общего будущего. Оттуда, где расположен опыт каждого течь — то Волгой, то Тереком, то Яиком — в общее море единого будущего (
СП V: 275).
 35
35 Эти стихи — перепев пушкинского «Пророка», фабула которого во многом определяет положение лирического героя Хлебникова (особенно в интересующее нас время), о чём будет сказано далее.
 36
36 Фабула
порыва в небо, начинающийся с третьей главы «Влома Вселенной», напоминает аналогичные мотивы Маяковского, завершающиеся «Мистерией-буфф».
 37
37 См. соответствующие отрывки и стихотворения с образом поэта — избранника и гения у раннего Хлебникова:
Я велик. Не во всякую дверь прохожу. /
Я уравнил победы венок и листья стыда и военного срама. ‹...›
Мои уравнения сильнее морских крепостей [из]
железа пловучего (
СП V: 111);
Я вам расскажу, что я из будущего чую /
Мои зачеловеческие сны ‹...› /
Я расскажу, что вселенная — с копотью спичка /
На лице счёта (
СП III: 295, 296); ;
Я затоплю силой мысли потопом /
Постройки существующих правительств (СС III: 469); Я запряг тебя (т.е.
Сивку Шара земного —
М.Й.) /
Сохою звездною ‹...›
Я студеной водою /
Расскажу, где иду я, /
Что великие числа — /
Пастухи моей мысли (
СП III: 298);
Кто меня кличет из Млечного пути? (
СС III: 470).
 38
38 Ср.:
Я кое-как проковыляю /
Пору пустынную, /
Пока не соберутся люди и светила /
В общую гостиную (
СП I: 300). Подчеркнём сходство мотива “небесного тела среди людей” в этом стихотворении и в «Необычайном приключении...» Маяковского, при существенном различии: Маяковский настаивает на равенстве поэтического
Я и солнца, тогда как Хлебников говорит о побратимстве
людей и небесных тел.
 39
39 В. Григорьев, цит. соч., с. 151.
 40
40 Там же, с. 116.
 41
41 См. характерный стих из «Трубы Гуль-муллы»:
Я счастье даю? Почему так охотно возят меня? (
СП I: 245).
 42
42 В стихах типа:
Всё ваше небо — яблоко гнилое, /
Пора прийти и червякам! или:
Я ваше небо проточу /
Cуровой долей червяка (
СП III: 209, 208)
вы олицетворяет мир старины и рутины. В «Синих оковах»
вы — белогвардейцы, враждебные революции:
Вы из земли хотели Ка, /
Из грязи, из песка и глины /
Скрепить устои и законы, /
Чтоб снова жили властелины (
СП I: 299). С другой стороны,
людям места и пространства, оплоту „самодержавия и народности”,
непонятны эти речи /
И их таинственные смыслы (
СП V: 104, 103).
 43 СП
43 СП III: 25; В. Григорьев, цит. соч., с. 144.
 44
44 О прочтении Хлебниковым Кропоткина («Хлеб и воля») см. письмо его сестре Вере от 14 апреля 1921 г. (
СП V: 320), а также в «Трубе Гуль-муллы»:
Через Кропоткина в прошлом, /
За охоту за прошлым /
Судьбы ласкают меня (
СП I: 235). По признанию поэта, во время открытия
чистых законов времени над ним
висела громадная, лохматая тень Бакунина (
СС III: 514). См. в этой связи любопытную игру слов:
а в ушах неотступно стояло, что если бы к нам явилась Нина, то из города Баку вышло бы имя Бакунина (там же);
Ныне в Баку /
Нина Бакунина (
НП: 415);
Бьёт торжественный набат. /
«Ныне» Бакунина, /
Ныне в Баку (
НП: 180).
 45
45 См. «Ручей с холодною водой...»:
А через день Чека допрос окончила ненужный (
СП III: 136), помещенный в печальный контекст всеобщего “припоминания” (
Я узнал растений храмы /
И чины и толпу) и “прощания” (
СП III: 137). См. также о полицейском участке: Участок — великая вещь! / Это — место свиданья / Меня и государства. / Государство напоминает, / Что оно всё ещё существует! (
СП V: 94).
 46
46 Здесь Хлебников протестует против “организованного насилия” (
Наказание не должно выйти из мира теней! —
СП V: 260) своей “мирной” программой:
Мне гораздо приятнее /
Слушать голоса цветов, /
Шепчущих „это он!”, /
Когда я прохожу саду, /
Чем видеть ружья, /
Убивающие тех, кто хочет /
Меня убить. /
Вот почему я никогда, /
Никогда /
Не буду правителем! (3, 297).
 47
47 В. Григорьев, цит. соч., с. 150.
 48
48 B. Lönnquist, цит. соч., p. 121.
 49
49 См., например, стихи:
Вы, поставшие ваше брюхо на пару толстых свай, /
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской ‹...›;
Я знаю, кожа ушей ваших точно у буйволов мощных туга, /
И её можно лишь палкой растрогать (
СП III: 194).
 50
50 Ср.:
Эй, молодчики-купчики, /
Ветерок в голове! /
В пугачёвском тулупчике /
Я иду по Москве! ‹...›
Я пошлю вперёд /
Вечеровые уструги, /
Кто со мной — в полёт? /
А со мной — мои други! (
СП III: 301);
В столицы, /
Где пуль гульба, гуль вольба, /
Воль пальба, /
Шагнуть тенью Разина (
СП III: 303).
 51
51 См. в стихотворении «Кто он, Воронихин столетий...»:
О башня Сухарева над головою Разина /
На острие высокой башни, /
Где он был основание и мы игла вершины;
Мы дали толпе оплеуху, /
За то, что толпа била Разина (
СП III: 105, 103–104, 106).
 52
52 Идею исторической мести, подогреваемую навязчивым видением
проклятого Углича — места убийства ребёнка-наследника престола (
Везде, везде проклятый Углич! —
СП III: 313), Хлебникова прилагает к судьбе художника (см. стихи, варьирующие пушкинского «Бориса Годунова»:
Везде зазубренный секач /
И личики зарезанных стихов —
СП III: 313). Этот историософский взгляд основан на посылке
Война всегда везде со всеми из варианта «Дерева» (
НП: 452), отсылающего к философии Ницше (см. стих в основном тексте «Дерева»:
И каждое утро шумит в лесу Ницше —
НП: 278). Похоже, поэт не преодолел эти пессимистические представления, связанные с его изысканиями во времени.
 53
53 См. в стихотворении «Кручёных!..»:
Помнишь, мы вместе грызли как мыши, /
Непрозрачное время “сим победиши”? /
Вернее, что грыз я один! /
Товарищи! /
Как то-с: кактус, осени хорунжие, /
Линь, лань, лун...? (
СС III: 400) упрекает Крученых в предательстве, а Маяковского и Асеева — в краже (
СС III: 402).
 54
54 В «Трубе Гуль-муллы» поэта-пророка (
чадо Хлебникова)
принимают (
наш)
священники гор,
цветы,
дубравы и рощи, но не
девы и богачи (
СП I: 233). В «Ночи в Персии» фабула строится на параллельных сценах общения героя с
иранцем и
жуком; хлебниковский герой помогает
товарищу затянуть ремень на хворосте и взвалить ношу на спину, а с жуком
подписывает тёмный договор ночи, так как тот
Внятно сказал знакомое слово /
На языке, понятном обоим (
СП V: 36–37). Пример из «Зангези» см. далее. В связи с изложенным полезно было бы исследовать влияние «Трубы Гуль-муллы» на замысел цикла Есенина «Персидские мотивы».
 55 Степанов Н
55 Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М. 1975. С. 238–239. Перечень этих текстов в версии Степанова более краток. В. Григорьев дополнил его стихотворением «Ещё раз, ещё раз...», справедливо называя его „памятником” Хлебникова и подробно анализируя в своей книге (В. Григорьев, цит. соч., с. 172–189).
 56
56 Это сцены, в которых Девкалион и Пирра бросают „кости праматери” (камни) через себя, чтобы возобновить человеческий род после потопа, или сцена, в которой Кадм сеет зубы убитого им дракона, чтобы из них выросли спарты (сеяные). Подробнее об этом см.:
A.M. Ripellino. Poesie di Chlébnikov.
Torino. 1968. P. 247–248.
 57
57 Там же, р. 250–251.
 58
58 См. в частности строки
За то, что пономнил про звезды и
Не раз вы оставляли меня /
И уносили моё платье, /
Когда я переплывал проливы песни, /
И хохотали, что я гол (
СП III: 311), в основе которых лежит концовка стихотворения Лермонтова: „Смотрите ж, дети, на него: / Как он угрюм, и худ, и бледен! / Смотрите, как он наг и беден, / Как презирают все его!”.
 59
59 См., например, в «Иранской песне»:
Но когда дойдёт черёд, /
Моё мясо станет пылью. /
И когда знамёна оптом /
Пронесёт толпа, ликуя, /
Я проснуся, в землю втоптан, /
Пыльным черепом тоскуя (
СП III: 130).
 60
60 Ср. лермонтовское: „В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья” с началом текста Хлебникова: «Русские десять лет меня побивали каменьями» (
СП V: 109). См. также подобную сцену с Евгением из «Медного всадника» Пушкина.
 61
61 Романтические клише
жизнь-мореплавание и поэт-пророк использовали многие русские поэты, начиная с Пушкина, у которого поэт из свидетеля и летописца вырастает в пророка. У некоторых поэтов они не составляли единой фабульной структуры (Фет, Тютчев и др.), вероятно, под влиянием Бодлера — первооткрывателя “путешествия в себя”. В творчестве Вячеслава Иванова оба клише вновь сомкнулись, благодаря заимствованному у Владимира Соловьёва пониманию творчества как “теургии”, но
единой темой не стали. Хлебников первым в русской поэзии объединил их, и в это значительный вклад в развитие поэтической тематики в целом.
 62
62 В. Григорьев, цит. соч., с. 151.
 63
63 Допустимо предположение, что этот вариант оппозиции
изобретатели —
приобретатели, имеющий автобиографическую основу, был сформулирован Хлебниковым после «Речи в Ростове-на-Дону», когда он написал четверостишие, предваряющее Зангези и его аудиторию:
Чавкая сладости, слушали люди /
Речи безумца. /
Снежные белые груди, /
Лысина думца (В. Григорьев, цит. соч., с. 151).
 64
64 См. свидетельство П. Митурича (
СП III: 387).
Воспроизведено по:
Milivoje Jovanoviħ. Руски Песници Двадесятог Века.
Диjалози и монолози / Уред. Милорад Ћуриħ, Гордана Б. Тодоровиħ.
Мала Библиотека Српске Књижевне Задруге. Београд. 1990. Р. 229–254.
Перевод В. Молотилова.
Благодарим проф. Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb) за содействие web-изданию.
Изображение заимствовано:
Dale Chihuly (b. 1941 in Tacoma, Washington, US).
Chihuly Tower at Oklahoma City Museum of Art.
————————
Коготь льва
Йосипу Ужаревичу
Главное — уметь похвалить.
Только ничтожество делает всех ничтожествами.
Джеймс Эббот Макнейл Уистлер. Изящное искусство наживать себе врагов.
Один мой приятель считает филологов неблагодарными скотами. Не знаю, не знаю. Сам-то приходит на выручку по первому зову. Все бы так себе противоречили.
Или я путаю благодарность с отзывчивостью. Благодарность, она за что-то. Мзда, калым, отступное, откат, баш на баш, сочтёмся на том свете угольками, я бы с радостию отдал половину моего достояния за достоинства Павла Ивановича и т.п.
Отзывчивость — про другое. Отзовёшься, бывало, и козья морда в ответ. Накося, выкуси. Отзывчивость, даже разовая, крайне опасна: не делай добра — не увидишь зла. Вона каким тетеревом заливался Владимир Ленский: „На зо-ов любви отзовись...” И правильно, что не отозвалась.
Стократ накладнее постоянная готовность пособить: того и гляди примут за навязчивость, обзовут прилипалой, и прости-прощай рукопожатность.
Иными словами, никто не просил Молотилова отбивать хлеб у ЮНЕСКО. Зов души.
На этом прекращаю дозволенные речи, перехожу к наказуемым. Ибо кто я такой судить-рядить о светилах славистики? Ныне дикий тунгус, и это в лучшем случае. Что вижу, то пою. О том, например, как мой небесный предок врезался в тайгу и навалял всей округе.
Как же не предок: такие вот и разносят заразу по местам приземления на благоугодную Господу твердь. Внутриклеточные семена инобытия. А Молотилов уродился до того неприкасаемый, что впору детей пугать.
И это ему на руку: дети вырастут, запугают своих детей, те своих, и так до бесконечности. Худая, зато вечная слава.
Улыбнуло? Над собой смеёшься, мил человек. Ибо по дороге в бесконечность всей толпой свалимся в Страшный суд, где воздастся хотя и не поровну, зато без обид.
А теперь, придержав до лучших времён раздвоение личности, не худо вспомнить завет моего предка небесного: Много мы лишних слов избежим. / Просто я буду служить вам обедню.
Тот самый случай проверить, справедлива ли русская поговорка „Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Справедлива не всегда, я тоже так подумал.
Подумав, рассудил: наверняка в прайде Миливое Йовановича и львиц преизрядно, и львят куча-мала. Им бы и порадеть всемирной славе местного царя зверей. Каким образом? Челобитной в ЮНЕСКО. Так, мол, и так, светило в затмении. Подключат Сороса, и белые негры переведут мэтра на что ни попадя, вплоть до суахили.
А Молотилов как прозябал, так и прозябнет со своим русским языком и нерукопожатием.


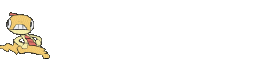

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()