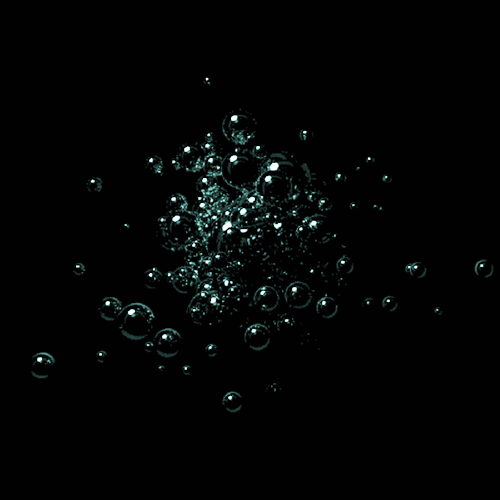After Aleksej Eliseevič Kručenych died on June 17, 1968, a young Russian scholar wrote me: “The last great zaumnik is dead” (which was not correct, because Il’ja Zdanevid was — and still is, at this writing — alive). Later I read in a talented “underground” playwright’s curriculum vitae that Kručenych had played a decisive role in his formation and, this young absurd dramatist added with pride, had given him his blessings for a literary career (Puškin did not sound so proud when referring to a similar incident involving Deržavin). Lately, Kručenych’s operatic libretto, A Victory Over the Sun (Pobeda nad solncem), appeared in an English translation. At the time of this writing, students at the University of Texas, Austin, are preparing a stage production of this opera.
On the other hand, one of my colleagues, whose knowledge and understanding of Russian literature are second to no one’s, upon learning about this planned collection, said with a grimace, “Is that really necessary? ”
Behind this contrast, there is more than just a difference in opinion or taste such as “Lermontov is higher than Puškin” (The “Bunin school”) or “Nekrasov is no poet” (The “Turgenev school”).
During the time of Kručenych’s literary activities, he was a curious phenomenon. He was studiously ignored and yet famous — famous in the sense that anyoody with a modicum of interest in literature knew his name (let’s admit, a memorable one) and had an opinion about him. For the generation which was accustoned to literary rebels and eccentrics, Kručenych symbolized the worst in futurism. The majority of those for whom the name Kručenych was a household word, at the same time were (and still are) convinced that he was a pathetic mediocrity, who, it is true, has to be mentioned soon after Majakovskij and Chlebnikov for historical reasons, but whose work was really outside “true literature”. It is not an accident that when, in 1915, Maksim Gor’kij surprised literature by recognizing some futurists, but not futurism, he named Seveijanin, Majakovskij, Kamenskij and even David Burliuk, but not Kručenych (and, let us add, not Chlebnikov).
For his contemporaries, Kručenych was nothing but a whipping boy. Hardly any other Russian poet was so easily dismissed or abused with such vituperation. For comparison, even the much-and-long-maligned Trediakovskij enjoyed, in his early years, success and recognition and posthumously found defenders in such authorities as Novikov und Puškin. It is enough to look through the indexes of the four-volume reference guide on 20-century Russian literary miscellanies (al’manachi) to become convinced that only futurists printed Kručenych. He could not find universal recognition even within his own group, where only Elena Guro seems to have had genuine respect for him. Magazines never accepted Kručenych’s works, the only exception being the post-revolutionary futurist LEF,* but one gets the impression that even there he was printed iz milosti. Literature about Kručenych amounts to a preface by Pasternak (obviously solicited by Kručenych), a pamphlet by a fellow zaumnik Terent’ev and two editions of a collection of articles, the latter being in the vein of a published parlor game or a parody of a Festschrift. The Muratova bibliographical volume on prerevolutionary Russian literature omits Kručenych.
Undiscouraged, Kručenych published no less than 236 “productions” as he eventually began to call his booklets. Where is the enthusiast who will some day, if not collect, then at least have a look at the majority of these publications and describe them for the less fortunate? How many of them were found, after the poet’s death, inside his sofa together with other rare manuscripts?
How does one describe Kručenych? A neoprimitivist, one of the pioneers of the absurd, a zaumnik, an originator of “funk”** poetry, a Russian Freudian, a destroyer of taboos, a mixer of genres, a defender of poor poetry — and many other things. Quite a few elements in this melange would attract a reader, a critic or a scholar in our days. To make things look more orderly than they really are, we can say that Kručenych was active (and important) in at least five fields of literature, and criticism owes him a great debt, having failed, so far, to describe and evaluate his achievements (or possible blunders) in all five of them.
Even those who would refuse to issue Kručenych a ticket for entry into Russian literature, would probably make an exception for his polemical writings, which are original, vivid and insolent. No other futurist ventured farther than he in polemics with symbolists. On the other hand, one can find in his criticism true insights into the works of others, as, for example, his pointing out that Esenin’s poetry shows a veritable obsession with death. By the way, Kru&nych was the only “Hylaean” who was not totally panegyrical towards his confreres and at times violently attacked even Majakovskij and Chlebnikov. On the other hand, no other futurist shows such an unblemished record of loyalty to futurism or such resistance to outside pressures to conform. He died a non-poet at the time when there were dozens of Majakovskij monuments.
As a theoretician, Kručenych, again, went farther than the rest and perhaps formulated his ideas more clearly, though some may accuse him of oversimplification or even vulgarization. This part of his oeuvre, more than any other, waits for a scholastic evaluation. Not only do his ideas of zaum’ have to be investigated, but also such minor obsessions as sdvigologija have to be carefully explored and analyzed, rather than perfunctorily dismissed as seems to be the custom. In fact, Kručenych’s highly interesting theoretical evolution with its many ramifactions, especially as expounded in his writings of the 1920’s, is still awaiting a simple description.
In this connection, a few words ought to be said about much- abused (and little-studied) zaum’. Everybody knows that Kručenych was one of the creators of the idea of zaum’, the author of the classic and habitually misquoted “dyr bul shchyl” (not to mention many other zaum’ poems) and one of the leaders of the zaum’ movement. What is written about his zaum’, however, is often based on imprecise and incorrect statements of inept critics of his time and, to the best of my knowledge, never on actual knowledge of even a fraction of his poetry. The same can be said about comparisons of his and Chlebnikov’s ideas and practices of zaum’. It is always ignored that those ideas changed with time. Not unlike the symbolists, who ended by declaring that any great poetry is symbolist, Kručenych became more and more centrifugal in his interpretations of zaum’. In 1925, he considered as zaum’ the then fashionable usage of dialects in Soviet prose. This is, of course, not the end from which to begin a study of zaum’, as some scholars seem to think. Limiting the area and describing and analyzing pure zaum’ ought to be the way, i.e., the poetical language invented by a poet with the aim that it does not resemble the poet’s native tongue in any of its aspects. From here, if at all, one can enlarge. Otherwise, one has to include neologism in the zaum’ area — a procedure Chlebnikov would strongly object to, since he devoted two separate chapters to these two forms of lexical experiment (i.e. zaum’ and neologisms) in his “Our Foundations”. In this context, I hope, many will find it interesting to acquaint themselves with Kručenych’s preface to Čačikov’s book (included in this collection), in which he demonstrates the art of translating conventional poetry into zaum’.
Kručenych the publisher is another subject worth studying. With the exception of a handful of books published in the 1920’s by the All-Russian Union of Poets and by Lef, his publications were published by himself. They resemble some of Remizov’s books in their deliberate mixture of genres and hodge-podge composition, but Remizov seldom mixed his own writings with someone elses’s. As to their appearance, Kručenych’s booklets are not only a reverse of the symbolist deluxe editions. They extend from various excercises in the “hot medium" of a handwritten book, complete with deliberate errors and carelessness, to typographically set ones. Whimsical combination of prints in some of the latter never reaches the level of Zdanevič’s tours-de-force, however. Illustrations in Kručenych’s books deserve a special study: they not only merge with text, but sometimes force it into a subordinate position. Among these illustrations, one finds some of the earliest collages — and some of the most original, too (cf., the underwear button on the cover of Zaumnaja gniga).
Less known is Kručenych the prose writer, but he shares this lack of appreciation with other futurists, who never practiced prose to a great extent, but left several striking essays such as Livšic’s “Ljudi v pejzaie” and Kušner’s Miting dvorcov, not to mention such substantial achievements as Guro’s lyrical miniatures, Kamenskij’s Razin-novel and, to be sure, Chlebnikov’s masterpieces in this medium. Among Kručenych’s works, “Putešestvie po vsemu svetu” (Mirskonca) and “Iz Sachary v Ameriku” (Troe), ought to be included in any anthology of Russian futurist prose (a project which is certainly overdue).
Finally, Kručenych’s other-than-zaum’ poetry should be studied and, together with that of zaum’ quality, described, divided into periods and cautiously classified. Cautiously, because even in Kručenych’s early so-called parodistic poetry (“Iz pisem Nataši k Gercenu”) the principles seem to be elusive as they well should be with the poet who consciously wrote „poor” poetry and thus anticipated such esthetic ideas of our time as “camp”, “funk” etc.
An effort was made to represent Kručenych as fully as possible in this collection, but a really well-balanced selection was not possible because some material was either unavailable or not reproducible. Hopefully, though, this book will arouse interest in this fascinating figure of Russian futurism (which may lead to another volume of Kručenych’s works) and induce someone to study him in depth or to start hunting for those still numerous publications of his, which remain beyond the reach of the most diligent students of Russian avantgarde.
————
* The only other exception seems to be something printed in Letučaja myš’ in 1913, which I have been unable to get hold of.
** I use the word “funk” in the sense the “funk” artists used it in 1967 (see Peter Selz, “Funk”, UC Press, Berkeley, 1967).
Vladimir Markov
Los Angeles, April, 1972 | После смерти Алексея Елисеевича Кручёных 17 июня 1968 года один молодой русский филолог написал мне: „Последний великий заумник умер” (что неверно: Илья Зданевич ныне здравствует). Позже я прочитал в curruculum vitae талантливого “подпольного” драматурга, что Кручёных не только сыграл в его становлении решающую роль, но даже напутствовал на писательскую стезю (Пушкин так не гордился державинским благословением). Недавно либретто Кручёных «Победа над солнцем» появилось в английском переводе; и вот я пишу предисловие к его сборнику, а студенты Техасского университета в Остине готовят постановку этой оперы.
С другой стороны, один из моих коллег, чей объём сведений и понимание русской литературы не имеют себе равных, узнав о затеваемом издании, поморщился: „Кому это нужно?”
За таким разнобоем оценок стоит нечто большее, нежели заурядная вкусовщина, вроде „Лермонтов выше Пушкина” (“Бунинская школа”) или „Некрасов не поэт” (“Тургеневская школа”).
Литературная деятельность Кручёных на всём её протяжении — нечто из ряда вон. Его наглухо замалчивали, и, тем не менее, он был знаменит — хотя бы в том смысле, что любой мало-мальски сведущий в литературе знал его имя (запоминающееся само по себе, спору нет) и составил твёрдое мнение о нём как о писателе. Для поколения, которое притерпелось к литературным повстанцам и чудакам, Кручёных воплощал наихудшее в футуризме. Большинство тех, для кого имя Кручёных стало нарицательным, пребывали (и пребывают) в убеждении, что это жалкая бездарность, прихлебатель Маяковского и Хлебникова, творчество которого гроша ломаного не стоит. Когда в 1915 году Максим Горький удивил читающую публику одобрением футуристов (но не футуризма как движения), он упомянул Северянина, Маяковского, Каменского и даже Давида Бурлюка, но не Кручёных (и, добавим, не Хлебникова) — и это не случайно.
Для современников Кручёных был воистину мальчиком для битья. Едва ли от какого-либо другого русского поэта так легко отмахивались или осыпали такой бранью. Даже заклёванный зоилами Тредиаковский пользовался в молодости успехом и признанием, а за гробом обрёл защитников из числа непререкаемых: Новикова и Пушкина. Достаточно проследовать за указателями четырёхтомного справочника по русским литературным альманахам ХХ века, чтобы достоверно убедиться: Кручёных печатали одни только футуристы. Из чувства локтя, надо полагать: судя по их отзывам, искренне уважала его, кажется, одна Елена Гуро. Журналы никогда не принимали его произведений, за исключением опекаемого Маяковским «ЛЕФа»,1 но складывается впечатление, что и здесь его печатали только из милости. Литература о Кручёных сводится к предисловию Пастернака (очевидно, по просьбе автора), очерку сподвижника по зауми Терентьева и двум изданиям сборника статей, причём таковой пронизан духом салонной игры или пародии на подношение к юбилею. В библиографическом томе Муратовой по дореволюционной русской литературе Кручёных блистает отсутствием. но складывается впечатление, что и здесь его печатали только из милости. Литература о Кручёных сводится к предисловию Пастернака (очевидно, по просьбе автора), очерку сподвижника по зауми Терентьева и двум изданиям сборника статей, причём таковой пронизан духом салонной игры или пародии на подношение к юбилею. В библиографическом томе Муратовой по дореволюционной русской литературе Кручёных блистает отсутствием.
А ведь этот бодрый труженик — автор двухсот тридцати шести единиц „продукции”, как он со временем стал называть свои брошюры. Где тот энтузиаст, который подвигнется если не издать, то хотя бы просмотреть этот громозд, а потом — пусть коротенько — сообщить о содержании оного менее удачливым изыскателям? Сколько такого добра найдено после смерти поэта под матрацем его кровати вместе с другими редкостями?
Оценка деятельности Кручёных — задача не из лёгких. Неопримитивист, один из пионеров абсурда, заумник, родоначальник “фанковой”2 поэзии, русский фрейдист, разрушитель табу и жанровых перегородок, защитник плохой поэзии — перечень можно длить и длить. Немалая часть его и в наши дни достойна внимания читателя, критика или филолога. Дабы всё выглядело более упорядоченным, чем оно есть на самом деле, рискну заявить: Кручёных был деятелен (и важен) в пяти, по крайней мере, областях литературы. Критика, не сумев до сих пор оценить его достижения (или грубые ошибки, что равным образом возможно), в большом долгу перед ним. поэзии, русский фрейдист, разрушитель табу и жанровых перегородок, защитник плохой поэзии — перечень можно длить и длить. Немалая часть его и в наши дни достойна внимания читателя, критика или филолога. Дабы всё выглядело более упорядоченным, чем оно есть на самом деле, рискну заявить: Кручёных был деятелен (и важен) в пяти, по крайней мере, областях литературы. Критика, не сумев до сих пор оценить его достижения (или грубые ошибки, что равным образом возможно), в большом долгу перед ним.
Даже те, кто ни под каким видом не выдал бы Кручёных пропуск в русскую литературу, должны сделать исключение для его полемических статей — оригинальных, ярких и дерзких. Дальше него в полемике с символистами не заходил ни один футурист. С другой стороны, в его критике можно найти понимание самой сути чужих произведений — именно Кручёных, например, подметил, что поэзия Есенина пронизана одержимостью смертью. Между прочим, Кручёных был единственным “гилейцем”, который не захваливал товарищей по группе, яростно нападая подчас даже на Маяковского и Хлебникова. С другой стороны, ни один другой футурист не выказал такой безупречной верности русскому футуризму и такого сопротивления всеохватному гнёту государства. Он умер не-поэтом в то самое время, когда Маяковскому поставили десятки памятников.
Как теоретик, Кручёных далеко превосходил своих товарищей и, возможно, яснее кого бы то ни было из футуристов сформулировал свои идеи, хотя кое-кто может упрекнуть его в упрощенчестве или даже вульгаризации. Эта грань его творчества более, чем любая другая, ждёт научной оценки. Необходимо разобраться не только в его истолковании зауми, но и в гораздо менее навязчивых идеях (сдвигологии, например), а не скользить по поверхности, следуя обычаю. Прелюбопытнейшая эволюция теоретических воззрений Кручёных, чрезвычайно разноплановых в 20-е годы, ждёт хотя бы простого их описания.
В связи с этим следует сказать несколько слов о столь ругаемой (и малоизученной) зауми. Всем известно, что Кручёных был одним из её создателей, автором классического и — сплошь и рядом — неправильно цитируемого „дыр бул щыл” (не говоря о множестве других заумных стихотворений) и одним из лидеров движения заумников. Однако то, что написано о его зауми, зачастую основано на залихватских высказываниях горе-критиков его времени и, насколько мне известно, никогда на действительном знании хотя бы части его поэзии. То же самое можно сказать о сопоставлении теоретических разработок и практического применения зауми Хлебниковым и Кручёных. Упорно игнорируется тот факт, что взгляды последнего менялись со временем. Подобно символистам, кончившим объявлением всякой великой поэзии символистской, истолкование зауми Кручёных со временем стало гораздо более обобщённым. В 1925 году, например, он причислял к ней модные тогда в советской прозе диалектизмы. Это, разумеется, не тот исходный пункт, с которого следует начинать изучение зауми, как, очевидно, полагают некоторые исследователи. Ограничением области анализа чистой зауми должен стать начальный отрезок пути, а именно язык, выдуманный поэтом с намерением целиком и полностью противопоставить его родной речи. Едва ли требуется что-то сверх того. В противном случае, придётся включить в область зауми неологизмы, против чего решительно возражал бы Хлебников: зауми и неологизмам как формам лексического эксперимента он посвятил две отдельные главы в «Нашей основе». В этом контексте, надеюсь, многим будет небесполезно прочесть предисловие Кручёных к книге Чачикова (входящее в этот сборник), где он демонстрирует искусство перевода общепринятой поэзии на заумь.
Кручёных-издатель — ещё один предмет, ждущий исследователя. За вычетом нескольких книг, выпущенных в 1920-х гг. Всероссийским союзом поэтов и ЛЕФом, вся кручёныховская „продукция” — самиздат. Нарочитой чересполосицей жанров и композиционной мешаниной его брошюры напоминают некоторые книги Ремизова, но Ремизов редко встраивал в свои сочинения чужое. Самиздат Кручёных по своему внешнему виду являет собой не только полную противоположность символистским подарочным изданиям — он простирается от разнообразных упражнений в “горячке” рукописной книги, полной преднамеренных ошибок и небрежности, до типографских сетов. В последних, надо сказать, причудливая вёрстка уступает головокружительным трюкам Зданевича. Иллюстрации в книгах Кручёных заслуживают отдельного исследования: они не только сливаются с текстом, но иногда ставят его в зависимое положение. Среди таковых — один из самых ранних и наиболее оригинальных коллажей: бельевая пуговица на обложке «Заумной гниги».
Менее известен Кручёных-прозаик, но эту недооценку он разделяет с другими футуристами. Занимаясь прозой от случая к случаю, они оставили несколько ярких эссе: «Люди в пейзаже» Лившица и «Митинг дворцов» Кушнера, не говоря уже о таких выдающихся достижениях, как лирические миниатюры Гуро, роман Каменского о Разине и, безусловно, малая проза Хлебникова. «Путешествие по всему свету» («Мирсконца») и «Из Сахары в Америку» («Трое») Кручёных достойны войти в любую антологию русской футуристской прозы (проект, безусловно, запоздалый).
Наконец, “внятную” поэзию Кручёных следует изучить и вместе с заумной описать, разделить на периоды и осторожно классифицировать. Осторожно, ибо даже в ранней, т.н. пародийной, поэзии Кручёных («Из писем Наташи к Герцену») его истинные намерения неясны. Но так и должно быть у поэта, сознательно писавшего “плохие” стихи, и тем предвосхитившего такие эстетические новинки нашего времени, как “кэмп”, “фанк” и т.п.
В этом сборнике предпринята попытка по возможности достойно представить Кручёных, но по-настоящему сбалансированный подбор затруднён: ряд материалов недоступен, кое-что невозможно воспроизвести. Надеюсь, однако, что эта книга вызовет интерес к этой очаровательной фигуре русского футуризма (что может привести к очередному тому произведений Кручёных). Возможно, удастся побудить кого-нибудь более глубоко изучить его творчество или начать поиск той „продукции”, которая остаётся вне пределов досягаемости самых дотошных исследователей русского авангарда.
————
 1 Единственное другое исключение, помнится, — что-то напечатанное в «Летучей мыши» (1913), но подшивку этого журнала я не смог раздобыть. 1 Единственное другое исключение, помнится, — что-то напечатанное в «Летучей мыши» (1913), но подшивку этого журнала я не смог раздобыть.
 2 Я придаю слову “фанк” то значение, какое фанк-художники подразумевали в 1967 (см.: Peter Selz, “Funk”, UC Press, Berkeley, 1967). 2 Я придаю слову “фанк” то значение, какое фанк-художники подразумевали в 1967 (см.: Peter Selz, “Funk”, UC Press, Berkeley, 1967).
Владимир Марков
Лос-Анджелес, апрель 1972 |