

 же много лет Адам Поморский, переводя поэзию, осуществляет проект величайшего значения: прививает польскому языку чувствительность к забытым либо отмершим в нем поэтическим традициям и тем самым облегчает доступ ценных, но запамятованных духовных потоков в интеллектуальную жизнь. Могут сказать, что это кружной путь формирования интеллекта, но ведь поэзия, пусть её и считают сегодня эзотерической областью, пожалуй, важнейшее наше достижение в мировой культуре, составляющее скрытый, не каждому доступный центр польского сознания.
же много лет Адам Поморский, переводя поэзию, осуществляет проект величайшего значения: прививает польскому языку чувствительность к забытым либо отмершим в нем поэтическим традициям и тем самым облегчает доступ ценных, но запамятованных духовных потоков в интеллектуальную жизнь. Могут сказать, что это кружной путь формирования интеллекта, но ведь поэзия, пусть её и считают сегодня эзотерической областью, пожалуй, важнейшее наше достижение в мировой культуре, составляющее скрытый, не каждому доступный центр польского сознания.Среди прочих переводческих работ Поморского особняком стоит поэзия Велимира Хлебникова. В 2005 г. вышли два тома с обширной подборкой поэзии, прозы и эссеистики легендарного отца современной поэзии.
Именно с переводов Хлебникова начинается в творчестве Адама Поморского путь Мастера. Первый, скромный по объёму сборник стихов русского новатора он выпустил в 1982 году. С того времени он обогатил и усовершенствовал своё искусство, дав польское звучание поэзии Гёте (прекрасный перевод «Фауста»), Тракля, Рильке, Элиота и многих гениальных русских поэтов. На собственном опыте он постиг глубины немецкой, английской, русской поэзии, а опыт этот включает полномасштабную поэтическую антропологию: от телесной чувственности, для которой в каждой языковой культуре своя цензура, через различное в национальных культурах психологическое наполнение лирического “я”, через поэтический анализ — часто сатирический, с использованием гротеска — жизни обществ потому различных, что состоящих из этих многообразных “я”, до наиболее утонченных вопросов духовности, метафизики и религии. И с этим богатством, с этим антропологическим универсумом, он теперь вернулся к Хлебникову!
Возникает впечатление, что он обнаружил у Хлебникова языковую и интеллектуальную материю, способную принять всё то, чему он научился в странствиях по европейской культуре. А это просто-напросто означает, что под проницательным взглядом этого переводчика культур видно, как Хлебников своим дыханием обновителя овевает всю европейскую поэтическую традицию, а вслед за ней и все духовные домены. Так как Поморскому удается это постичь и, что ещё важнее, убедить в этом нас при помощи одной лишь ошеломляющей художественной ценности польского перевода, то нужно признать следующее: после многих лет читательского опыта поэзия Хлебникова впитывает всю традицию, преображает её, и всю — преображённую — с огромной энергией излучает. А, благодаря Поморскому, теперь это происходит на нашем языке.
Странность этого утверждения сразу бросается в глаза: как это, столь экстравагантная, новаторская, рискованная поэзия — охватывает всю совокупность традиции?! И всё же это поистине так, ибо вся традиция здесь в движении, в динамике.
Если смотреть с исторически-литературной перспективы, то следовало бы признать издание поэзии Хлебникова первостепенным событием. Почему же, хотя прошло уже много времени, не заметно признаков того, что это явление взволновало кого-либо из поэтов или критиков? (Исключением стала поэтесса и эссеистка Иоанна Мюллер). Причиной тому, как мне кажется, был шок, выражающийся в невротическом молчании.
То, что предстало перед польской поэзией с выходом тома Хлебникова, потрясает. Такое воздействие производит языковая смелость, бескомпромиссность воображения, стремление объять весь человеческий мир. Однако может случиться, что из страха перед шоком эта поэзия не дождется основательного прочтения… Ведь в наше время польская поэзия порой невосприимчива к риску сверхвпечатлительного сенсуализма, к риску чувственной непосредственности. Польская поэзия боится чрезмерности. Мысль обо всём парализует её. Стихи, которые пишутся сегодня, затронуты некой разновидностью классицизма, понимаемого как определённость — и это относится в равной степени и к ученикам Милоша и Ружевича (но, конечно, не к самим Мастерам), и к поставангардной, неолингвистической школе.
Нам не хватает такого проводника, как Хлебников. И не хватает подобных стремлений — возможно, они были у Тимотеуша Карповича? Но я верю, что Хлебников вонзил свой шип — рана болит, и, в конце концов, кому-то захочется выразить эту боль, эту нехватку. Иногда нехватка становится невысказанным живым импульсом!
Сорок лет тому назад создавал вдохновленную Хлебниковым лирику его верный первый переводчик, отшельник польской поэзии — Ян Спевак. Ему было дано увлечься этой экзотической для нас традицией. (Ещё одним её знатоком был Северин Поллак, у которого учился Поморский). Поэтому лирика Спевака, очень высоко оцениваемая некоторыми, так и не вошла в канон.
Описав ситуацию, в которой мы сегодня читаем Хлебникова, следует перейти к особенностям его поэзии, к её сущности.
Вначале нужно сказать, что это поэзия стихийная и одновременно рафинированная, необыкновенно спонтанная — и искусная. Это позволяет ей создать из творческого хаоса такой порядок, который не убивает силу стихии и, изобилуя пейзажами, предметами, явлениями, божественными и человеческими существами, утопиями и жестокостями истории, не подавляет стремления к необъятному. Хлебников принадлежит к числу тех немногих поэтов, которые приравнивали своё произведение к целому миру и, в то же время, чувствовали ритмы этого целого, его внутренние формы, дробления, соединения, потоки материи и энергии.
Эта поэзия — не категорическая форма выражения мира, заключающая в себе мир! Она, с помощью языковых средств, участвует в мире, ищет самоё себя как пятую стихию между четырех: между огнем разума, небом идеальности, волнующимся океаном времени и вещественной землей. И обнаруживается среди них с невероятной точностью, благодаря спонтанной, мгновенной реакции на окружающий мир, на всякий раз новые соотношения мировых стихий. Это не столько чувственная поэзия, сколько поэзия, сама ставшая чувственностью. Её сверхчувствительность утончённа, так как проявляется в сложных взаимоотношениях, в которых она состоит не только с элементами природы, но и с принципами культуры. Хлебников использует полный концерт поэтических средств, речевых стилей, жанров, выдерживая при этом различные дистанции: от явного отождествления с выражаемыми переживаниями и взглядами — вплоть до иронии и сарказма. А поэтические средства порождаются интуицией и антропологическими знаниями, собранными из всей истории мировых культур — от доисторического периода по ХХ век.
Особую достоверность придаёт этой поэзии её глубокая связь с некими свойствами характерными только для русского языка. Никто так глубоко и красиво не писал об этих особенностях, как Збигнев Беньковский:
Хлебников разработал множество видов своего поэтического языка, множество перешейков, через которые с разной скоростью пробивал себе дорогу стихийный напор его воображения. Напомню лишь некоторые.
Были среди них короткие лирические стихотворения с молниеносным развитием. Он писал о них: Эти вдохновенные песни древнего лада, маленькие песенки, полные дыхания жизни, по которым можно бы судить, сколько творцу лет, куда он шел, в каком был настроении, был ли сердит или задумчив, казалась ли ему вселенная мрачным проклятием или благовестом ‹...›.1![]()
Вместе с тем не чужда Хлебникову и высокая гражданственная риторика, присутствующая, например, в стихотворении о Лермонтове, начинающемся сурово и патетично:
Есть в этом тоне достоинство языка, противостоящего величию событий и их актёров. И наоборот: достоинство событий и людей противостоит великодушию языка.
Лирика Хлебникова была неотделима от эпики. При помощи лирических средств он творил эпос. А эпика, в свою очередь, становилась драматургией, он её диалогизировал.
Писал он и поэтические репортажи — жестокие поэмы революции и гражданской войны, психологические портреты палачей и жертв, записи горячечных разговоров, хронику событий. В них он передавал дикость эпохи, в которую бандиты служили революции, занимаясь весёлым, удалым смертоубийством. Он создавал отчеёты о путешествиях по обезумевшей России — своего рода дорожные эпифании, сочетавшие реальную карту с бродяжничеством воображения. Отдельным подвидом стали пронзительные стихотворения и поэмы о голоде. Биологический голод смешивался со спазматической прожорливостью голодного ума, с жаждой добра и правды.
Нигде эта поэзия не становится беспомощной, статичной, описательной, рутинной, ни в одном месте она не является пассивно-созерцательной — хотя бывают моменты активного созерцания. Тогда Хлебников разрабатывает свою космологию и историософию, основанную на чувстве космических ритмов и ритмов истории, но нигде не становящуюся ни доктриной, ни теорией. Это скорее документы духовной работы, с небывалым усилием углубляющейся в строение и пульсацию вселенной. Мы уже никогда не узнаем, сколько в этом было святого безумия, а сколько, как хотелось бы переводчику и комментатору, насмешки и иронии.
Поморский очень широко понимает эту ироничную составляющую поэзии Хлебникова. Мне кажется, ему близко такое определение философа-романтика Фридриха Шлегеля:
Это большая проблема Адама Поморского, всей его концепции современной литературы, которую он излагает как эссеист и практикует как переводчик. В переводимой поэзии он открывает именно такую шлегелевскую „божественную ауру иронии”.
Для Хлебникова это “буффо” стало убийственной трагедией. „Возвышение над собственным искусством” придавало произведениям русского поэта мечтательный полёт. Если это было жонглирование, то целым миром. Однако беспомощность этой мечты усугублялось ещё и тем, что она смешивалась с жестоким, преступным, бездушным коммунистическим утопизмом, который возвышался не над искусством, а над этикой!
Мир этой поэзии, проявляющийся во множестве языковых жанров, можно познать при помощи трёх категорий: обширности, тяжести и меры.
Обширность я уже пытался описать. Можно бы сказать, что эта поэзия творит микрокосмос, представление об универсуме, если бы не опасность ошибочной ассоциации с чем-то схематичным и уменьшенным, с моделью действительности. Это не так. Творчество Хлебникова видится мне как Ипостась Слова, поставленная посреди мира и равная ему достоинством, вскормленная миром и возделывающая мир.
Под тяжестью поэтического мира я понимаю его значительность и болезненность. Проще всего определить этот вес бременем вопросов, которыми личная и общая судьба отягощают сознание. Голод, террор, вынужденные скитания по России — такими жестокими способами зло ввергает толпы в дьявольское движение, в спазматические защитные судороги. То же оно творит и с природой — да, над ней также довлеет судьба. В эпических поэмах Хлебникова и в его небольших лирических стихотворениях между крайними эмоциями эйфории и депрессии перебрасываются огромные массивы: тяжесть взбунтовавшихся, обезумевших толп, тяжесть унижений, тяжесть вины, тяжесть пейзажей, увиденных в последний раз людьми, которые через мгновение погибнут.
При всем этом следует помнить, что он всегда писал из нутра крестьянского воображения, своеобразно натуралистичного. Поэтому он создавал свойственный лишь ему, но по сути своей крестьянский миф — хотя город очаровывал его. Естественной средой была здесь мифическая лёгкость метаморфоз, свободная и спонтанная переработка материи мира и истории. И ещё мифическая без-трагичность смерти — как в сказке. Тем сильнее контраст, когда в поэтических репортажах ему приходилось документировать неприкрытую жестокость массовых убийств. А ведь даже тогда ему удавалось создать миф мученичества, страстной миф тогдашних страданий, уместившийся в апокалиптическом видении: в Голгофе распятого коня.2![]()
Масса мира, до самого основания затронутая общественной лихорадкой времени, как бы сама из себя источает утопии, которые редко согласуются с официальной большевицкой идеологией. Среди этих утопий есть и та sensu stricto поэтическая, которую, кажется, исповедует Хлебников. Он мечтал о том, чтобы статическая энергия, скрытая в весе мира, могла непосредственно, не расточаясь, превращаться в незапятнанную, этически чистую, активную энергию человеческой истории, энергию добра. Однако в своем утопизме он не был легкомыслен: он знал и выражал своё знание о том, что такие сублимации должны пройти через материю человеческой судьбы, придающую им форму. Он, определенно, имел в виду не такую потребность в “форме судьбы”, которая досталась людям в аду большевизма и гражданской войны. Он мечтал, чтобы протяжённость мира и его вес изменялись в согласии с радостно-ритмичными, рациональными мерами судьбы. Такое изменение происходило бы без утраты красоты материи, без утраты духовной красоты людей.
Такова и архитектоника его собственной утопии. Он мечтал о городах, возникающих непосредственно из природы, разума и воображения: без посредничества технической цивилизации. Без посредничества городской традиции, так как привязан он был к крестьянской. Он не строил утопию, не навязывал ее принудительно — он чувствовал, считывал утопию из “воздуха”, из “атмосферы”, из “летучести” и наивности, непосредственности своего времени. Этим он отличался от коммунистов, марксистов.
А ведь он вместе с поэзией был приговорён: меры ада превратили природу в пепелище, человечность в золу.
Трагедия эпохи, верным хроникёром которой стал Хлебников, заслоняет связь его поэзии с одним из особых источников вдохновения ХХ века — с увлечением досократической философией. Многим вдохновленным ею повезло в том смысле, что испытав жестокость этого столетия либо став свидетелями этой жестокости, они всё же не были истерзаны ею так, как голодавший и гонимый с места на место Хлебников. Поэтому они с большей духовной свободой, пусть и не со столь драматическим воображением, могли предаваться своеобразной философии природы. Я имею в виду таких поэтов, как Поль Клодель (в первой половине века) и Октавио Пас (несколько позже). Им было свойственно возвращение к досократическим корням, к временам, когда философия ещё не разнилась с поэзией. Их досократизм стоит связывать не с мыслью Хайдеггера, его бунтом в понимании бытия, а с возвращением к природе как наставнице в мудрости и воображении. Хлебников — эзотерик, Клодель — христианин, Пас — индейский мистик. Они представляли совершенно разные культуры, различной была их духовность и религиозность, кажется, что у них больше различий, нежели общего. Знаменательно, что Клодель и Пас — профессиональные дипломаты, послы своих стран. Пас в эссеистике, а Клодель в дневнике были “дипломатами” политической и идеологической истории нашего времени, оговаривали их согласование с универсалиями совести. Возможно, и Хлебников стремился бы к этому, но, вброшенный в политический хаос России, он был вынужден жить в истории не-дипломатической, не-оговорённой, убийственной. В своих утопиях он лишь убегал — считая, что проектирует… Но для всех троих самое главное — обширность, тяжесть и мера мира — были скорее не категориями интеллектуального познания действительностью, а законами живого языка, на котором говорит и человек, и природа, а гармоничный (или дисгармоничный) хор человека и природы — это поэтическое воображение, его духовно-природные полифонии и тональности.
Поэзию Хлебникова могут по-братски увенчать две фразы из дневника Поля Клоделя, два канонических правила досократического воображения. Первое правило звучит: „Использовать всё сотворенное” — такое творческое наставление придавало Хлебникову необыкновенную смелость. Он использовал всё сотворенное для выражения всего сотворенного. Слова его поэзии, магически отождествлявшиеся с обозначаемыми ими сущностями, одновременно определяли расстояние до этих сущностей — были орудиями для обработки материи мира и были самой материей, которая предоставляла орудия, чтобы преобразовывать себя. Крупнейший досократик Гераклит говорил: „управлять всем при помощи всего”. Здесь самое место для второго канонического правила Клоделя, который о Боге поэтов написал в дневнике так: „Господь Версификатор мер и весов”. Миром Хлебникова управляют скорее боги, нежели Бог, но тем охотнее согласился бы русский поэт, что сущность поэзии составляет не только стихотворный ритм течения речи, но ещё более ритм природы, ощущаемый поэзией, и что именно в этом божественность. Лучше сказать: сама поэзия это природный ритм, меры языка тождественны ритмам материи — и как одно, так и другое есть логос.
Говоря о мерах, мы касаемся одной из важнейших проблем поэзии Хлебникова, который, как известно, увлекался особыми расчётами исторических ритмов. Он верил в регулярную повторяемость эпох, в возможность точного расчёта даты возвращения великих личностей, влияющих на судьбы общества. В этой историософской эзотерике, хотя и курьёзной, похожей на чудачество, на узурпацию безумного рассудка, есть, однако, своя мудрость, имеющая глубокие корни в досократической мысли, в афоризмах Гераклита. Один из них я должен привести в двух версиях перевода, так как суть различия этих переводов составляет квинтэссенцию всего, чем является мера для Хлебникова и его поэтических братьев.
Версия первая — в переводе польского историка философии Владислава Хайнриха:
Версия вторая — перевод польского философа Г. Эльзенберга:
В первой версии афоризма вера управляет огнём, ритмизует его. Если для поэтов огонь — это поэтический мировой лад, то ритмы этого лада навязываются извне, следовательно, и ритмический порядок поэм, версификация, принудительны.
Во второй версии — по мнению знатоков, более близкой оригиналу — именно сам огонь выделяет из себя меры, он сам по своей сути ритмичен, “размерен”. И именно такое понимание ритма пропитывает поэзию Хлебникова. Мера — это жизнь поэтического огня, она принадлежит энергии языка, мера — неотъемлемое свойство огня, а не что-то, навязанное огню. Огонь порождает меры, и огонь питается мерами. Пламенная лирическая энергия содержит в себе меры, которыми живет: меры перемен. Стихотворение, само по себе ритмизованное и изменяющееся, тем самым передает ритмы и изменения космоса.
Конечно, это принципы известные всем истинным поэтам. Но в практике стихосложения всякое бывает, ибо забывается о двойственной природе стихотворных мер — о том, что это меры напряжения и что они “пере-меряют” субстанцию языка в ходе преображения мира. Современные польские поэты либо обладают знанием о понимаемом таким образом ритме, но в своем творчестве ритмически негибки, доктринальны, либо же — хотя их ритм жив — им недостает того, что делает его логосом: ритмичным ладом глубокого универсума, а не только его тонкого поверхностного слоя слов.
Проблема различия и антагонизма между регулярным и свободным стихом также получила зрелое разрешение в поэзии Хлебникова. Его версификация гармонизирует свободный и регулярный стих, давая ощущение красивого закона ритмической свободы. Стих свободен, когда он регулярен, и регулярен, когда свободен.
Хлебников использует характерные, короткие строки, “складывающиеся” в длинные периоды фраз, в расшатанный синтаксис. Короткая волна ритма складывается в богатый и тяжёлый, длиннейший эпический ритм, раскачивающий над строками речь огромных поэм.
Адам Поморский и чувствует, и знает, что такое мера стиха. Этим чувством он обязан восхищению переводимой поэзией, а знанием — культурной компетенции. Он знает, что это мера жадного, всепоглощающего огня. И что это сознательная работа перемен. Много лет примеряя к метрическим текстам и к свободным стихам свою чувствительность, он позволил, чтобы разнородные переводные тексты разожгли её и сделали восприимчивой к мерам и свободе мер этого мира, в котором обитают стихи и поэмы стихийных поэтов.
В поэзии Хлебникова он открыл для нас силу и беспомощность интеллекта, доведенного историей до наивности и до безумия. По пути к наивности и безумию логос повстречался с преступлением. Но до самого конца он героически оставался разумом.
Интеллектуальные комментарии и сноски Поморского не приручают Хлебникова — даже когда “рационализируют” его. Поморский воскрешает этого поэта, проясняет, проецирует образ Личности Хлебникова на сегодняшний день и на будущее польской поэзии.
Кем был Хлебников для своего времени? Он был огнём, поджигающим доктрины и скептицизм, логичные синтаксисы и скептическую иронию. Его “роль” поэта не была ролью — она была опровержением институционализации поэзии.
Он наблюдал и умел дать свидетельство того, как за одну короткую эпоху рождение ХХ века превратилось в агонию. Он слышал, как первый крик младенца переходит в рык убийцы. Он испытал, как преступно-наивная мечтательность становится осуществлением мечты о преступлении.
Что сегодня для нас Хлебников? Угрызения совести поэзии. Ее анархическая человечность. Существующая вовне душа одержимой и мудрой поэзии, ее новое послание нашему миру.
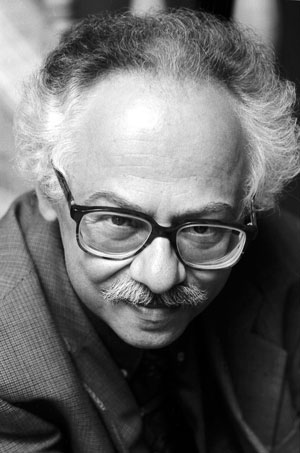 Piotr Matywiecki
Piotr Matywiecki| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 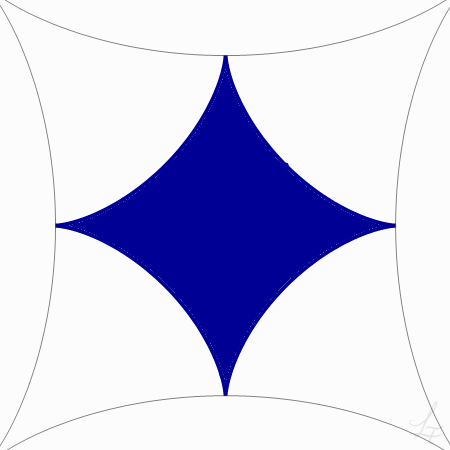 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||