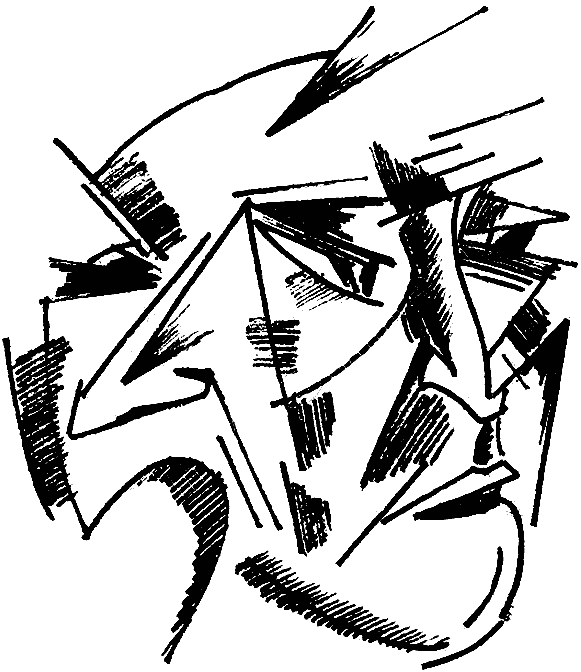
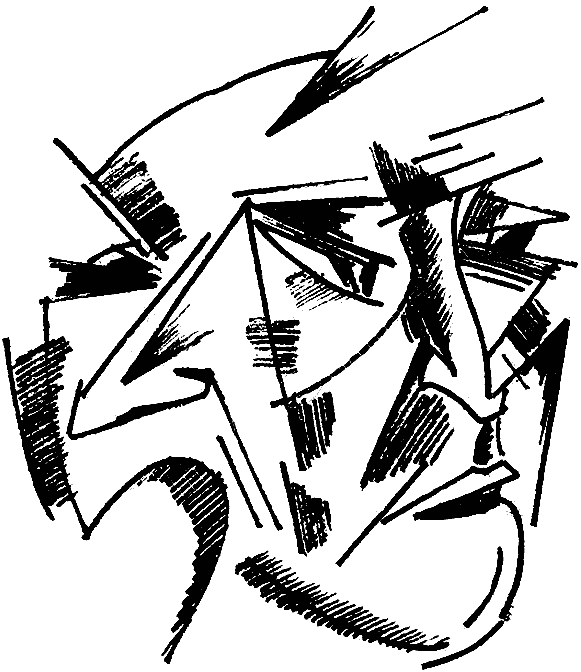
| THE RIZE OF FUTURISM | ВОЗВЫШЕНИЕ ФУТУРИЗМА |
| Russian Symbolism traced its tradition to a foreign source, but ultimately developed along national lines. Russian Futurism has nothing in common with the Italian movement of the name, except the name itself and its most general associations. It is one of the most purely domestic developments of modern Russian literature. If one were obliged to point out any Western movement most like the first stages of Russian Futurism, it would be the French Dada movement, which, however, belongs to a later date (1919–1920). In its further stages, Russian Futurism became very many-sided, and there is little in common between such poets as Khlebnikov, Mayakovsky, and Pasternak beyond a general will to escape from the poetical conventions of the past age and to air the poetical vocabulary. As a whole, the work of the Russian Futurists may be summed up as follows: they continued the work, begun by the Symbolists, of revolutionizing and transforming metrical forms and of discovering new possibilities for Russian prosody; they fought against the Symbolist idea of the mystical essence of poetry, replacing the conception of the poet as priest and seer by that of the poet as workman and artisan; they worked to destroy all the poetical canons of the past by divorcing poetry from what is traditionally considered poetical, from every kind of conventional and ideal beauty; and they worked at constructing a new language that would be free from the emotional associations of current poetical diction. Russian Futurism dates from 1910, when appeared Khlebnikov’s, now famous, etymological poem, which was nothing but a series of fresh-coined derivatives from one word smekh (laughter). From 1911 to 1914 the Futurists did their best to épater le bourgeois in their aggressively unconventional publications, in their public conferences, and even in their personal appearance (for instance, they painted pictures on their faces). They were treated like lunatics or like insolent hooligans, but their principles and their work soon impressed themselves on their fellow poets and they soon became the most vigorous literary group in the country. There can be no doubt that their revolutionary work in rejuvenating the methods of the craft, and in exploding the mystical solemnities of Symbolism, was bracing and invigorating to Russian poetry, which was showing the most dangerous symptoms of anæmia caused by a too spiritual and fleshless diet. All those who were rejected by “bourgeois” literature found hospitality with the Futurists. Many of these hangers-on of Futurism were merely insignificant and ambitious poetasters. But they also preserved the memory of at least one genuinely interesting writer — Elena Guró (died young in 1910). Her delicate and sensitive writings in free verse and beautifully light prose had passed quite unnoticed by the Symbolists. Her two books, The Hurdy-gurdy (1909) and The Little Camels of the Sky (1912), are a wonderland of delicate and unexpected expression of the thinnest tissue of experience. They have never been reprinted and are practically inacccssible.* They will certainly be “discovered” some day and their author restored to the place she is entitled to. The founder of Russian Futurism was Victor (or, as he renamed himself, Velemir) Khlébnikov (1885–1922), who died in extreme poverty when his friends were at the height of their popularity and official favour. Khlebnikov is an exceedingly curious and original figure. Unlike the other Futurists, he was a kind of mystic, or rather he had the mystically realistic mentality of primitive man. But his mysticism was a mysticism of things and words, not of ideas and symbols. In life he was strangely superstitious, and in his poetry he is rather a conjurer playing with the language than what we understand by the word “poet”. Words and forms had for him an existence of their own, and his work in life was to create a new world of words. He had a deep, primary feeling for the nature of the Russian language. He is a Slavophil, but a pre-Christian, almost pre-pagan Slavophil. His Russia is a Russia free from all the scales of Christian and European civilization, a Russia which had been “scratched down to the Tartar”. His vision of the primitive world was not the pageant of Gumilev’s mythology, nor the virtuous simplicity of Rousseau: what he was after was not natural man, but magical man. All things were only a material for him to build up a new world of words. This world of words is without doubt a creation of genius, but it is obviously not for the general. He is not and probably never will be read except by poets and philologists, though an anthology ad usum profanorum might be selected from his works which would present him more attractively and accessibly than he chose to do it himself. As for the poets, they have found him an inexhaustible mine of good example and useful doctrine. They use his works as a granary whence they take the seeds for their own harvests. His work is also of great interest to the philologist, for he was a lord of language: He knew its hidden possibilities and forced it to reveal them. His work is a microcosm reflecting on an enormously magnified scale the creative processes of the whole life-story of the language. Khlebnikov in his creative linguistics was true to the genuine spirit of the Russian language; the method he uses is the same as that used by the language itself — analogy. Another Futurist (Kruchónykh) endeavoured to create an entirely new language or even to use a new language, created ad hoc, for every new poem. This movement led to little good, for Kruchonykh himself and most of his followers had no feeling for the phonetic soul of Russian, and their written inventions are, more often than not, simply unpronounceable. But when this “trans-sense” (zaumny) language is used in sympathy with the phonetic soul of the language, it produces rather amusing and interesting effects. The essential thing to make it alive is a good delivery which, adding to the “trans-sense” words the perfectly sensible intonation, gives the illusion of listening to “Russian as it might have been”. The young Futurist Ilya Zdanévich (resident in Paris) is especially good at the game. A “trans-sense” play in his own delivery makes most amusing stuff to listen to. The “trans-sense” movement certainly contributed to the “de-Italianization” of Russian poetry, and favoured a return to the rougher and ruder phonetic harmonies of the language. A more eclectic group of Futurists who also felt the necessity of invigorating and reforming poetical methods, instead of trying to create a new language or of going back to the primal roots of the old, tried to learn new methods from the old writers, especially those of the Golden Age (1820–1830) — especially Yazykov, who was a Futurist avant la lettre — and of the eighteenth century. They became diligent students of Russian poetry and continued the metrical researches of Andrey Bely, but their task, like that of the Futurists, was to find fresh forms and new strength. These scholarly Futurists have much in common with Mandelstam, and from their ranks came the remarkable poetry of Pasternak. ———————— * I have not had the opportunity of re-reading them since 1914, and to my regret can give no more detailed account of them. | Первотолчок русскому символизму дала западноевропейская литература, но со временем он развился в явление национальное. Русский футуризм, кроме названия и широко понимаемой направленности, не имеет ничего общего с одноименным итальянским движением. Его место — в обойме самобытнейших направлений современной русской литературы. Если бы понадобилось назвать западное течение, более других напоминающее русский футуризм в младенчестве, то это французский дадаизм, который начался десятилетием (1919–1920) позже. Окрепнув, русский футуризм обрёл многогранность, и между такими поэтами, как Хлебников, Маяковский и Пастернак, кроме взаимного стремления избавиться от поэтических условностей XIX века и освежить поэтический словарь, общего крайне мало. Итоги деятельности русских футуристов таковы: они продолжили начатую символистами работу по революционнному преобразованию метрики стиха и открытию новых возможностей русской просодии; попрали символистский догмат о мистической сущности поэзии, отвергнув образ поэта-жреца ради представления о поэте как рабочем и ремесленнике; вменили в ничто поэтические каноны прошлого, отграничив поэзию от того, что принято было называть изящной словесностью; разработали новый язык, свободный от навязчивой игры эмоций господствующей тогда манеры самовыражения. Русский футуризм восходит к 1910 году, когда появилось знаменитое ныне этимологическое стихотворение Хлебникова, целиком составленное из новоделов с общим корнем смех. В 1911–1914 гг. футуристы усиленно эпатировали буржуа не только небывало агрессивными выступлениями в печати и скандальными чтениями с эстрады, но и внешним видом (разрисованными лицами, например). Их воспринимали как безумцев или распоясавшихся хулиганов, но твёрдые принципы и плоды бурной деятельности вскоре произвели впечатление на читающую публику, и эта литературная группа уже не знала себе равных в России по могуществу. Не подлежит сомнению, что новаторские приёмы ремесла и подрывная деятельность футуристов против мистического высокоумия предшественников оздоровили русскую поэзию, которая к тому времени обнаружила опаснейшие симптомы худосочия, вызванного чрезмерно рафинированной диетой. Все, кто был отвергнут “буржуазной” литературой, нашли у футуристов пристанище. Многие из попутчиков на поверку оказались ничтожными и честолюбивыми стихоплётами. Но жива память о действительно интересной поэтессе — Елене Гуро (умерла молодой в 1913 году). Её тонкие по чувству верлибры и воздушную прозу мэтры символизма не оценили. Две книги, «Шарманка» (1909) и «Небесные верблюжата» (1912), — страна чудес по непредвзятости выражения тончайших переживаний. Они никогда не переиздавались и практически недоступны,* но когда-нибудь их обязательно “откроют”, и справедливость в отношении автора восторжествует. Основоположником русского футуризма был Виктор (или, как он сам себя называл, Велемир) Хлебников (1885–1922), умерший в крайней нищете на пике популярности его благоденствующих, вследствие поддержки официальной властью, друзей. Хлебников — чрезвычайно любопытная и оригинальная фигура. В отличие от других футуристов, он был своего рода мистиком, точнее, обладал мистико-реалистичным мышлением первобытного человека. Но его мистицизм был мистицизмом вещей и слов, а не идей и символов. В жизни он был до странного суеверен, а в поэзии заявил себя скорее фокусником, играющим языком, чем тем, кого мы понимаем под словом “поэт”. Некогда взаимообусловленные слова и образы, по его мнению, существовали ныне порознь, и его задача — вновь сплотить их воедино. У Хлебникова было глубокое, первозданное чувство русского языка. Это был славянофил, но дохристианский — если не доязыческий — славянофил. Его Россия — это Россия, свободная от пут христианской и европейской цивилизации, Россия, которую „доскребли до татар”. В его понимании первобытный мир не обладал ни парадным великолепием гумилёвской мифологии, ни добродетельной простотой Руссо: он искал не естественного человека, а человека-мага. Всё и вся служило подспорьем для создания словесного единства нового типа. Этот мир — без сомнения, творение гения — явно не для всех и каждого. Хлебникова не читают и, вероятно, кроме поэтов и филологов, никто не прочтёт, а ведь из его сочинений можно было бы составить антологию ad usum profanorum, которая представила бы их создателя в более привлекательном и доступном виде, чем отобранное им самим. Что же касается поэтов, то они нашли в Хлебникове бездонный кладезь превосходных образцов слога и полезных умозаключений. Они рассматривают его наследие как закрома с семенами для их собственной пашни. Его произведения представляет большой интерес и для филолога, ибо он был властелином языка: знал его тайные возможности и умел пользоваться ими. Его наследие — микрокосм, отражающий в неимоверно увеличенном масштабе творческие процессы всей истории языка, начиная с его рождения. Хлебников-лингвист был верен подлинному духу русского языка; метод, который он использует, “зашит” в его сердцевине: аналогия. Другой футурист, Кручёных, стремился создать не просто небывалый язык, а небывалый для каждого стихотворения в отдельности. К добру эта решимость не привела, ибо сам Кручёных и большинство его последователей не чувствовали “души” звуков, а их написанные выдумки чаще всего просто непроизносимы. Но когда “заумь” такого рода используется в согласии с фонетической сутью языка, она производит прелюбопытное воздействие. Главное, что позволяет её оживить — умелая читка вслух: сопровождение “зауми” осмысленной интонацией создаёт у слушателя иллюзию “русского языка, каким отчего бы ему и не сделаться”. Особенно хорош как чтец молодой футурист Илья Зданевич (ныне парижанин). “Заумная” пьеса в его исполнении — самая забавная вещь, какую только можно себе представить. Движение “заумников”, безусловно, способствовало “деитальянизации” русской поэзии, открыв дорогу шероховатым и “занозистым” звуковым гармониям. Более эклектичная группа футуристов, на словах признавая невозможность далее следовать по избитой колее, вместо попыток изобретения нового языка стремилась выявить и перенять ещё не захватанные приёмы у классиков Золотого века (1820–1830) — особенно у Языкова, который был футуристом до футуризма, — и у авторов XVIII века. Они прилежно изучали русскую поэзию и, в поиске свежих форм и новых возможностей, предавались метрическим изысканиям в духе Андрея Белого. У этого футуризма школярской складки много общего с Мандельштамом, и замечательная поэзия Пастернака — вся оттуда. ———————— * Я не имел возможности перечитывать их с 1914 года и, к моему сожалению, не могу дать о них более подробного описания. |
| Персональная страница Д.П. Святополк-Мирского на www.ka2.ru | ||
| карта сайта | 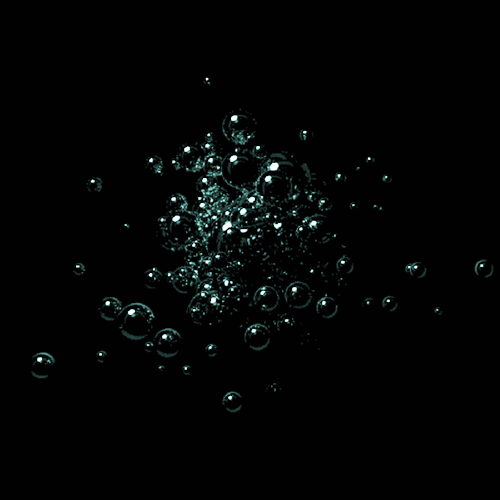 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||