Заумь как форма поэтической беспредметности
Сопроводительная записка В. Молотилова 

сследователями давно установлен факт неразделимости пластических и поэтических экспериментов. Дихотомия “предметного” и “беспредметного”, “реалистического” и “абстрактного” в живописи и поэзии осознаётся всеми без исключения представителями русского авангарда. К. Малевич, воссоздавая новую семиотическую модель мира, формулирует основные принципы супрематизма как беспредметного творчества. Беспредметность, по мысли художника, требует нарушения целостности предмета и уничтожения вещи как таковой. Новое образование знаков — путь к новому творчеству, и потому необходимо отказаться от предметного, дойти до его полного аннулирования.
1
Чисто живописная культура, которая началась с “распыления” предмета и выхода художников-кубистов за рамки традиционного предметного поля, есть „экономическая культура знаков”.
2
«Чёрный квадрат» К. Малевича как символ „экономии и пятой меры в искусстве”3 стал каноническим текстом и для поэтов-авангардистов. Достичь языкового предела, освободив слово от всякого смысла, мечтали многие поэты-футуристы. Самоценное (самовитое) слово осознается ими как беспредметное слово — звукоречь глубин, чистое слово:4
стал каноническим текстом и для поэтов-авангардистов. Достичь языкового предела, освободив слово от всякого смысла, мечтали многие поэты-футуристы. Самоценное (самовитое) слово осознается ими как беспредметное слово — звукоречь глубин, чистое слово:4 „Вместе с живописью, — замечает К. Малевич, — двинулось и слово, преодолев свой прежний мир предметных представлений. Это значит, что и слово освободилось от старых представлений о рассудке и смысле и стало действительностью. Слово тоже становится беспредметным, освобождённым ничто”.5
„Вместе с живописью, — замечает К. Малевич, — двинулось и слово, преодолев свой прежний мир предметных представлений. Это значит, что и слово освободилось от старых представлений о рассудке и смысле и стало действительностью. Слово тоже становится беспредметным, освобождённым ничто”.5
В связи со сказанным возникает вполне правомерный вопрос: можно ли говорить о том, что “заумная” поэзия реализует принцип поэтической беспредметности? Насколько оправдан факт перенесения живописной модели в поэзию? “Беспредметное” и “абстрактное” — приоритетные категории живописного творчества или с определённой долей условности явления авангардистской поэтической культуры? Исследователь русского авангарда Оге А. Ханзен-Лёве, размышляя о поэтике зауми, одним из первых указал на очевидную “методологическую” связь между живописной и поэтической абстракцией. Об этом свидетельствует факт написания В. Кандинским своих абстрактных стихотворений в сборнике «Klange» в 1909 году, создание «Первой абстрактной акварели» в 1910 году, а также графическое оформление футуристических альманахов и сборников.6 Множество высказываний о беспредметной живописи и поэзии, о новом “беспредметном” языке (беспредметное = заумное, супрематизм = заумный реализм) можно найти и у К. Малевича. Достаточно вспомнить следующее высказывание художника-теоретика: „Двадцатое столетие ознаменовалось острым, резким выступлением художников-живописцев и поэтов против предметности. Первые пришли к беспредметности, вторые — к “зауми”.7
Множество высказываний о беспредметной живописи и поэзии, о новом “беспредметном” языке (беспредметное = заумное, супрематизм = заумный реализм) можно найти и у К. Малевича. Достаточно вспомнить следующее высказывание художника-теоретика: „Двадцатое столетие ознаменовалось острым, резким выступлением художников-живописцев и поэтов против предметности. Первые пришли к беспредметности, вторые — к “зауми”.7
Сегодня не утихают споры вокруг дешифровки знаменитого стихотворения А. Кручёных «Дыр бул щыл». Авторитетные учёные разных стран пытаются разгадать замысел творца, убеждая читателей в том, что поэт-заумник обладал лингвистической и литературоведческой эрудицией. Попытка найти ключ для прочтения абсолютно бессмысленного текста связана, с одной стороны, с поиском подтекста, из глубин которого извлечена заумь. С другой — с желанием исследователей доказать существование семантической зауми, что свидетельствовало бы о новаторстве словотворческого эксперимента поэтов русского авангарда. В качестве примера приведу лишь некоторые последние публикации.8
Г.А. Левинтон, размышляя о поэтическом творчестве А. Кручёных и Хлебникова, считает, что созданная ими “квази-заумь” имеет вполне “рациональную” (на языке протагонистов “умную”) мотивировку, что заставляет исследователей искать для зауми объяснения не в области будничного подтекста:
Иначе говоря, заумный текст, по крайней мере, в некоторых случаях, не изобретается и, тем более, не возникает бессознательно, как в радении, а “берётся” откуда-то более или менее готовым и приспосабливается к функции зауми или к другим функциям, диктуемым контекстом. При этом исходный элемент может трансформироваться или оставаться (формально) неизменным.
9
По мнению исследователя, А. Кручёных использовал форму простой литореи, и потому
если
щыл представляет собой быс(ть), то есть, быс
ть, записанное литореей, то его соседство с
бул, напоминающим украинизированную форму того же глагола, оказывается вполне осмысленным; более того,
бул (=
щус) и
щыл (=
быс) оказываются своеобразными инверсиями друг друга (если не считать гласных). Знакомство Кручёных с учебником палеографии не кажется нам совсем уж невероятным.
10
В интересной и увлекательной статье Н.А. Богомолова «„Дыр бул щыл” в контексте эпохи» прочтение стихотворения А. Кручёных на фоне стихотворения В. Нарбута «Нежить», опубликованного в сборнике стихов «Аллилуя» в конце 1912 года, вполне оправданно, хотя фонетические переклички отнюдь не явные. Отстаивая свой тезис о скрытой анаграмме, исследователь пишет:
Дыр находит соответствие в метафоре „упругий воздух дым” (и далее: „домовихой рыжей”, „над сыровцем”, „дружней подбрасывай”, „у щеколды пороги”, „турят дым”). Сюда же относится многократно встречающиеся ‘ды’ (дважды „дым”, „дымоход”, „воздыханий”, „колоды”), ‘ыр’ („сыровцем”, „швыряет”), ‘ры’ („щуры и пращуры”, „рыжей”). Наконец, последнее слово «Нежити» („льнянокудрый”) содержит в себе искомое сочетание в виде точной анаграммы (дыр — дры).
Бул — в точности повторено в слове „булькая”, в обращенном виде — в „клубками”, а частично в виде сочетаний ‘бу’, ‘бл’, ‘ул’ — в словах „разбухший”, „небу”, „„благому””, „благодарят”, „болтается”, „благодарность”, „облака”, „повиснули”. Недалеко ушло и слово „бельмо”.
Щыл, конечно, в точном виде повторено быть не может, поскольку в русском языке сочетание звуков ‘щ’ и ‘ы’ невозможно, однако сами по себе звуки многократно повторяются у Нарбута, — доказательства здесь излишни, достаточно только вспомнить первое четверостишие «Нежити». ‘Вы’ — уже второй слог у Нарбута (ср. тот же слог во второй строке — „выталкивают”), — ну, и так далее. Сказанного, пожалуй, достаточно для формального подтверждения первого слухового ощущения, возникающего при сравнении стихов Нарбута и Кручёных.
11
Подобные трактовки, безусловно имеющие право на существование, приходят в противоречие с автокомментариями самого поэта, который в прозаической преамбуле «Помады» (СПб.,1913) указывает на произвольный и субъективный характер своего поэтического произведения:
Три стихотворения, написанные на собственном языке. От других отличается: слова его не имеют определённого значения.
12
В «Декларации слова как такового» (1913) он выражает свою мысль более ясно и даёт первое определение заумного языка:
Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее.
13
Прекрасно понимая неясность многих формулировок, А. Кручёных пытается теоретически обосновать формальный эксперимент в области поэтического языка. В «Декларации заумного языка» (Баку, 1921) читаем:
Заумь — первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии, сперва ритмически-музыкальное волнение, пра-звук ‹...›Заумная речь рождает заумный пра-образ (и обратно) — неопределимый точно.
14
Отсюда — смысловые оппозиции: разумное / безумное (песенная, заговорная и наговорная магия, изображение вещей невидимых: мистика и музыкально-фонетическое словотворчество); рациональное — случайное, алогичное, “наобумное”; умное — заумное, находящееся за пределами “ума”, „берущее все творческие ценности у безумия”.15
В этих двух определениях с самым высоким индексом цитируемости обнаруживаем парадокс, который впоследствии привёл к полярным оценкам авангардистского эксперимента в научно-исследовательской литературе. Речь идёт о двух разных по своему масштабу явлениях: о попытках создания в рамках новой социальной утопии с ее пафосом преобразования мира и прорыва в новые космические измерения “заумного”, “вселенского”, “звёздного” языка и супрематизма в поэзии по аналогии с «Чёрным квадратом» К. Малевича. «Дыр бул щыл» — четверостишье, которое А. Кручёных репрезентировал как заумь: языковой предел и нулевой уровень коммуникации в новой футуристической поэзии.
Новый космический век с новым космическим сознанием требовал от поэтов языкового новаторства. Об этом очень точно высказывался Б. Лившиц:
Мы — единственные — можем строить и строим наше искусство на космических началах. Сквозь беглые формы нашего “сегодня”, сквозь временные воплощения нашего “я” мы идем к истокам всякого искусства — к космосу. Для меня три состояния разреженности слова не случайная и условная аналогия, а законное отображение трихотомии космоса.
16
„Стихийная космичность” обнаруживается в единственно доступной поэту „одержимости материалом его искусства”, в погружении в стихию слова, что приобщает футуристов к „практике космологии”.17 Эту линию словотворческой работы условно можно назвать “проект В. Хлебникова”: его теория внутреннего склонения была призвана найти новые смыслы, установив корневое родство слов. Самоценное слово поэта — слово, извлечённое из языковых глубин, взрывает языковое молчание и глухонемые пласты языка,18
Эту линию словотворческой работы условно можно назвать “проект В. Хлебникова”: его теория внутреннего склонения была призвана найти новые смыслы, установив корневое родство слов. Самоценное слово поэта — слово, извлечённое из языковых глубин, взрывает языковое молчание и глухонемые пласты языка,18 открывая шлюзы для множества интерпретаций. Это слово сконструировано по принципу амбивалентности: с одной стороны, озвучивается стихия прежних пра-символов и пра-образов и воскрешается потерянный смысл, с другой — рождается предмет, по-новому названный и с иной маркировкой.
открывая шлюзы для множества интерпретаций. Это слово сконструировано по принципу амбивалентности: с одной стороны, озвучивается стихия прежних пра-символов и пра-образов и воскрешается потерянный смысл, с другой — рождается предмет, по-новому названный и с иной маркировкой.
Вторая линия работы над словом связана с “проектом А. Кручёных”. Хорошо известны многочисленные высказывания поэта о зауми как символе творческой свободы художника. Это фонетический язык, основанный на бессознательных импульсах и живущий по своим собственным законам. “Заумь”, “звучизм”, “замауль” — язык звукоподражательный, образец нового ассоциативного мышления, когда звуко-буква становится иконографическим знаком. Различая “заумное слово” и “заумь” как две неравнозначные единицы авангардистского языка, но существующие в едином текстуальном пространстве, можно с уверенностью сказать, что апелляция к живописи беспредметничества и абстракционизма не кажется нам искусственной.
К. Малевич, размышляя о движении живописи от кубизма к супрематизму, назвал кубизм „чертой живописного предела”,19 за которым последовал „выход к полной беспредметности”, к супрематизму.20
за которым последовал „выход к полной беспредметности”, к супрематизму.20 Заметим попутно, что беспредметность и супрематизм, который возвращает искусство к самому себе, воспринимаются им как синонимичные понятия:
Заметим попутно, что беспредметность и супрематизм, который возвращает искусство к самому себе, воспринимаются им как синонимичные понятия:
Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т.е. к Супрематизму, к новому живописному реализму — беспредметному творчеству ‹...› Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым.
21
Подобно тому, как художник-кубист разрушает предмет и деформирует живописное пространство, поэт-футурист выхолащивает содержание из слова, демонстрируя возможности формального поиска. „Слово как таковое” мыслится как слово, освобождённое от „исторически закреплённой связи с соответствующим предметом мысли”22 и производящее новые смыслы и ассоциации. По аналогии с абстрактной живописью, дальнейшее уничтожение “предметности” в слове порождает свободную композицию из букв и линий: графическую заумь.
и производящее новые смыслы и ассоциации. По аналогии с абстрактной живописью, дальнейшее уничтожение “предметности” в слове порождает свободную композицию из букв и линий: графическую заумь.
Размышляя в этом же ключе, можно прийти к интересным наблюдениям, сопоставив работу поэта-заумника и художника-беспредметника. Мы увидим несомненное сходство в поиске новых путей выразительности поэтического языка В. Хлебникова и новой живописной знаковости в супрематических квадратах К. Малевича. Абстракции В. Кандинского, которые свели к минимуму весь арсенал искусства как такового, оставив точку и линию на цветной живописной плоскости, находят свой поэтический эквивалент в графическом эксперименте А. Кручёных в тифлисских сборниках. Самоценное, самовитое слово, освобождённое от репрессивного смысла, осознается в футуристической поэтике как слово, не связанное с предметом и смыслом, и потому это некий “абсолютный объект”, демонстрирующий свою автономию по отношению к установленному прагматическому порядку. Заумное слово (слово деформированное, с усечённой серединой или лексической частью бывшего целого) всё же обладает неким семантическим содержанием, пусть даже закодированным в глубинах внутренней формы. Ю. Лотман, отвечая на вопрос о связи мысли и языка в заумном языке поэтов-футуристов, писал:
Заумные слова — это слова с незафиксированным лексическим значением, однако это именно слова, поскольку они имеют формальные признаки слова и заключены между словоразделами. Раз это слова, то, следовательно, полагается, что у них есть значения (слов без значений не бывает), только оно по какой-либо причине неизвестно читателю, а иногда и автору.
23
Сравним с признанием И. Терентьева:
На заумном языке можно выть, пищать, просить того, о чём не просят, касаться неприступных тем ‹...› можно творить для самого себя, потому что
от сознания автора тайна рождения заумного слова скрыта почти также глубоко, как и от постороннего человека.
24
Иную, противоположную точку зрения встречаем у известного лингвиста Г. Винокура. Признавая успехи футуристов в области „языкового строительства” и „языковой инженерии”, он считал, что любой язык должен быть обязательно „умным”:
Отсюда — заумное стихотворение как таковое асоциально, ибо непонятно, бессмысленно. Мало того — заумный язык это даже не звуковой язык. Поэтому ясно, что “стихи” А. Кручёных, взятые сами по себе — это чистая психология.
25
В связи со сказанным возникает вопрос о характере информационного сообщения и о специфике коммуникации в заумном поэтическом тексте.
Новый заумный язык формируется в пространстве новых связей между содержанием и формой: разрушается традиционное соотношение означающего (акустический образ слова) и означаемого (понятие), вследствие чего заумный язык, лишенный смысла, по меткому наблюдению Г. Винокура, „не имеет коммуникативной функции, присущей языку вообще”.26 Со всей очевидностью подобная установка на асимметрию поэтического высказывания обнаруживается в многочисленных заявлениях поэтов об уничтожении здравого смысла и необходимости для художника слова решать лишь формальные задачи. Примат формы над содержанием обуславливает новый характер информационного обмена. Классическая схема всякой коммуникации (отправитель сообщения — кодирование/декодирование — сообщение — канал — получатель — обратная связь) в авангардистском тексте перестаёт работать. Повышенная субъективность и установка на художественный произвол порождает коммуникацию, парадоксальную по своей сути. Ценность информации сведена к минимуму, смысл кодирования аннулируется, так как поэту вовсе необязательно знать, сможет ли разгадать систему знаков и символов читатель. Меняется и функция коммуникации, она просто обесценивается. Выбор стратегии декодирования культурного кода авангарда остается за читателем: первый путь — отторжение вследствие потрясения и шока, второй — вовлечение в остроумную в игру, предложенную автором.
Со всей очевидностью подобная установка на асимметрию поэтического высказывания обнаруживается в многочисленных заявлениях поэтов об уничтожении здравого смысла и необходимости для художника слова решать лишь формальные задачи. Примат формы над содержанием обуславливает новый характер информационного обмена. Классическая схема всякой коммуникации (отправитель сообщения — кодирование/декодирование — сообщение — канал — получатель — обратная связь) в авангардистском тексте перестаёт работать. Повышенная субъективность и установка на художественный произвол порождает коммуникацию, парадоксальную по своей сути. Ценность информации сведена к минимуму, смысл кодирования аннулируется, так как поэту вовсе необязательно знать, сможет ли разгадать систему знаков и символов читатель. Меняется и функция коммуникации, она просто обесценивается. Выбор стратегии декодирования культурного кода авангарда остается за читателем: первый путь — отторжение вследствие потрясения и шока, второй — вовлечение в остроумную в игру, предложенную автором.
Освободившись от гнета привычных смыслов, авангардистский текст порождает бесчисленное множество интерпретаций. Размышляя о специфике коммуникации в статье «Дешифровка авангардистского текста», известный польский исследователь русского авангарда Е. Фарыно ставит вопрос о метакоммуникации и дешифровке культурного кода авангарда:
Явление дешифровки возникает в иных условиях — в условиях неизвестного кода (нечто сказано, но неизвестно, что именно), неизвестного контекста (неизвестно, о чём это нечто сказано), неизвестного отправителя (неизвестно, кем, когда и в каких обстоятельствах это нечто сказано) вплоть до неизвестности всех компонентов за исключением самого сообщения.
27
Иными словами, дешифровка предполагает перевёрнутый коммуникативный акт, „протекающий в обратном порядке” к текстопорождающей установке.28 Следует подчеркнуть, что модели коммуникации, предъявленные миру разными поэтами русского авангарда, существенно отличаются друг от друга уровнем и степенью „распредмечивания”. С одной стороны, В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, Б. Лившиц с их поиском „новой организации слова”, которая требовала пробуждения „уснувших в слове смыслов и рождения новых”29
Следует подчеркнуть, что модели коммуникации, предъявленные миру разными поэтами русского авангарда, существенно отличаются друг от друга уровнем и степенью „распредмечивания”. С одной стороны, В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, Б. Лившиц с их поиском „новой организации слова”, которая требовала пробуждения „уснувших в слове смыслов и рождения новых”29 и создания нового „энергетического типа” семиотической системы,30
и создания нового „энергетического типа” семиотической системы,30 когда сам художник становится текстом культуры. С другой — асемантизм поэтического наследия А. Кручёных, И. Терентьева, А. Туфанова, К. Зданевича, В. Гнедова и др., когда язык как таковой упраздняется и трансформируется в звуко-графические объекты. „Нулевой” уровень семантики и есть чистая абстракция. Новая знаковая природа заумного языка задолго до открытий структурализма осознавалась К. Малевичем:
когда сам художник становится текстом культуры. С другой — асемантизм поэтического наследия А. Кручёных, И. Терентьева, А. Туфанова, К. Зданевича, В. Гнедова и др., когда язык как таковой упраздняется и трансформируется в звуко-графические объекты. „Нулевой” уровень семантики и есть чистая абстракция. Новая знаковая природа заумного языка задолго до открытий структурализма осознавалась К. Малевичем:
Жизнь не создала для поэта слова, специально для его поэтического творчества, и сам он не позаботился об этом. Предметы родили слова или слово родило предмет, а утилитарный разум приспособил их к своему обиходу. ‹...› Все слова есть только отличительные знаки, и только. Поэт слушает только свои удары и новыми словообразованиями говорит миру, эти слова никогда не понять разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта.
31
Сами поэты-футуристы неоднократно подчёркивали важнейший момент в создании заумного языка — бессознательные импульсы, которые порождают коммуникативную неопределённость авангардистского текста. Слово, рождённое в глубине сознания, окончательно теряет связь с обозначаемым им понятием. Заумный язык становится системой вторичных знаков: перед нами некий “след”, проявленный в координатах определённого культурного кода читателя. Слово осознается как знак, который обозначает не сам предмет, а его “тень”. Вот почему для поэтов слово не может быть до конца осознанным, да и сам поэтический язык есть магия и тайна.
Многие исследователи русского авангарда давно пришли к необходимости уточнения некоторых понятий в авангардистской текстологии. Возможность взглянуть на авангардистский текст под углом зрения таких понятий, как “беспредметность — абстракция”, открывает путь к новым стратегиям интерпретации. Заумь, на наш взгляд, в футуристической поэзии представлена двумя моделями.
1. Семантическая заумь — заумное самоценное слово, которое априори не может быть “абсолютно чистым”, “беспримесным”, а значит, беспредметным. Значение, пусть даже со знаком минус, сохраняется, и свидетельством словотворческой работы по созданию семантики новых смыслов слов с “внутренним” значением являются эксперименты В. Хлебникова: открытое им внутреннее склонение, приём корневой контаминации или аттракции словоформ, порождающий некий третий смысл, принцип неологизирования, трансформация “заумного” в „умное”. Следует особо отметить, что заумное слово — слово как таковое — Хлебников использует относительно редко. Можно сослаться на пример интерпретации слова (?), его части (?) — мо в стихотворении:
Разве не Мо бога,
Что я в черепе бога
Кляч гоню сивых, в сбруе простой,
Точно Толстой бородатый, седой
На известной открытке ‹...›
32
Комментируя это стихотворение, Вяч. Иванов пишет:
Стихотворение основано на раскрытии смысла хлебниковского заумного слова
мо, которое и означает
распаденье объёма на мельчайшие части. Но Хлебников не только расшифровывает в ряде синонимических уподоблений это основное значение, но его подкрепляет подбором слов, включающих
м или целиком
мо: мозгу, молью (соотнесённое с
Мо параллелизмом:
Разве не Мо бога —
Разве не молью в шкуре),
малосты, мела, малую, муку, мухой, маленьким мохом и
муравой. Основной способ
“одомашнивания” заумных слов у Хлебникова заключается в оркестровке ими слов обычного языка, через которые они должны были просвечивать. В этом смысл его многочисленных теоретических рассуждений, где объясняется значение той или иной фонемы на примерах слов русского языка (но с нередкими оговорками о том, что предполагаемые им законы шире, чем один язык).
33
Фрагмент слова (корень, например) — слово с частичной семантикой живёт по законам неканонической семиотической модели, когда код может восприниматься как сообщение или позиционироваться как автометакоммуникация. Следовательно, говорить о беспредметности заумного слова как минимум некорректно.
2. Фонетическая или “графическая заумь” — некий звукобуквенный комплекс, который автор репрезентирует как заумный поэтический текст. Заумь как фонетическая организация материала: „фоно-заумь”, „экономическая заумь”, которую Кручёных определял как „эко-эз”, „звучизм” — некий вселенский язык, составленный из одних гласных (или согласных). Это поэзия, в которой „сопряжение” абстрактного (общего) и конкретного (частного) окончательно исчезает. Это языковая материя, трансформированная в звуки, буквы, графические линии и звуковые пятна. Перед нами абсолютный языковой предел, тот супрематический „нуль форм”, который знаменует конец поэзии и смерть автора как такового. Пытаясь внести ясность в сложившуюся традиционную классификацию, австрийская исследовательница Р-М. Циглер выделяет два типа зауми: Заумь 1 и Заумь 2. Первая представляет собой “звуковую” и морфемную сторону авангардистского текста, вторая — заумь семантическую или “сем-заумь”.34 Т. Никольская, осознавая необходимость подобного разграничения, предлагает учитывать специфику „чистой” и „не совсем чистой” зауми,35
Т. Никольская, осознавая необходимость подобного разграничения, предлагает учитывать специфику „чистой” и „не совсем чистой” зауми,35 а современная поэтесса Ры Никонова (А. Таршис) считает, что пришло время выделить в зауми две „дочерние сферы”: „сферу литературы, незначительно отклоняющейся от нормы (от обыденного употребления языковых форм), сохраняющей следы реалистического письма, и сферу литературы, не сохранившей никаких следов обыденного смысла, т.е. чисто абстрактную”.36
а современная поэтесса Ры Никонова (А. Таршис) считает, что пришло время выделить в зауми две „дочерние сферы”: „сферу литературы, незначительно отклоняющейся от нормы (от обыденного употребления языковых форм), сохраняющей следы реалистического письма, и сферу литературы, не сохранившей никаких следов обыденного смысла, т.е. чисто абстрактную”.36
Напрашивается очевидная аналогия с известной типологией форм воплощения современного искусства В. Кандинского. Различая два элемента искусства — „предметное” / „Великая Реалистика” и „чисто художественное” / „Великая Абстракция”, художник-теоретик писал:
Великая реалистика — это стремление изгнать с полотна поверхностно-художественное и воплотить содержание путем простого (“нехудожественного”) воспроизведения простого жёсткого предмета. Внутреннее звучание предмета надёжно обнажает таким образом постигнутая и зафиксированная на полотне внешняя его оболочка, одновременно освобожденная от привычной навязчивой красоты. ‹...› Сведённое к минимуму “художественное” должно быть познано как наиболее сильнодействующая абстракция. Этой реалистике противостоит великая абстракция, состоящая из стремления исключить предметное и воплотить содержание в “нематериальных формах”.
37
Понимая, что возможности „удаления реального” небезграничны, он уточняет: абстракция — это „предметное”, доведённое до минимума. „Изгоняется ли тем самым предмет, вещь из картины?” — задаёт вполне правомерный вопрос художник-теоретик, и сам отвечает на поставленный вопрос:
Нет. Линия ‹...› — вещь, наделённая таким же практически-целесообразным смыслом, как и стул, фонтан, нож, книга и т.д. В последнем случае эта вещь используется в качестве чисто живописного средства без учёта её других сторон, которыми она может обладать, — то есть в ее чистом внутреннем звучании.
38
Совершенно очевидно, что абстрактная живопись и абстрактная поэзия не способны адекватным образом отображать и воспроизводить действительность: предметный и вещный мир. Перед нами разные формы его репрезентации: художник выбирает иные „нематериальные” формы (точка и линия на плоскости наделяются самостоятельным эстетическим статусом), поэт — заумь как нулевой порог смысла и языковой предел.
Живопись и поэзия русского авангарда работают на сопредельных территориях, о чём свидетельствует единый вектор поиска новых границ искусства и креативных форм художественной выразительности. Об этом взаимном содружестве поэтов-заумников и художников-абстракционистов очень точно высказывался В. Шкловский:
Подобно тому, как для абстракционистов картина представляет собой всего лишь „сочетание красочных пятен”, так же и заумная речь является беспредметной комбинацией „звуковых пятен”.
39
Фонетическая заумь, отрицая практическую функцию коммуникации, нарочито обессмысливает отношения отправителя сообщения и адресата — авангардистский текст перестаёт быть текстом в традиционном смысле слова, язык позиционируется как метаязык. При этом заумь становится неким “внутренним”, не языковым, а скорее изобразительным, иконическим знаком. Отсюда, с одной стороны, — установка на звук как таковой: звук усиливает семантику текста и сам обретает самостоятельные семантические качества. Проблеме звуковой фактуры, звуковой организации текста поэты-футуристы уделяли огромное внимание. Звук для них — самостоятельный эстетический объект: он вызывает эмоциональные переживания и обладает особой экспрессией.40 „Фонетико-семантические фигуры”41
„Фонетико-семантические фигуры”41 демонстрируют новые пути звуковой выразительности и выявляют новый акустический образ слова: „Звукообраз и звук (фонема), — писал А. Кручёных, — живут как никогда, и чем они необычнее и выразительней — тем больше материала для выражения страсти”.42
демонстрируют новые пути звуковой выразительности и выявляют новый акустический образ слова: „Звукообраз и звук (фонема), — писал А. Кручёных, — живут как никогда, и чем они необычнее и выразительней — тем больше материала для выражения страсти”.42 Новые пути освоения звукового материала открывали новые горизонты для формального эксперимента. Достаточно вспомнить азбуку ума В. Хлебникова, пространственно-временные характеристики согласных Д. Бурлюка, „поэтику текучести” А. Туфанова, цветопись В. Хлебникова.43
Новые пути освоения звукового материала открывали новые горизонты для формального эксперимента. Достаточно вспомнить азбуку ума В. Хлебникова, пространственно-временные характеристики согласных Д. Бурлюка, „поэтику текучести” А. Туфанова, цветопись В. Хлебникова.43
С другой стороны, в поэзии русского авангарда буква осознаётся как самоценный визуальный феномен, она становится автономной единицей стиха, обладающей определёнными фактурными качествами. Звук и его начертание, самостоятельная жизнь гласных и согласных и их цветовая окраска — таков путь самовитого слова, по Кульбину:
Тело слова — буква. Значение каждой буквы — своеобразное, непреложное. Каждая буква — уже Имя. ‹...› Слово как таковое не материально и не энергично. Синтез его с музыкой даёт фонетику слова (звук). Синтез с живописью даёт начертание слова.
44
Звуко-буква в поэтической практике русского авангарда обретает множество характеристик: цвет, вкус, запах. Она по-новому распределяется в пространственно-временнóм континууме и становится автономной единицей языка. С помощью графики буквы ‘К’ постигает философию слова ‘камень’ В. Каменский:
+ К — остро — холодно — твёрдое
+ А — сцепление — жидкость — начало
+ М — мироздание
+ ЕНЬ — звук падения
45
О „двояком” воздействии буквы размышлял В. Кандинский:
1. Буква воздействует как целесообразный знак. 2. Она воздействует сначала как форма и затем как внутренний звук этой формы, но самостоятельно и совершенно независимо.
46
Буква, линия и точка, по мысли художника, наделены подобно вещи целесообразным смыслом, и потому чистая абстракция — внутреннее звучание формы. Буква и линия становятся альфой и омегой абстрактных графических экспериментов Кручёных в сборниках тифлисского периода (1918–1922): «Качилдаз», «Фо-лы-фа», «Туншап», «Цоц», «Нособойка» и др. Поэт, используя технику ручного штампа, создает визуальные конструкции. Он стремится сочетать графику с фонетической заумью: разделяет слово на минипорции (знаменитая хо- бо- ро, например, напоминает шаманский обрядовый заговор), представляющие собой произвольный набор звуков.
Широко представлены разнообразные линии и штриховки, выполненные синей, чёрной или зелёной и красной тушью. Прямая, кривая и волнистые линии образуют перпендикуляр, треугольник и квадрат деформированной формы. Линия условно делит стихотворение на несколько плоскостей, при этом комбинация изломанных, оборванных и пересекающихся линий представляет не столько отвлечённую формальную игру, сколько абсолютную произвольность — технику, доведённую до автоматизма. В сборнике «Ф-нагт» (Тифлис, 1918) фонетический и графический эксперимент по визуализации поэтического текста доведён до абсолютного предела. Можно с уверенностью сказать, что тифлисские опыты ознаменовали путь поэта к “нулю” форм — от слова как конструкции из букв к конструкции из одних линий.
Дематериализация слова, его распредмечивание и распределение звуковых масс в графическом пространстве поэтического текста выполняла задачу “минимализации” поэтических средств художественной выразительности, что соответствовало „закону экономии” К. Малевича. Новый путь для художника-беспредметника, по мысли К. Малевича, — „простое экономическое выражение энергийного действа”47 в живописном произведении. „Закон экономии” стал новым культурным кодом русского авангарда и во многом определил движение живописи и поэзии по пути беспредметничества и абстракции. Живопись супрематизма отождествляется с „пятым” измерением искусства:48
в живописном произведении. „Закон экономии” стал новым культурным кодом русского авангарда и во многом определил движение живописи и поэзии по пути беспредметничества и абстракции. Живопись супрематизма отождествляется с „пятым” измерением искусства:48
Супрематические три квадрата есть установление определённых мировоззрений и миронастроений. Белый квадрат кроме чисто экономического движения формы всего нового белого миронастроения является ещё толчком к обоснованию миронастроения как „чистого действия”, как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве „всечеловека”. В общежитии он получил ещё значение: чёрный квадрат как знак экономии, красный как сигнал революции и белый как чистое действие ‹...›Экономический вопрос стал моею главною вышкою.
49
В поэзии русского авангарда призыв Д. Бурлюка к „минимализации речи”50 означал возвращение к простейшим формам в искусстве — „экономному” слову, в малом пространстве которого мысль была бы проявлена более ясно: „Если нет заумной (беспредметной, супремус) поэзии, — писал А. Кручёных, — то нет никакой! — п.ч. поэзия в заумном (красота, музыка, интуиция). Эко-эз — самая всеобщая и краткая (заумная) поэзия”,51
означал возвращение к простейшим формам в искусстве — „экономному” слову, в малом пространстве которого мысль была бы проявлена более ясно: „Если нет заумной (беспредметной, супремус) поэзии, — писал А. Кручёных, — то нет никакой! — п.ч. поэзия в заумном (красота, музыка, интуиция). Эко-эз — самая всеобщая и краткая (заумная) поэзия”,51 „заумь — самое краткое искусство”.52
„заумь — самое краткое искусство”.52
Вслед за поэтами-футуристами поэты-конструктивисты признают слово непригодным знаком для поэзии. Новая организация поэтического материала требует максимум нагрузки на минимум единицы в минимальном пространстве, что соответствует основному закону конструктивизма. На смену болезненному слову, которое погубило поэзию, приходит закон конструктивной поэтики, предопределившей восприятие знаков посредством глаз. „Первое место в Поэтическом “языке”, — писал А. Чичерин, — должен занять знак картинного предстояния, называемый пиктограммой, не образ в предмете, а идеограммная конструкция линейных соотношений, как знак с уклоном в абстракцию — может быть на втором месте. Путь развития Конструктивизма — к картинным и предметным конструкциям без названия”.53 От стихокартин с ритмической и музыкальной организацией к беспредметным и абстрактным визуальным конструкциям — таков путь поэтического конструктивизма.
От стихокартин с ритмической и музыкальной организацией к беспредметным и абстрактным визуальным конструкциям — таков путь поэтического конструктивизма.
Отвечая на вопросы, поставленные в самом начале, можно с уверенностью сказать, что фонетический и графический эксперимент поэтов-авангардистов стал своеобразным выражением нового живописного пластического языка. В пространстве авангардистской культуры этот диалог поэтов и живописцев особенно очевиден. Сама живописная терминология — “абстрактная” заумная поэзия и поэтическая беспредметность зауми — имеет право на существование. В. Кандинский, размышляя о границах абстрактной поэзии, считал, что для такого вида поэзии „должна быть найдена своя нотная система, которая, так же точно будет указывать высоту линии, как это происходит в нотной системе музыки”.54 Думаю, что своей „нотной системы” в абстрактной поэзии поэты-авангардисты так и не нашли, потому что искусство слова все же живет по иным законам, чем живопись. Они не обладали столь мощным философским мышлением, как К. Малевич и В. Кандинский, и потому супрематизм и абстракционизм остались в истории культуры как авторские проекты. Языковое новаторство поэтов-авангардистов по своей сути во многом было избыточным, формальный поиск оказался исчерпанным, авангардистский эксперимент рано или поздно был обречён на “исход”. Пустой лист «Поэмы конца» В. Гнедова стал прощальным ритуальным жестом — символом абсолютного языкового предела и конечности поэтического высказывания.
Думаю, что своей „нотной системы” в абстрактной поэзии поэты-авангардисты так и не нашли, потому что искусство слова все же живет по иным законам, чем живопись. Они не обладали столь мощным философским мышлением, как К. Малевич и В. Кандинский, и потому супрематизм и абстракционизм остались в истории культуры как авторские проекты. Языковое новаторство поэтов-авангардистов по своей сути во многом было избыточным, формальный поиск оказался исчерпанным, авангардистский эксперимент рано или поздно был обречён на “исход”. Пустой лист «Поэмы конца» В. Гнедова стал прощальным ритуальным жестом — символом абсолютного языкового предела и конечности поэтического высказывания.
——————————————————
Примечания 1 Малевич К
1 Малевич К. О новых системах в искусстве // Малевич К. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1.
М., 1995. С. 163.
 2
2 Там же. С. 182.
 3
3 Там же. С. 188.
 4 Хлебников В
4 Хлебников В. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1.
Л., 1928–1933. С. 229–230.
 5 Малевич К
5 Малевич К. Suprematismus. Die gegenstandslose Welt.
Köln, 1962. P. 174.
 6 Ханзен-Лёве Оге А
6 Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм.
М., 2001. С. 93.
 7 Малевич К
7 Малевич К. Живопись в проблеме архитектуры // Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2.
М., 1998. С. 137.
 8
8 В Интернете более ста сетевых ресурсов, посвящённых творчеству А. Кручёных и разборке
дыр бул щыл. См., например, подробнее: Поэзия авангарда / http://avantgarde.narod.ru/beitraege/index.html;
Бирюков С. Поэтический мастер-класс. Урок девятый, заумный // Топос. Литературно-философский журнал. 30.04.2004 / http://www.topos.ru/article/2306
 9 Левинтон Г.А
9 Левинтон Г.А. Заметки о зауми. 1. Дыр, бул, щыл // Антропология культуры. Вып. 3.
М., 2005. С. 160.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 10
10 Там же. С. 163.
 11 Богомолов Н.А
11 Богомолов Н.А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи // Новое литературное обозрение.
М., 2005. № 72. С. 58.
 12 Кручёных А
12 Кручёных А. Помада / Рис. М. Ларионова.
М., 1913. С. 1.
 13 Кручёных А
13 Кручёных А. Апокалипсис в русской литературе.
М., 1923. С. 44.
 14 Кручёных А
14 Кручёных А. Декларация заумного языка. Листовка //
Кручёных А. Заумь / Обл. Родченко А.
Баку, 1921. С. 1–2.
 15 Кручёных А
15 Кручёных А. Ожиренье роз. О стихах И. Терентьева и др.
Тифлис, 1918. С. 14.
 16 Лившиц Б
16 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания.
Л., 1989. С. 506.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 17
17 Там же. С. 488.
 18 Хлебников В
18 Хлебников В. Соб. соч. Т. 5. С. 229.
 19 Малевич К
19 Малевич К. Мир как беспредметность. Т. 2. С. 86.
 20 Малевич К
20 Малевич К. Супрематизм. Т. 2. С. 105.
 21 Малевич К
21 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм. Т. 1. С. 53.
 22 Винокур Г
22 Винокур Г. Маяковский — новатор языка // Винокур Г.О. О языке художественной литературы.
М., 1991. С. 329.
 23 Лотман Ю
23 Лотман Ю. Анализ художественного текста. Структура стиха.
Л., 1972. С. 67.
 24 Терентьев И
24 Терентьев И. Кручёных — грандиозарь / Рис. М. Ларионова.
Тифлис, 1919. С. 13.
 25 Винокур Г
25 Винокур Г. Футуристы — строители языка // Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика.
М., 1990. С. 20–21.
 26
26 Там же. С. 21.
 27 Фарыно Е
27 Фарыно Е. Дешифровка авангардистского текста // Russian Literature. Vol. XXV1-1.
Amsterdam, 1989. С. 1–2.
 28
28 Там же. С. 3.
 29 Лившиц Б
29 Лившиц Б. Стихотворения. Переводы. Воспоминания.
Л., 1989. С. 336.
 30 Фарыно Е
30 Фарыно Е. Семиотические аспекты поэзии В. Маяковского // Umjetnost Riječi (Časopis za znanost o književnosti), God. XXV. Izvanredni svezak: Književnost — Avangarda — Revolucija. Ruska književna avangarda XX stoljeća.
Zagreb, 1981. P. 235.
 31 Малевич К
31 Малевич К. О поэзии // Соб. соч. Т. 1. С. 143, 145.
 32 Хлебников В
32 Хлебников В. Соб. соч. Т. 5. С. 108.
 33 Иванов Вяч.Вс
33 Иванов Вяч.Вс. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998).
М., 2000. С. 271–272.
 34 Циглер Р-М
34 Циглер Р-М. А.Е. Кручёных. Группа «41°» // Russian Literature. Vol. XVII-1.
Amsterdam, 1985. P. 82.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 35 Никольская Т
35 Никольская Т. Игорь Терентьев в Тифлисе // L’avanguardia a Tiflis.
Venezia, 1982. С. 191.
 36 Таршис А
36 Таршис А. Кааба абстракции // Учёные записки отдела живописи и графики Ейского историко-краеведческого музея. Вып. 1.
Ейск, 1991. С. 20.
 37 Кандинский В
37 Кандинский В. К вопросу о форме // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1.
М., 2001. С. 218–219.
 38
38 Там же. С. 222.
 39 Шкловский В
39 Шкловский В. Кинематограф, как искусство // Жизнь искусства. 1919. № 139–142. С. 2.
 40
40 Об „эмоциональном переживании звуков” писал известный лингвист ОПОЯЗа Л. Якубинский статье: «О звуках стихотворного языка» // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка.
Пг, 1919. С. 43.
 41 Якобсон Р
41 Якобсон Р. Работы по поэтике.
М., 1987. С. 81.
 42 Кручёных А
42 Кручёных А. Фонетика театра. 2-е издание, доп.
М., 1925. С. 8.
 43
43 О звуковой фактуре слова см.:
Сахно И.М. Русский авангард: живописная теория и поэтическая практика.
М., 1999. С. 100–142.
 44 Кульбин Н
44 Кульбин Н. Что есть слово (2-я декларация слова как такового) // Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В.Н. Терёхина, А.П. Зименков.
М., 1999. С. 46.
 45 Каменский В
45 Каменский В. Из литературного наследия. Танго с коровами. Степан Разин. Звучаль веснеянки. Путь энтузиаста.
М., 1990. С. 7.
 46 Кандинский В
46 Кандинский В. К вопросу о форме // Собрание сочинений. Т. 1. С. 221.
 47 Малевич К
47 Малевич К. О новых системах в искусстве // Малевич К. Соб. соч. Т. 1. С. 155.
 48
48 Там же. С. 183.
 49 Малевич К
49 Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка // Малевич К. Соб. соч. Т. 1. С. 188.
 50
50 Д. Бурлюк писал: „Русский язык нужно компактировать, титловать, сокращать, усекать ‹...› Для размышляющих об искусстве это будет звучать так: не может ли в искусстве сложнейшее содержание быть выражено простейшими формами, или может ли самая по виду незамысловатая, простая форма быть необычайно важной, многозначительной для эстетики исследователя. Быть ключом приобщения к миру” (
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста.
СПб., 1994. С. 41, 148).
 51 Кручёных А
51 Кручёных А. Нособойка.
Тифлис–Сарыкамыш, 1917. С. 7.
 52 Кручёных А
52 Кручёных А. Апокалипсис в русской литературе.
М., 1923. С. 46.
 53 Чичерин А
53 Чичерин А. Кан-фун. Конструктивизм — функционализм. Декларация.
М., 1926. С. 10.
 54 Кандинский В
54 Кандинский В. Поэзия // Точка и линия на плоскости. К анализу живописных элементов // Кандинский В. Избранные труды. Т. 2.
М., 2002. С. 175.
Воспроизведено по:
Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН. 2009. C. 83–102.
——————
По-над пропастью
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее.
В. Высоцкий
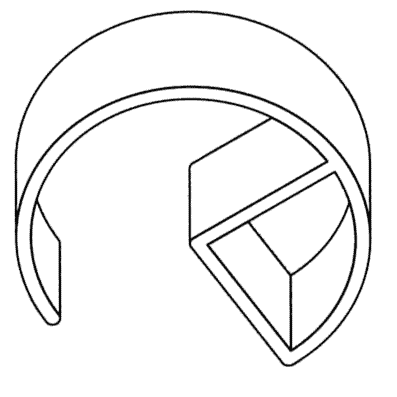
зда в незнаемое — затёртое до дыр определение поэзии. Затёрли самое главное: попутчики Маяковским не предполагались. А Велимир Хлебников гнул своё:
Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.Звал в знаемое, иначе говоря. Всех. Неосторожные клюнули.
Но не Кручёных А.Е., преподаватель рисования с корочками (целёхоньки).
Этот был осмотрительнее масона и щепетильнее пустынника: никогда не обнадёживал слабый пол, пил на ночь простоквашу, выходя из дому, наполнял рот кипятком. И преставился весьма преклонных лет, разочка не шагнув кому-либо вслед.
Ну и что, хмыкнут скоросшиватели смыслов. 1. Лев Толстой эвона колобродил по неведомым дорожкам. 2. Самобытнее всех опочил.
Не могу молчать и не буду. 1. Лев Толстой на смертном одре руками-ногами упирался, требуя отсрочки. 2. Алексей Кручёных нарочно схлопотал себе воспаление лёгких. Жизнь удалась, ну и до свидания.
Жизнь удалась на славу: так и не сломали. Одумайся, Алёша. Вова же перековался. Эвона цок-цок-цок. А ты. Ну, тогда не обессудь.
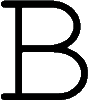
непростой истории русского футуризма, где количество расколов, разрывов и новых альянсов, по-видимому, превышает численность самих футуристов, был один человек, которого можно назвать эталоном верности и надёжности: Алексей Кручёных. И колеблющийся Лившиц, и действующий на авось Бурлюк были склонны к крайностям: первый — чересчур требователен, второй — мастак занизить и запутать цели движения. Что касается Хлебникова, то, несмотря на свой высочайший уровень и престиж, он всегда оставался “одиноким охотником”. Но чем бы ни занимались футуристы — отрицанием прошлого, борьбой с литературными врагами или „словом как таковым” в его графическом облике, фонетической плоти и морфологическом скелете, — Кручёных от своих друзей никогда не отставал. Уступая многим из них в образованности, мастерстве и таланте, он сумел, тем не менее, стать теоретиком футуризма; возможно, именно благодаря ему футуризм обрёл своё лицо и сохранил верность главным принципам.
Марков В.Ф. История русского футуризма
Владимир Фёдорович Марков (1920–2013) в оценках сдержан ой как неспроста: он выдавливал из себя по каплям Зоила пополам с Коровьевым. Лихой был в молодости прокуда, вылитый Пушкин до ссылки в Бессарабию (попомнишь Овидия). Другой бы, возгордясь редчайшим сродством душ, знай подковыривал да язвил, а уж достигнув степеней известных, таким глаголом жёг, что мама не горюй: светило есть светило.
Но даже Марков снял перед Алексеем Елисеевичем шляпу и опахнул ею американские ботинки свои, прежде чем высказаться.
Зачем я прилюдно твержу эти зады? Отчасти по наивности, но больше из просветительских побуждений: cил нет моих больше темнить.
7 ноября 2020, 21:12
Для декабрьского обновления подойдёт (но утро вечера мудренее) «Заумь как форма поэтической беспредметности». Однако официально я пока не обращаюсь. Там слишком много Малевича. Создаётся даже впечатление, что Хлебников и Кручёных — так, подхватили и развили. Но я завтра перечитаю.
8 ноября 2020, 07:27
Перечитал на свежую голову: прежнее впечатление. Малевич — святче отче, Кручёных и Хлебников — алтарники. Если вывешивать на ka2.ru, то с моими возражениями. Вы готовы к такому обороту?
8 ноября 2020, 13:15
Нельзя их так прямолинейно сравнивать! И кстати, Малевич шёл за Кручёных, если быть точным исследователем! Дыр бул — декабрь 1912 года (опубликовано в 1913-м в «Помаде»), а Чёрный квадрат — 1915! И называл он свои работы поначалу — заумный реализм.
Многие тут знают, в какую погоду русская женщина карает измену: дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю. Другой вопрос, кому править «Заумь как форму поэтической беспредметности». Ей недосуг, а меня-то за что. Сошлись на сопроводительной записке, и это правильно: давненько жду случая высказаться.
Так совпало, что моё знакомство с Романом Валентиновичем Дугановым (1940–1998) случилось во время выставки русского автопортрета в ГМИИ. Сильнейшее впечатление — Врубель и Малевич. Врубелей было множество, Малевичей двое: в головном уборе и без. Врубель врезался в память на меньшую глубину, судя по мне нынешнему, да и с Дугановым о нём ни гу-гу. Ино дело Малевич. Оказывается, говорю, и впрямь художник. Ещё бы, отвечает собеседник, вынимая из воздуха открытку с «Точильщиком» 1912–13 гг. Ага, ехидствую, всё-таки кубики, а не квадраты.
Ка-ак он на меня зыркнет. А я рублю правду-матку по самый крестец: Малевич вернулся к реализму, это медицинский факт. Прямо-таки Лев Толстой наизнанку.
Что такое Лев Толстой наизнанку, из наших знает одна Барбара Лённквист, переводчица «Войны и мира» на шведский. Дело поправимое: разглашаю. Недосягаемое достижение зеркала русской революции (В.И. Ульянов-Ленин) — «Хостомер», где рысак мыслит как русак. Мыслит, стало быть существует (Декарт). А дальше — по наклонной в очевидное и вероятное. То есть в несущественное. И докатился до нападок на апостола Павла.
Выворачиваем Льва Толстого наизнанку. Недосягаемое достижение оборачивается прыжком в пропасть со страховкой. И пошло-поехало двоиться в глазах наблюдателя: то ли этот прыгун благоразумный сумасброд, то ли бесшабашный паинька.
Возвращаюсь к разговору с Дугановым: поставьте себя на его место. Меня же подослал Май Митурич, прощупать эдак невзначай: они едва знакомы. И вот гостя изгоняют из-за равносторонней по линеечке малеванки на белом от бешенства холсте. А Май Митурич — исповедник наивно-предметных заблуждений, он всё угласто-правильное на дух не переносит со времён деревянной лошадки: папины пререкания с Татлиным.
И Роман (тогда ещё всё-таки Рудольф) Валентинович впадает в задумчивость под видом раскуривания трубки. Раскурил, пыхнул в потолок. Раз пыхнул, другой. На третий пых слышу: Малевич вернулся не к реализму, а к фигуративной живописи.
Как многие тут знают, конёк Василиска Гнедова — рифма понятий. Понятие хороший вкус, например. Пишем столбиком Редька / Горчица / Хрен. Или: Устрицы / Солёные кульбики / Сопли. Умный поймёт и насладится, недотёпа читает Брюсова про бледные ноги.
Какого вкуса бледные ноги, кстати говоря? Вкуса мороженого из сирени, гнусавит Игорь Северянин.
По Василиску Гнедову, послевкусие реализма, фигуративной живописи и прочей мимемы (μίμημα — подобие, сходство) летит в тартарары ноздря в ноздрю с квадригой (красивше четверни? а то!) Прогоркло-плесневелое / Тухлятина / Clostridium botulinum / Трупный яд.
Но я же не Василиск и не Гнедов, куда мне. Но могу, поднатужась, ужать свои пререкания с Дугановым в три слова: Малевич — сума перемётная. И преемнику Харджиева нечем было крыть.
Перехожу от неприятных (дурацкий разрыв с Дугановым вгоняет в нехорошую задумчивость по сей день) воспоминаний к бодрой повседневности: радость приобщения к истине. Столь изящно и кстати преподанной, не так ли. Оказывается, это Малевич алтарник, а не Алёша Бесконвойный с его приятелем. Более того, приятель с боку припёка: многие тут знают, от кого изящная словесность зачала неведому зверушку. Приятель мимо проходил, и только. Ибо хотелка идти за живописью — о двух концах.
Потом, потом. Лучше один раз увидеть, чем сто раз ослышаться. Смотрим.

Ну как? Да не рояль вверх тормашками на заднике, другое: расстановка сил. Слева материнская поддержка припадочного, справа не по-хорошему в ногу вцепились. Ка-ак вывихну в колене. Или выдерну из тазобедренного сустава к чёртовой матери.
Двух мнений быть не может: хлопотунья миссис Хадсон, Шерлок Холмс и профессор Мориарти, знаток приёмов рукопашного боя баритсу. Коренастый Мориарти выпятил грудь, чтобы казаться величественным. А Холмс подманивает кого-то пальчиком. К подножию профессора? Почему нет. Или к своей расстёгнутой ширинке. Но тогда профессор не выпятил грудь, а отпрянул (каждый понимает в меру своей испорченности).
Шутки в сторону: заумный реализм, переназванный супрематизмом для вящей солидности, моложе проповеди Алексея Кручёных на два с гаком года. По меркам будетлянства — чудовищное запаздывание, но важнее другое: не слово шагнуло за живописью, а живопись за словом. А потом сломя голову назад: казус Казимира. То же самое страдательный Филонов: разродился «Пропевнем о проросли мировой» — и на попятный (молчание — золото).
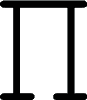
авел Филонов следовал в своих литературных опытах традиции кубо-футуризма. В марте 1915 года М. Матюшин издал в Петрограде его книгу «Пропевень о проросли мировой» с иллюстрациями автора. Произведение представляет собой нечто вроде славянской кантаты или оратории, с запевалой и подголоском. Оно состоит из двух частей, частично основанных на народной песне о Ваньке-Ключнике, частично — на событиях идущей войны. Явного сюжета нет, персонажи по очереди произносят свои монологи (или поют арии). Главная тема этого не очень внятного произведения — мысль о том, что жизнь и любовь в конце концов преодолеют хаос, оставленный разрушительной войной и смертью. На стороне сил добра — Ванька-Ключник и Княгиня, на стороне зла — немцы, истлевший Командор (из «Дон-Жуана») и Полицейский шпик. Пьеса написана ритмизованной прозой или верлибром и несколько напоминает православные песнопения и древнерусские литературные произведения. В языке немало неологизмов, указывающих на влияние Хлебникова, однако Филонов вполне самобытно смешивает их не только с русскими, но и с иностранными словами и, подобно Кручёных, использует части слов. В отличие от Хлебникова, проза и поэзия которого обладают ясной и логически обоснованной структурой, фразы Филонова нередко напоминают разбросанные по холсту краски. В результате получается что-то не совсем внятное и, однако же, оставляющее у читателя сильное впечатление, отчасти напоминающее отклик на картины самого Филонова. Хлебников считал «Пропевень» лучшей книгой о войне.
Марков В.Ф. История русского футуризма
Как это не наш случай. Надо знать вехи большого пути, голубчик: «Победа над солнцем» случилась годом раньше «Пропевня о проросли». Совпало с матюшинским отдохновением, а то бы и Филонов угодил на подмостки. Любой мальчишка знает, что изобразительное искусство много шире живописи. Звуки окрашены или сотрясение воздуха? Смотря по тому, заволокло третий глаз черепом или нет. А художник-живописец — главным образом станкóвый живописец со времён даже не Луки Лейденского, а Каповой пещеры. Станкóво-настенная живопись как скрашивала досуг человека в слякоть и гололёд, так и ни шагу на мороз и солнце. И эта домоседка опередила путейца языка?
Потом, потом. Я ещё не закруглился с Алексеем Елисеевичем. Как многие тут знают, Василиск Гнедов именно его пытался превзойти в убийственной краткости. Забегая вперёд, позволю себе сметь суждение взреветь: «Поэма конца» — жест отчаяния, не более. Убийственная краткость — сестра не таланта, но гения.
Немь лукает
луком
немным
в
Закричальности
зари!
Ночь роняет душам
темным
Кличи старые: гори! ‹...› Отличие стихотворения Хлебникова — напряжённые неологизмы, постепенно убывающие.
Немь (ср.
ночь, соответствующее ему ниже) — лексический подъём, — ударное, чёткое, лёгкое слово, действеннее всех своих синонимов.
Лукает луком — такое сочетание вернуло областному слову ‘лукать’ (с обычным значением ‘бросать’) его этимологическое значение, — и здесь снова лексический подъём по сравнению со ‘стреляет’. ‹...›
Звуковой строй стихотворения, футуристически изысканный, приковывает к себе внимание. Этому должна содействовать и особая типографская расстановка слов (она была выше точно воспроизведена).
‹...›
немь осмысляется применительно к
ночь как природное, стихийное и конкретное понятие. Здесь-то и сказывается действие „ожидания новизны”, — мы образуем представление
немь как новое, и притом, в данных условиях контекста, оно становится семантическим ядром стихотворения, на нём сосредоточивается смысловой эффект всех выразительных элементов его. Я указал выше, что в этом стихотворении ощутимо убывание неологизмов — и знакового, и семантического порядка. Эстетическая целесообразность такого убывания в том, что мы вынуждены в понимании стихотворения идти с конца к началу, — и это характерно для футуристов. У них преобладает регрессивный, обратный семантический ход, тогда как у символистов, например, чаще встречаем смысловое нарастание, обогащение концовки смысловым эхом передних стихов. При обратном ходе, как в данном случае у Хлебникова, семантической доминантой только и может оказаться зачин, неясное сперва
немь.
Ларин Б.А. О лирике как разновидности художественной речи (семантические этюды). 1927.
И кто же из будетлян изобрёл нагнетание смысла вспять? Ничего подобного, не Лившиц. И даже не Хлебников. Очень простое доказательство: нагнетаемый вспять смысл непременно выплеснется в заголовок, не-пре-менно. Смотрим, кто первенствует в убойных заголовках: Алёша Бесконвойный. А его напарник по «Игре в аду» то и дело ходит не с той масти: рассеянность ли?
Многие тут знают, чем Василиск Гнедов испепелил себя дотла: пятнадцатью (чтобы не пуд, не чёртова дюжина и делилось на три) одностроками. Незачёт в первой пятёрке, дескать, объясним влиянием Циолковского (разгонную ступень отстреливать как только, так сразу), во второй превосхожу мимолётные виденья Алёши, а затем показательный расслабон высадки на Луну.
Какое там. Первопроходец, глядя с колокольни Бориса Ларина, оторвался от соперников и подражателей на целую вечность: Замауль, Миллиорк, Туншап, Фо-лы-фа, Цоц, Зьют, Качилдаз, Шбыц, Биель.
Именно мимолётные виденья. Сморгнул читатель заголовок — и дальше (ниже, включая год издания) время жизни тратить незачем: то самое, что Маяковский называл жевотиной старых котлет.
Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! Маяковский устал к этому стремиться — и плюнул. А зря, досадовал Осип Максимович Брик.
Многие тут знают, что восторженно воспринятый мной возглас Ирины Михайловны Сахно считать открытием не приходится. Увы, без немцев нам и впрямь нет спасенья.

лавным праздником “интер-медиальности” была постановка “оперы” «Победа над солнцем» (
1913), где изобразительные и вербальные, театральные и музыкальные “языки” сливались, или вернее, “монтировались” в один жанр. То, что раньше служило декоративным целям, теперь выполняло самостоятельную роль. “Декорации” становились не только объектом обнажения или остранения, как, например, в романтической или символической инсценировке («Балаганчик» Блока): они выступали “декларациями” медиальности, т.е. моделями сцены с двоякими обрамлениями “Gückkastenbühne” — и тем самым превращались, как известно, в модели картины (или в картину моделей) с названием «Чёрный квадрат» (
1915).
Основа интермедиальных проекций — концепт или конструкт “передачи” трёхмерного пространства в двухмерную поверхность картины. Основа интервербальных проекций — перенос слово- и мифотворческих процессов из словесной сферы в визуальную, из заумной поэзии в “заумную живопись”. ‹...›
Несмотря на то, что на уровне мифопоэзии и семантики код словесного мира Хлебникова кажется крайне близким к архаизму и, впоследствии, к супрематизму — в частности к философским и религиозным тезисам Малевича, — несмотря на несомненную и глубокую близость между
председателем Земного шара и носителем “космического сознания”, выбор Малевича в этот период пал на “алогизм” Кручёных.
Удаляясь от словотворчества и мифотворчества Хлебникова и его стремления к выработке
звёздного языка, т.е. нового/старого “кода мира” на основе лингвистических или семантических “универсалий”, в отличие от “семантизма” Хлебникова, Малевич предпочёл “алогизм” Кручёных и его намеренную хаотичность и произвольность. Главное для Малевича в период 1913–1915 — это освободительная динамика реконструкции парадигматических и прагматических правил и норм или, наоборот, контрастное сочетание “далековатых” мотивов и мотиваций.
В отличие от „словарей” Хлебникова и его семантических
досок судьбы, “звучизм” Кручёных, его экспрессионизм и эмоционализм идеальным образом реализовали те провокационные свойства, которые Малевич именно в этот период требовал от искусства: полное освобождение от всех “правил” и “задач”, дословный “а-логизм”, понятый как “анти-логизм”.
О. Ханзен-Лёве. Казимир Малевич между Кручёных и Хлебниковым
Аптекарская точность соотнесения: не наособицу и поодаль, а между. Стоят эти три богатыря на краю пропасти, среднему неймётся сигануть. Сказано — сделано. Другой вопрос, в чьих руках страховочный аркан. Простейшая наводка: перевертень. Живопись словом — это Алёша Попович или Добрыня Никитич? Добрыня, конечно. А слово живописью? Впрочем, Казимир Малевич отнюдь не скрывал, кому вверил остаток дней своих.
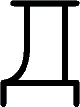
ело, начатое Велемиром Хлебниковым, столь же значительно, как значительна наука астрономия. Может быть, даже дело Хлебникова ближе касается нашего непосредственного календаря человеческого творчества, нежели отдалённые туманности вселенских дел. ‹...›
Одним из главных врачей поэзии считаю своего современника Кручёных, поставившего поэзию в заумь. Его и считаю альфой заумного.
Хлебников хотя и творил слова новые, но видоизменял побеги слова от старого практического корня. Видел в них будущее практическое слово. С его точки зрения, будетляне должны быть не заумными, а умными, как будущий новый мир практического реализма.
Два современника — Кручёных и Хлебников — поставили себе задачу, аналогичную живописи: вывести поэзию слова из практического действия в самоцельное, как они говорили, „самовитое“ слово, в тот мир поэта, где бы он смог создать слово чисто поэтическое, построив стихотворение не из утилитарных слов практического реализма, а создать стихотворение и слово поэтического ритма.
Само слово ‘стихотворение’ производит другое впечатление, нежели слово другого мастера сложения ‘утилитарнотворение’. Как будто ничего общего не имеющих между собою (два мира). Разница между ними должна быть, и она есть. Утилитарные мастера практического реализма делают вещи из матерьялов, возводят их родовой план в новый план своей человеческой, практической жизни и дают им своё утилитарное слово, как имя.
Каждое имя имеет свое утилитарное место действия в практическом плане. Имеет свое стойло, гараж, депо. Действия их происходят в порядке практической надобности. В них нет поэтического порядка, ритма.
Поэт не удовлетворён практическим порядком движений и пытается построить практические слова так, чтобы действия их были связаны ритмическим строем. Строй этот назвал поэтическим порядком. Он рассчитал их бег во времени, распределив время предметам так, что они приходят друг к другу, пересекают, останавливаются в указанных узлах ритмического времени, не теряя своего утилитарного действия.
Таковая поэзия целиком умна, как академический, живописный реализм, как весь практический предметный мир.
Если этот вывод считать сущностью поэзии, а жизнь практическую её содержанием, то заумь не есть поэзия.
Заумной поэзии не может быть.
Тогда Кручёных и Хлебников не поэты там, где строй заумен.
Поэзия там, где идёт поэтическое охудожествление практического мира.
Если же поэт свободен и волен создать своё поэтическое слово, свой чистый поэтический ритм помимо неуклюжих слов практического языка, если волен построить своё поэтическое время, волен быть в вихре своего возбуждения, тогда Кручёных — заумный поэт.
Его будетляне ушли по-за пределы умных, практических государств, как живописцы ушли из умного академического реализма предмета.
Мои современники являются созвездием заумного, внекультурного строя живого духа.
Мои современники видят новую эпоху человека в идущем к уму заумного созвездия.
Свободные кометы иногда попадают в плен миру, который включает их в свою систему.
Так случилось, что некоторые современники мои попались в плен Земле.
Велемир Хлебников был одной из комет, вовлеченной Землёю в свою систему событий ума, чисел, языка.
И мне показалось, что Хлебников не был пленён и выведен из своего свободного строя, лежащего в заумности, а наоборот, бежал к земле, как её неотъемлемая по роду частица ума.
Пытался или принёс “Доски судеб”, чертежи будущих на ней событий, и тогда случай, рок и судьба будут ясны, как для астронома затмение луны.
Его поэзия тоже принадлежит уму.
Каждая построенная им буква есть нота песни обновлённого практического мира.
Тот же ум, перемещающийся в новые формы. ‹...›
Общежитие посчитало, что Хлебников перешёл в заумь и стал альфой заумного созвездия, альфой футуризма.
Но, насколько я знаю, созвездие футуризма, созвездие беспредметности и зауми, альфа Зангези не принадлежит им.
Скорее принадлежит созвездию земли.
Зангези умён.
Зангези из корня чисел, слов земного счёта. Календарь событий вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня.
Первый листок сорван им.
И на этом альфа Зангези кончает свое дело и тухнет потому, что в открытой им “Доске судьбы” не сумел предотвратить начертанный чертёж, оставив дело это Бете.
К.С. Малевич. В. Хлебников
Прочитанное вопиет: сия живопись не владеет словом (сопряжением букв) от слова вообще. При этом нахально громоздит современников к подножию себя любимого, за что неизбежно бронзовеет. Или превращается в камень. В камень лабрадор. А где лабрадор, там и Командор. Короче говоря, слово живописью — Филонов.
Однако истукан таки ожил, то есть отчасти перевоплотился — даже всклень исполненный ума холодных наблюдений Дуганов опровергнуть сей горестной заметы не мог. Хотелось это Ханзену-Лёве или нет, но сказка обернулась былью: волосяной аркан сухопарого Добрыни выдержал коренастого Илью.
Говоря попросту, Малевич образумился. Как расценил отец зауми такой оборот дела, Ханзен-Лёве не сообщает. Но и без немцев (Альвэк — крещёный эльф) известно проклятие Алексеем Елисеевичем Азефа-Иуды Хлебникова. Лично меня вгоняет в холодный пот одно только подозрение, какова была разделка с Малевичем. Ни слова более, ни вздоха!
„Как всё меняется, и как я сам меняюсь,” — с напускным недоумением радовался Николай Заболоцкий, чтобы не сглазить: не меняются одни дураки. Так оставим ненужные споры и вернёмся к призыву Хлебникова смело шагнуть за живописью. Которая, с одной стороны, гораздо ýже изобразительного искусства, с другой — настолько растяжимое понятие, что даже многомудрый Гнедов пригорюнился.
2. В некоторых теневых чертежах Малевича, его друзах чёрных плоскостей и шаров, я нашёл, что отношение наибольшей затенённой площади к наименьшему чёрному кругу есть 365.
Итак, в этих сборниках плоскостей есть теневой год и теневой день. Я увидел снова в области живописи время приказывающим пространству. В сознании этого художника белые и чёрные цвета то ведут настоящие бои между собой, то исчезают совсем, уступая место чистому размеру.
В. Хлебников. Голова вселенной. Время в пространстве. 1919.
Сомненья прочь: по Хлебникову, чёрный на белом — полноценная живопись (Ци Бай-Ши одобрительно кивает кисть в тушечницу). Однако повременим с выводами: Голова вселенной — отнюдь не похвальное слово Казимиру Малевичу в духе престарелых насельников города Черноморска. Многие тут знают, что Алексей Кручёных нарочно путал порядок своих возглашений, дабы отсечь олухов. Вот и я любопытства ради переставил слагаемые статьи: ну-тка?
1. Есть виды нового искусства числовых лубков, творчества, где вдохновенная голова вселенной так, как она повёрнута к художнику, свободно пишется художником числа; клети и границы отдельных наук не нужны ему: он не ребёнок. Проповедуя свободный треугольник трёх точек: мир, художник и число, он пишет ухо или уста вселенной широкой кистью чисел и, совершая свободные удары по научному пространству, знает, что число служит разуму тем же, чем чёрный уголь руке художника, а глина или мел — ваятелю, работая числоуглём, объединяя в этом искусстве бывшие до него знания. Пусть одна строчка даёт внезапную, подобную молнии, связь кровяного шарика и Земли, другая падает в гелий, третья разбивается о непреклонное небо, открывая спутников Юпитера. Быстрота обогатится новой быстротой — быстротой мысли, а границы отдельных знаний исчезнут перед шествием чисел на свободе, брошенных в печать как приказы по земному шару.
Там же.
Вона как: числоуголь искусства лубков, а не учетверённый чёрный угол Казнимира. Лубок — плод неумения (вывеска) или озорства (Ларионов), то есть ублюдок живописи. По Хлебникову, числоуголь — учебная принадлежность неумехи: Бета Зангези (перечти выше) непременно возьмётся за краски (которые звучат, да ещё как).
Хлебников грозился нырнуть за разинской княжной, а выхватил из пропасти Малевича. Тот самый Хлебников, который бросил Митю Петровского умирать в степи: ветра отпоют. Чёрствый сухарь — и вдруг такие тёплые чувства. С какой стати?
В некоторых теневых чертежах Малевича я нашёл, что отношение наибольшей затенённой площади к наименьшей тёмной — число 365 — равно году, делённому на день. Я подпрыгнул от радости, увидев время приказывающим пространству. И великое число Земли да‹ющим› красоту площадей. Отсюда вывод: чтоб памятник был красив, его пятно должно быть в 365 раз меньше площади площади.
В. Хлебников. Черновик «Математического манифеста». Весна 1919.
Судя по выделенной выше оговорке (не вошла в беловик), чрезвычайно сдержанному на изъявление приязни Хлебникову Малевич был мил, как никто (из современников). Однако народую мудрость „не по хорошу мил, а по милу хорош” плетью не перешибёшь: Пифагор был Хлебникову стократ милее.
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: кто же я?
Мы создадим «Слово полку Игореве»
Или же что-нибудь на него похожее.
Это не люди, не боги, не жизни,
Ведь в треугольниках — сумрак души!
Это над людом в сумрачной тризне
Теней и углов Пифагора ковши.
Углы и тени Пифагора. Почему не Малевича? Потому что Пифагор — любимый ученик, а Малевич — наглядное пособие.
• Справка из летописей Греции: Пифагор был учеником Хлебникова.
• Я чую: боль огня и запах липы будут водопадом чисел. Это мой ум.
• Накормить весь земной шар хлебом одного и того же числа. Число Хлебникова.
• Если бы человек менял свои размеры от размеров электрона до размеров вселенной, но оставался измеряющей единицей, его спутниками были бы одни и те же числа. Мир чисел не менялся бы от выбора единиц. Следовательно, законы числа остались бы одни и те же. При этом некоторые числа входили бы как постоянные спутники, другие врывались и исчезали в бесконечности, как кометы. Эта наличность чисел в кругу данных опыта образует небо чисел.
• Если вы просто сочтёте число дней между двумя событиями, то это будет мёртвое число, оно ничего не скажет вашему сознанию. Но если вы расчлените числа на два и три, сдёрнете с них покрывала десятиричного вымера, то перед вами, точно город из тумана, выступают удивительные постройки: вы видите дворцы и храмы чисел, вы входите в новое искусство, где слиты пространство и время: зодчество чисел.
• Дать очерк жизни человечества на земном шаре не краской слов, а строгим резцом уравнений — вот моя задача.
Подборку записей Хлебникова 1920–21 гг. следует, полагаю, дополнить показаниями весьма подкованного (три курса физмата и столько же вольнослушателем на философском отделении историко-филологического факультета) очевидца:
В «Досках судьбы» ‹...› читаем:
Многие соглашаются: бывающее едино. Но никто ещё до меня не воздвигал жертвенника перед костром моей мысли, что если всё едино, то в мире остаются только одни числа, так как числа и есть ничто иное, как отношение между единым, между тождественным, то, чем может разниться единое. Слова ‘бывающее’, ‘бывание’ Хлебников употреблял в разговорах со мною довольно часто в качестве синонимов понятий бытие, существование, объективная реальность, действительность. Этого и я буду придерживаться в дальнейшем.
«Доски судьбы» были написаны в 1922 году, но ещё в январе 1920 года Хлебников почти дословно излагал мне мысли, содержащиеся в приведённом выше отрывке.
Выслушав его, я воскликнул:
— Но ведь это же пифагорейство!
Хлебников ответил:
— Вы улавливаете лишь чисто внешнее сходство. На самом деле я антипод Пифагора.
Ниже я излагаю только суть высказываний Хлебникова, так как конкретных выражений не помню. Схема его доводов сводилась к следующему: Пифагор верил в самостоятельное бывание числа. На самом деле существуют только два дерева, три камня и тому подобное, но не “два вообще” и не “три вообще”. Числа суть абстракции, которые отражают только отношения между бывающим и вне бывающего не существуют.
А.Н. Андриевский. Мои ночные беседы с Хлебниковым
Свою повесть Андриевский (соиздатель «Досок судьбы», к слову) предварил введением, из коего следует, что Пифагора он полагает равновеликим Чижевскому и Кеплеру. Стало быть, за достоверность заумной самооценки Хлебникова можно ручаться. Ученик поставил преподанное с ног на голову, бывает (яблоко и Ньютон). Поневоле, но с удовольствием отказываюсь от прилагательного любимый. Так, подавал надежды. Не более.
Тем пристальнее вчитаемся:
Итак, лицо времени писалось словами на старых холстах Корана, Вед, Доброй Вести и других учений.
Здесь, в чистых законах времени, то же великое лицо набрасывается кистью числа, и таким образом применён другой подход к делу nредшественников. На nолотно ложится не слово, а точное число, в качестве художественного мазка живописующего лицо времени.
В. Хлебников. Слово о числе и наоборот. Москва, 16 января 1922
Стало быть, напутствие Хлебникова († 1922) самому себе следует понимать так:
мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью
и стало числом.
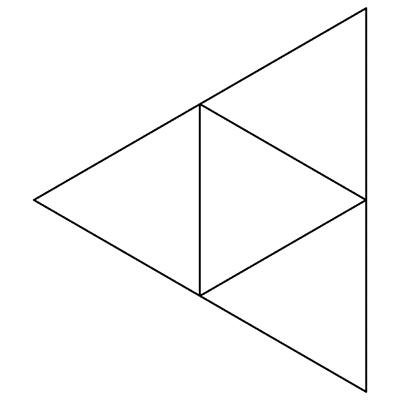
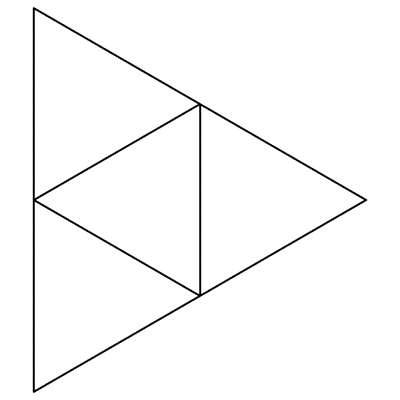
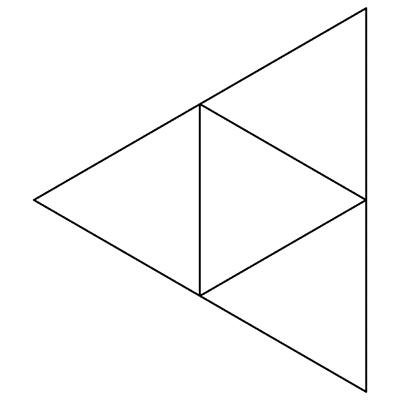
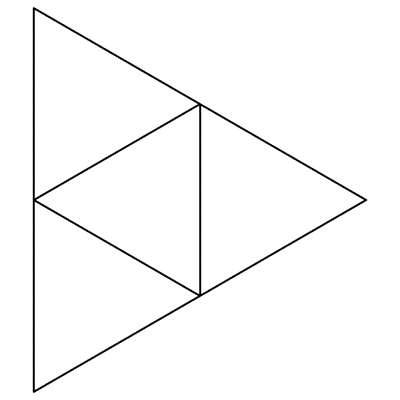

 сследователями давно установлен факт неразделимости пластических и поэтических экспериментов. Дихотомия “предметного” и “беспредметного”, “реалистического” и “абстрактного” в живописи и поэзии осознаётся всеми без исключения представителями русского авангарда. К. Малевич, воссоздавая новую семиотическую модель мира, формулирует основные принципы супрематизма как беспредметного творчества. Беспредметность, по мысли художника, требует нарушения целостности предмета и уничтожения вещи как таковой. Новое образование знаков — путь к новому творчеству, и потому необходимо отказаться от предметного, дойти до его полного аннулирования.1
сследователями давно установлен факт неразделимости пластических и поэтических экспериментов. Дихотомия “предметного” и “беспредметного”, “реалистического” и “абстрактного” в живописи и поэзии осознаётся всеми без исключения представителями русского авангарда. К. Малевич, воссоздавая новую семиотическую модель мира, формулирует основные принципы супрематизма как беспредметного творчества. Беспредметность, по мысли художника, требует нарушения целостности предмета и уничтожения вещи как таковой. Новое образование знаков — путь к новому творчеству, и потому необходимо отказаться от предметного, дойти до его полного аннулирования.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
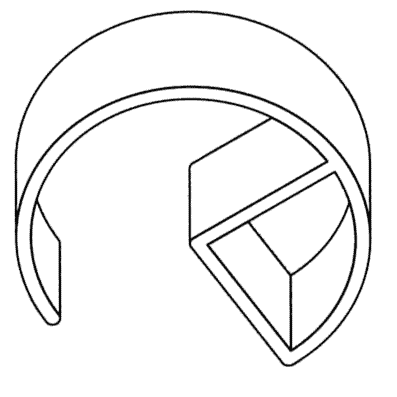 зда в незнаемое — затёртое до дыр определение поэзии. Затёрли самое главное: попутчики Маяковским не предполагались. А Велимир Хлебников гнул своё: Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.
зда в незнаемое — затёртое до дыр определение поэзии. Затёрли самое главное: попутчики Маяковским не предполагались. А Велимир Хлебников гнул своё: Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.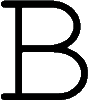 непростой истории русского футуризма, где количество расколов, разрывов и новых альянсов, по-видимому, превышает численность самих футуристов, был один человек, которого можно назвать эталоном верности и надёжности: Алексей Кручёных. И колеблющийся Лившиц, и действующий на авось Бурлюк были склонны к крайностям: первый — чересчур требователен, второй — мастак занизить и запутать цели движения. Что касается Хлебникова, то, несмотря на свой высочайший уровень и престиж, он всегда оставался “одиноким охотником”. Но чем бы ни занимались футуристы — отрицанием прошлого, борьбой с литературными врагами или „словом как таковым” в его графическом облике, фонетической плоти и морфологическом скелете, — Кручёных от своих друзей никогда не отставал. Уступая многим из них в образованности, мастерстве и таланте, он сумел, тем не менее, стать теоретиком футуризма; возможно, именно благодаря ему футуризм обрёл своё лицо и сохранил верность главным принципам.
непростой истории русского футуризма, где количество расколов, разрывов и новых альянсов, по-видимому, превышает численность самих футуристов, был один человек, которого можно назвать эталоном верности и надёжности: Алексей Кручёных. И колеблющийся Лившиц, и действующий на авось Бурлюк были склонны к крайностям: первый — чересчур требователен, второй — мастак занизить и запутать цели движения. Что касается Хлебникова, то, несмотря на свой высочайший уровень и престиж, он всегда оставался “одиноким охотником”. Но чем бы ни занимались футуристы — отрицанием прошлого, борьбой с литературными врагами или „словом как таковым” в его графическом облике, фонетической плоти и морфологическом скелете, — Кручёных от своих друзей никогда не отставал. Уступая многим из них в образованности, мастерстве и таланте, он сумел, тем не менее, стать теоретиком футуризма; возможно, именно благодаря ему футуризм обрёл своё лицо и сохранил верность главным принципам.
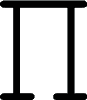 авел Филонов следовал в своих литературных опытах традиции кубо-футуризма. В марте 1915 года М. Матюшин издал в Петрограде его книгу «Пропевень о проросли мировой» с иллюстрациями автора. Произведение представляет собой нечто вроде славянской кантаты или оратории, с запевалой и подголоском. Оно состоит из двух частей, частично основанных на народной песне о Ваньке-Ключнике, частично — на событиях идущей войны. Явного сюжета нет, персонажи по очереди произносят свои монологи (или поют арии). Главная тема этого не очень внятного произведения — мысль о том, что жизнь и любовь в конце концов преодолеют хаос, оставленный разрушительной войной и смертью. На стороне сил добра — Ванька-Ключник и Княгиня, на стороне зла — немцы, истлевший Командор (из «Дон-Жуана») и Полицейский шпик. Пьеса написана ритмизованной прозой или верлибром и несколько напоминает православные песнопения и древнерусские литературные произведения. В языке немало неологизмов, указывающих на влияние Хлебникова, однако Филонов вполне самобытно смешивает их не только с русскими, но и с иностранными словами и, подобно Кручёных, использует части слов. В отличие от Хлебникова, проза и поэзия которого обладают ясной и логически обоснованной структурой, фразы Филонова нередко напоминают разбросанные по холсту краски. В результате получается что-то не совсем внятное и, однако же, оставляющее у читателя сильное впечатление, отчасти напоминающее отклик на картины самого Филонова. Хлебников считал «Пропевень» лучшей книгой о войне.
авел Филонов следовал в своих литературных опытах традиции кубо-футуризма. В марте 1915 года М. Матюшин издал в Петрограде его книгу «Пропевень о проросли мировой» с иллюстрациями автора. Произведение представляет собой нечто вроде славянской кантаты или оратории, с запевалой и подголоском. Оно состоит из двух частей, частично основанных на народной песне о Ваньке-Ключнике, частично — на событиях идущей войны. Явного сюжета нет, персонажи по очереди произносят свои монологи (или поют арии). Главная тема этого не очень внятного произведения — мысль о том, что жизнь и любовь в конце концов преодолеют хаос, оставленный разрушительной войной и смертью. На стороне сил добра — Ванька-Ключник и Княгиня, на стороне зла — немцы, истлевший Командор (из «Дон-Жуана») и Полицейский шпик. Пьеса написана ритмизованной прозой или верлибром и несколько напоминает православные песнопения и древнерусские литературные произведения. В языке немало неологизмов, указывающих на влияние Хлебникова, однако Филонов вполне самобытно смешивает их не только с русскими, но и с иностранными словами и, подобно Кручёных, использует части слов. В отличие от Хлебникова, проза и поэзия которого обладают ясной и логически обоснованной структурой, фразы Филонова нередко напоминают разбросанные по холсту краски. В результате получается что-то не совсем внятное и, однако же, оставляющее у читателя сильное впечатление, отчасти напоминающее отклик на картины самого Филонова. Хлебников считал «Пропевень» лучшей книгой о войне. лавным праздником “интер-медиальности” была постановка “оперы” «Победа над солнцем» (1913), где изобразительные и вербальные, театральные и музыкальные “языки” сливались, или вернее, “монтировались” в один жанр. То, что раньше служило декоративным целям, теперь выполняло самостоятельную роль. “Декорации” становились не только объектом обнажения или остранения, как, например, в романтической или символической инсценировке («Балаганчик» Блока): они выступали “декларациями” медиальности, т.е. моделями сцены с двоякими обрамлениями “Gückkastenbühne” — и тем самым превращались, как известно, в модели картины (или в картину моделей) с названием «Чёрный квадрат» (1915).
лавным праздником “интер-медиальности” была постановка “оперы” «Победа над солнцем» (1913), где изобразительные и вербальные, театральные и музыкальные “языки” сливались, или вернее, “монтировались” в один жанр. То, что раньше служило декоративным целям, теперь выполняло самостоятельную роль. “Декорации” становились не только объектом обнажения или остранения, как, например, в романтической или символической инсценировке («Балаганчик» Блока): они выступали “декларациями” медиальности, т.е. моделями сцены с двоякими обрамлениями “Gückkastenbühne” — и тем самым превращались, как известно, в модели картины (или в картину моделей) с названием «Чёрный квадрат» (1915).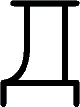 ело, начатое Велемиром Хлебниковым, столь же значительно, как значительна наука астрономия. Может быть, даже дело Хлебникова ближе касается нашего непосредственного календаря человеческого творчества, нежели отдалённые туманности вселенских дел. ‹...›
ело, начатое Велемиром Хлебниковым, столь же значительно, как значительна наука астрономия. Может быть, даже дело Хлебникова ближе касается нашего непосредственного календаря человеческого творчества, нежели отдалённые туманности вселенских дел. ‹...›