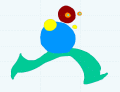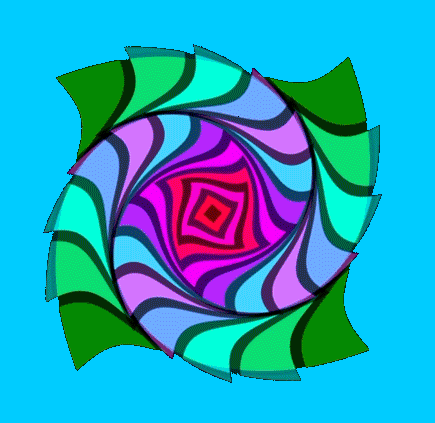Действующие лица
Поэты:
Иосиф Бродский
Велимир Хлебников
Собеседники:
Андрей Ранчин, д.ф.н.
Денис Ахапкин, к.ф.н., комментатор
Юрий Левинг, phd, киноман и поэт
Фёдор Двинятин, к.ф.н., ворошиловский стрелок
Лев Лосев, phd, поэт и друг
Дмитрий Бобышев, поэт и недруг
Владимир Козлов, к.ф.н., поэт
Оппонент:
Валентина Мордерер, некто в сером (или зелёном)
Сценическая декорация — условное лукоморье, где два фанерных дуба по бокам небольшой площадки соединены радугой с надписью «Царицын». Под аркой лекционная кафедра с современным микрофоном. На левом дубе портрет Иосифа Бродского, ниже — лубочный кот с крупной цифрой «9» на ошейнике. В ветвях другого дерева — изображение Велимира Хлебникова в комплекте со сказочным волком, несущим цифру «3» вместо царевны.
К кафедре приколото семь фотографий докладчиков, одна из них в траурной рамке. В левой кулисе, подальше от взглядов зрителей спрятан мольберт с неброским портретом оппонента (образец см. выше). Итого, изображений 12 (2+2+7+1).
ПРОЛОГ
Первоосновой пьесы служит французская формула “partie à qui perd gagne” — игра в поддавки, игра, в которой выигрывает проигравший. (Если кто не заметил, в эти шашки и шашни вовлечено и посвящение.) Перевод названия одноименного французского фильма 2003 года сделан неточно, зато без поблажек — “Проигравший забирает всё”. Вот только всяк решает для себя сам: “А что есть проигрыш?”
В пьесе речь пойдет о стихотворном цикле Иосифа Бродского «Часть речи» (1975–1976), который состоит из 20 текстов. Наша драматургия вращается главным образом вокруг третьего стихотворения этого цикла.
Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагрённый князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полёту, осень в стекле внизу
узнаёт по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.За истекший период более двадцати пяти учёных имели честь письменно предъявить свои соображения о загадочных событиях, случившихся на территории этих двенадцати строк. Ни с кем из коллег я не согласна и, не настаивая на единственности своего решения, прошу признать, что оно самое простое. Разгадку приберегу для эпилога, хотя подсказки уже размещены на самых видных местах при оформлении сцены.
Слово для участия в прениях я предоставила семи равноправным пайщикам, чьи публикации существуют в свободном доступе Интернета. При отборе кандидатур первостепенным фактором служило относительное разнообразие их резонов и аргументаций. Побочным соображением был разброс географической энергетики. Разумеется, все тексты сокращены до разумных пределов и предъявлены в виде выжимок-цитат. Я старалась быть объективной, деликатной и осторожной, чтобы не возникло необходимости испрашивать у авторов разрешения на демонстрацию их доводов. Цитация (не слишком обильная) не может быть оспорена из-за недовольства якобы контекстуальными интригами или соседством, быть может, пришедшимся не по вкусу, ни тем более конвенциональными установками. Примечания остались за пределами высказываний. Электронные адреса сайтов, названия текстов и библиографические ссылки приведены в финале пьесы, а если возникала редкая необходимость, то авторский комментарий из статей был вставлен в отрывок и выделен в цитате фигурными {} скобками. В конечном счёте, сообщения могли подвергнуться пересказу под присмотром “плагиатора”, что (знаю по опыту) не пошло бы им на пользу. В общем, комитентов-докладчиков прошу не волноваться, „пусть я в ответе, но не в убытке”. Выступления на кафедре происходят в установленном порядке, микрофон включён на полную мощность.
Андрей Ранчин 2
Предметом дальнейшего анализа
3
будут преимущественно аллюзии на «Слово о полку Игореве» в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» ‹...› Перечитаем внимательно текст этого произведения, последовательно анализируя его — от строки к строке.
Строки 1–4:
Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагрённый князь.
‹...›Синтаксически начало стихотворения абсолютно ясно, однако семантика этих строк не столь очевидна. На первый взгляд не вполне понятно узнавание лирическим “я” — субъектом высказывания —
ветра и
листа: ветер и лист нельзя “узнать”.
Естественно, это узнавание не может быть понято буквально.
Один из инвариантных мотивов цикла «Часть речи» — расставание с родиной ‹...› Соответственно, подразумевается узнавание в американской осени, в американском листопаде — осени и листопада русских.
Но эта очевидная трактовка не разрешает всех недоумений. Неожиданным, внешне не мотивированным выглядит сравнение ложащейся, никнущей под ветром травы с
татарвой. Уподобление листа
князю мотивировано подразумеваемой ассоциацией “падающий [значит, осенний, красный] лист — обагрённый [окровавленный, израненный] князь”. Но эта ассоциация сначала может показаться поверхностной и натянутой. Одна из мотиваций первого сравнения — языковая, построенная на паронимической аттракции
трава — татарва. Сопоставление предстает своего рода лингвистическим метаописанием: как трава ложится под ветер, так и лексема “трава” под лексему “татарва”. В “татарве” как бы свернута “трава”: т[ата]рва.
Метаописательность вообще присуща Бродскому и, может быть, особенно циклу «Часть речи». Поэтому закономерным был бы поиск интертекстуального ключа или ключей к образам травы — татарвы и листа — князя. Один из этих ключей спрятан в Древней Руси (Бродский мог учитывать это): князья часто носили верхнюю одежду красного цвета “разных тонов до пурпурного и малинового”. Образ осени в стихотворении Бродского намеренно противоречив: он соотнесён и с пушкинским образом
творческой осени, и одновременно с образом бесплодной осени — символом оскудения из стихотворения Е.А. Баратынского «Осень». ‹...›
Обратимся к следующим четырём строкам стихотворения — с 5-й по 8-ю:
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полёту, осень в стекле внизу
узнаёт по лицу слезу.Как и первое четверостишие, эти четыре строки образуют единое целое, причем не только семантически, но и непосредственно синтаксически: это одно предложение, правда испытавшее воздействие инверсии и перестановок — приёма, который характерен и для других текстов цикла «Часть речи».
‹...› Скорее у Бродского используется принцип синекдохи: сказано об осени, которая „узнаёт слезу по лицу” (узнаёт лицо, а потому и слезу на этом лице). И слеза эта, может быть, катится не только по оконному стеклу: отождествление „косой скулы” дома только с окном и, соответственно, слезы — только с каплей дождя, пролитой осенью, небесспорно. Осень, вероятно, узнаёт в „слезе” и дождевую каплю, и собственно слезу, скорее всего катящуюся по лицу лирического героя. ‹...›
Собственно, перед нами две ситуации узнавания: в первой (стихи 1—4) лирический герой узнаёт осень, во второй (стихи 5–8) — осень узнаёт саму себя (“американская” “русскую”) и, вероятно, лирического героя, стоящего у окна в доме. Через это четверостишие также проходит мотив “татарщины”, на который явно указывает метафора “косая [монгольская, татарская] скула” вместо привычных для физиономической характеристики человека монгольской расы языковых штампов “широкая скула” и “косые глаза”; эпитет ‘широкая’ “отобран” у ‘скулы’ кособокого дома и “подарен” ‘стреле’. ‘Стрела’, особенно с эпитетом ‘широкая’, поданным как трансформация исходной лексемы ‘широкоскулая’, напоминает о блоковской „стреле татарской древней воли” из цикла «На поле Куликовом». ‹...›
Теперь обратимся к стихам 9–12 стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» — последним четырем строкам этого текста:
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.В заключительном четверостишии, наконец, названы два претекста-подтекста, непосредственно связанные с “татарской”/“тюркской” темой этого стихотворения. Это Г.Р. Державин — не только как автор «Фелицы», адресованной „богоподобной царевне / Киргиз-кайсацкия орды”, но и как автор «Видения мурзы», прямо заявляющий о своем татарском происхождении: „И в шутках правду возвещу; / Татарски песни из-под спуду, / Как луч, потомству сообщу...”. {С ордынской царевной в автобиографическом плане стихотворения Бродского, вероятно, соотнесена М.Б. Лексема ‘Орда’ становится, очевидно, элементом паронимической межъязыковой игры: “имя, ‹...› словно пропуск в Орду” — и английское ‘Word’ — ‘слово’.} Также это Державин — герой «Стихов о русской поэзии» Мандельштама, указывающего на татарское происхождение автора «Фелицы» и «Видения мурзы». И это «Слово о полку Игореве». ‹...›
Начало стихотворения, содержащее мотив узнавания, контрастирует с концовкой, в которой говорится о забывании, причем в плане выражения это забывание проявляется в разрушении имени (названия) древнерусской “песни”, которое разорвано на отдельные лексемы. Но одновременно именно благодаря упоминанию в финале о «Слове...» — ключе к тексту — начинает работать механизм памяти и узнавания, и власть поэзии торжествует над “дырявой” памятью лирического “я”: читатель должен по крупицам собрать рассыпанное по всему стихотворению “золото” «Слова...». ‹...›
Но сходство с древнерусской “песнью” в плане означающих у Бродского сочетается с различием, даже противоположностью в семантике: создатель «Слова...» пишет о поэтическом парении “песнотворца” Бояна, автор стихотворения рисует печальную картину “плачущей” осени. Строка же „И, глаза закатывая к потолку”, оказываясь соотнесенной со «Словом...», воспринимается как описание поэтического “шаманства” наподобие Боянова.
Денис Ахапкин 4 «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»
«Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» Впервые: Континент. 1976. № 10.
…
что гуся по полёту… Слегка измененная пословица „видно птицу по полёту”.
…
не слово о номер забыл говорю полку… Здесь в трансформированном виде появляется название одного из самых поэтичных памятников древнерусской литературы — «Слова о полку Игореве». Текст стихотворения строится на метафорическом сопоставлении картин осени и фрагментов русской истории.
Ср. также строчку О. Мандельштама, начинающую стихотворение «Я слово позабыл, что я хотел сказать…» (1920).
…
ярлык в Орду. Письменный документ, который во времена монголо-татарского ига выдавали русским князьям, разрешая им управлять уделами.
Юрий Левинг 5
Среди двух десятков текстов цикла «Часть речи»
6
стихотворение «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» ‹...› соблазнительно цитатно: не в последнюю очередь благодаря мреющей кинематографической подкладке. ‹...›
Поэт оказывается пристрастным зрителем уже современного ему материала, а именно вышедшего на советские экраны в 1971 году фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» (1966). При том, что к поэзии отца кинорежиссёра, Арсения Тарковского, Иосиф Бродский относился довольно сдержанно, а в качестве кинопредпочтений декларировал скорее культовые западные образцы, творчество Тарковского-младшего, по-видимому, не прошло мимо него. Лейла Александер-Гаррет, переводчица режиссёра на съемках «Жертвоприношения», встречавшаяся с Бродским в Швеции в 1987 году и позже в Лондоне (где, в частности, познакомила его с Юрием Норштейном), свидетельствует на основе личных бесед о том, что поэт фильмы Андрея Тарковского видел, хотя, по его собственным словам, они ему не нравились. Палимпсестную природу «Узнаю этот ветер...» обнажает и другой очевидный источник стихотворения — перевод Николая Заболоцкого «Слова о полку Игореве». Ткнуть читателя в древнерусскую классику призвана запинка с запретным гиатусом на морфемном шве („я не слово о номер забыл говорю полку”); поверх школьной программы, разумеется, здесь и о другого рода поэтической памяти — про „выпуклую радость узнаванья” стихов покойного тёзки («Я слово позабыл, что я хотел сказать...»). ‹...›
„Кайсацкое имя” — это имя той, к кому обращены стихотворения цикла; при этом вливание “татарской крови” в текст лишь укрупняет кинематографическую его связку посредством хрестоматийных Басмановых в фильме С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944).
То, что Бродский рассматривал искусство кино как благодатный трамплин для словотворчества, хорошо известно. ‹...›
Оброненное Бродским признание в нелюбви к Тарковскому, по-видимому, не было фрондерством или преувеличением — их эстетики находятся на противоположных полюсах, но это не отменяет самой возможности того, что кинематографический язык и образный ряд «Рублёва» могли Бродскому запомниться и позже найти отражение в стихах. Позволим себе даже заподозрить, что именно вызвавшее раздражение современника-эмигранта сомнительное — на субъективный взгляд — качество данного художественного произведения („...получается не реальная древняя Русь, а ложно-русский “стиль”, наиболее податливый и для разговорных спекуляций, смесь эпох, полная вампука” {оценка А. Солженицына}) как раз и “зацепило” зрителя-Бродского.
Составление зрительского репертуара и киновкусовой палитры Иосифа Бродского — задача пока ещё никем не предпринимавшаяся, но, как представляется, имеющая смысл для реконструкции и понимания определенного слоя произведений данного автора.
Фёдор Двинятин 7
Высоко оценивая изощрённый анализ А.М. Ранчина и полностью соглашаясь с его предположением о том, что в строке „я не слово о номер забыл говорю полку” содержится — подкрепленное мотивным окружением — (частичное) название «Слова о полку Игореве», можно предложить несколько иное направление как самого понимания этой строки, так и пути к её пониманию. ‹...› Обсуждаемую строку предлагается считать результатом не сокращения и не перестановки (эллипсиса или инверсии), а в первую очередь результатом дополнения-осложнения вставными элементами, в том числе неконвенциональными с языковой точки зрения. ‹...›
Семантика такого базового и ближайшего прочтения предполагается приблизительно такая: “Я не «Слово о полку», номер которого [полка] забыл”. При этом родительный падеж слова полк, диктуемый словом номер, как и само повторное употребление слова полк, возникает только в семантическом перефразировании; для строки принимается понимание формы полку как местного/предложного падежа слова полк, диктуемого предлогом о.
Но больший интерес в аспекте обсуждаемой темы представляют две следующие строки:
Но кайсацкое имя язык во рту
Шевелит в ночи, как ярлык в Орду. К концу стихотворения — в полном соответствии с его семантикой — происходит частичный переход на тюркскую языковую основу: два последних слова, ярлык и орда, будучи словами современного русского языка, в то же время оказываются и словами тюркского происхождения, не только продолжающими сохранять в русском языке смысловую и ассоциативную связь с тюркским локусом, но и имеющими надёжные соответствия в собственно тюркских языках. Уже это можно считать фактом межъязыкового влияния в составе этого текста. Но, как кажется, есть шанс предположить и случай более парадоксальной межъязыковой игры. Глубоко продвинутое влево рифменное созвучие язык во рту — ярлык в Орду, с его обыгранным несовпадением словесной или морфемной границы во / рту — в / Орду, приковывает к этим словам особое внимание, а упоминание на тесном протяжении нескольких строк языка (во рту), имени (кайсацкого) и слова („О полку”?) позволяет высказать предположение о том, что связки „во рту” и „в Орду” могут содержать межъязыковое звукосмысловое обыгрывание немецкого Wort ‘слово’ и английского word ‘слово’.
8
Но, возможно, самая нагруженная конструкция с участием межъязыковых звукосмысловых соответствий касается самого кайсацкого имени. Принято считать — и, очевидно, справедливо, — что эта номинация относится к фамилии Басманова, осмысляемой как тюркская по происхождению; тюркские ассоциации при этом поддерживаются значительным пластом в мотивной структуре стихотворения. ‹...›
В аспекте дальнейшей разработки кайсацкого имени обращает на себя внимание слово ярлык. Как исторический термин оно имеет несколько значений. ‹...› В стихотворении Бродского ярлык — действительно ‘пропуск’, но при этом — если обсуждать основания для сравнения “язык как ярлык” — еще и “компактный, продолговатый, плоский, но не слишком тонкий предмет” (ярлыки—письменные документы едва ли физически могут быть уподоблены языку). ‹...›
Русская фамилия Басманов(а), скорее всего, восходит именно к значению “металлическая оправа, оклад иконы”, но поэтическое, к тому же криптографическое, обыгрывание этой фамилии может, разумеется, учитывать и другие значения. Таким образом, Бродский может, упоминая ярлык как бирку-пропуск, иметь в виду и басму как криптографический элемент для звукосмысловой шифровки имени возлюбленной. ‹...›
Итак, в разобранных стихотворениях, как кажется, можно предположить наличие (активно воздействующих на семантику текста) межъязыковых звукосмысловых ассоциативных ходов. Они захватывают довольно широкий круг языков (особенно выделяется тюркский комплекс), обнаруживаются в местах особой концентрации языковых, словесных, ономастических тем, а также там, где текст демонстрирует особенно глубокую культурную перспективу; высказанные предположения, в случае их принятия, подкрепляют представления об особой смысловой уплотненности и в то же время звукосмысловой, фоносемантической билатеральности, двусторонности поэтического текста Бродского.
Лев Лосев 9
Цикл «Часть речи» открывается стихотворением о разлуке любовников как таковой, но два других любовных стихотворения, «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» и «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», амбивалентны. Метафорический план в первом стихотворении развернут и, как всегда у Бродского, конкретен, реалистичен — эпическая картина схватки с татарами, спровоцированная татарской фамилией возлюбленной, а во втором стихотворении так же конкретно воспоминание о Норенской:
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку не то ворота.10 3. «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»11
3. «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»11
Литературным фоном этого стихотворения служит известный цикл Блока «На поле Куликовом» (1908) и другие стихи, объединенные в книгу «Стихи о России» (1915). Ветер, пригибающий траву, „татарва” со стрелами, раненый князь, гуси (или лебеди) в небе — образы патриотической лирики Блока.
Растекаясь широкой стрелой… Неожиданное „растекаться стрелой” объясняется не только тем, что это сложная метафора осеннего дождя, но и тем, что в «Слове о полку Игореве» глагол ‘растекаться’ употреблен в архаическом смысле ‘разбегаться’. ‹...›
я не слово о номер забыл говорю полку… См. предыдущее примечание.
кайсацкое имя… ‘Кайсаки’ — устарелая форма этнонима ‘казахи’, в данном случае, тюрки вообще; этимология фамилии адресата большинства лирических стихов Бродского в шестидесятые-семидесятые годы — Басманова — тюркская.
Дмитрий Бобышев (Лектор возник самочинно, как фея Карабос, засвидетельствовал своё живое присутствие возгласом „Я здесь”, а покойника-Бродского исподтишка уколол, втиснув цитату из него в слащавый контекст.)
К 100-летнему юбилею Ахматовой её полное и повсеместное признание вызвало, как водится на Руси, уродливые явления и даже попытки культа. Пооткрывались самочинные коллекции, домашние музеи. Один из таких причудливых собирателей призывал обмениваться “ахматовицами”,
как ярлыками в Орду, то есть строчками её стихов плюс засушенный лист или птичья лапка: мол, помогает от присухи и почечуя...
12 Владимир Козлов 13
Владимир Козлов 13
Наибольший разрыв между порядком мира и порядком грамматически связанных слов проявляется в третьем и пятом стихотворениях цикла. Здесь фактически демонстрируется зависимость мира от грамматических законов:
‹...› я не слово о номер забыл, говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду. (№ 3)
‹...› и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом. (№ 5)Выше эти места были истолкованы с помощью одного из образов Бродского на данном этапе творчества — образа волапюка, слова искусственного языка, возникающего в результате смещения инородных элементов. Волапюк — это язык-в-себе: он не может иметь адресата, поскольку не может быть понят. В таких отрывках горизонтальные мотивные связи отступают перед вертикальными — слова, которые плохо складываются, в контексте цикла, тем не менее, встраиваются в определенные парадигмы.
Но что нарушает грамматику? Здесь возможен целый спектр толкований, но наиболее логичным кажется предположение о том, что грамматику нарушает активность лирического “я” — его попытки выразиться в слове, которое, принадлежа внешнему миру, не выражает живого. Таким образом, расширяется и понимание волапюка — это
заведомо неудачная попытка сочетать живое и неживое. После пятого стихотворения таких попыток фактически не предпринимается — их бесполезность как бы осознанна.
ЭПИЛОГ
Срочно доставляю в травмопункт вышеозначенный “волапюк”, чтобы вправить, если эта процедура посильная, “вывихи”-инверсии. Отрывок из стихотворения № 5 становится прозрачным после элементарной перестановки слов в предложении. Повторю для наглядности исходный текст Бродского:
‹...› и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.Его можно прочитать иначе, изменив порядок слов и проставив знаки препинания, чтобы избежать недоумений и обвинений:
‹...› и под небом — скатертью стянутым к лесу —
колючим снегом не отбелишь воздух,
натертый крылом грача над силосной башней.Выбор тире обусловлен смыслом всего стихотворения № 5. Приведу его полностью.
Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанья в ночной тиши
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней, натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.Что обычно говорится вечером на сон грядущий? „Утро вечера мудренее”, или иначе: „Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму”. Хотите, подобно замерзающим домам, узнать разгадку, присмотревшись к следам того, кто прошелся по полю до вас? Не обязательно каблуком по снегу. Может статься, он оставил заметку ногтем на полях страницы, что категорически не приветствуется книголюбами и библиотекарями:
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.Этот давний прохожий — Пастернак и его стихотворение № 5 из цикла «Осень» (сб. «Темы и варьяции»). Стихотворения обоих поэтов, кто станет спорить, — любовные, и оба они — воображаемые, сновидческие. И кроме “возлюбленных” женщин, они отдают секретную дань иным подругам, важнейшим поэтическим “частям речи”, без которых не мыслится написание и произнесение предложения. Они посвящены черте на белом поле — знаку ‘тире’, пробелу.
Словарь Даля: „
ТИРЕ, тере ср. несклон. франц. один из знаков препинания на письме, черта (—), будто бы писатель призадумался тут, или требует догадки, дополнения пропуска”.
Бродский впрямую называет двойника, вторую героиню стихотворения —
‘пропуск’, то есть умолчание, черта, пауза, промежуток — тире. Тире, которое оставляет знак-след, отбрасывает свечой тень на стену. Основная примета ‘тире’ в поэтическом обиходе (есть много и других) — глагол ‘тянуть’, от которого оно и произошло:
франц. tirer — тащить, тянуть, притягивать. Оттого и небо схоже с белым полем страницы, стянутой скатерью, на которую грачи натёрли чёрные чёрточки-письмена.
Волапюк оказался очень разговорчивым и содержательным. Я уж не вдаюсь в подробности паронимической аттракции (или стихотворных пар-дубликатов), образующей внушительный список: коли воспоминанья — колючий снег; ввечеру — свече; лес — силосную — уснула — снег; сила — стен (единица измерения силы); стена — тень — стянуть; дерево — tree — три — натирать крылом; пропуск, пробел — отбелишь и т.д. Укажу сейчас на еще два атрибута, сопутствующих ‘тире’, так как они часто присутствуют и у Бродского, и у Пастернака.
14
По-английски ‘тире’ — dash (с приблизительным русским соответствием ‘дашь’), но само слово это имеет веер значений, где одни из основных —
бросать, рвать.
В стихотворении Бродского „воспоминанья… тело
отбрасывает от души”; у Пастернака — „любимую трогать / Так, как мне, не
дано никому”. (Ср. еще одну цепочку: тире — dash — от души — в тиши — туши — трогать.)
Вторая примета еще более значительна и зависит от греческого слова thýra — дверь, вход, что расширяет пределы двойничества, указывая на черту молчания, как вход в смерть. Но эта же “тяга”-тире сулит и выход в свет, в жизнь, обещая второе рождение. Таковы метаморфозы пастернаковского «Марбурга». Поэт получает отказ с кивком на дверь:
тяни, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно —
стенает во мне
Назревшее сердце, мой друг в матинэ?Затем в тексте «Марбурга» следует длинная черта, а после нее строчка: „Вчера я родился”. Или еще более прозрачный вариант воздействия тире на происходящее: „Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен Вторично родившимся”.
За примером из Бродского далеко ходить не станем и выделим его в пределах «Части речи», в уже упоминавшемся стихотворении № 11:
Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.Здесь символика тире — пропуск, пустота, на том месте, где жила любовь. Звезда, моргающая от дыма, посылает вести, общается с за
терянной деревней посредством азбуки Морзе (точка-тире), вряд ли освоенной в болотах. Мастеровой с говорящей фамилией Пес
терев, ладит нечто, обещающее выход в рождение, в жизнь. А на деле сооружает путь к погосту для себя, а для бывших любовников — окно величиной в океан. Невеста без ситцевого наряда в окошке подчеркивает забытость, безадресность деревни (вести + лат. vestis — одежда + dress — платье + адрес).
Всего один пример того, что сам Бродский видит в излюбленном Цветаевой ‘тире’ в его эссе о стихотворении, написанном на смерть Рильке.
„«Новогоднее» начинается типично по-цветаевски, в правом, т.е. верхнем углу октавы, с “верхнего до”:
С Новым годом — светом — краем — кровом! С восклицания, направленного вверх, вовне. ‹...› Но перечисление это синонимично только по числу слогов, приходящихся на каждое слово, и цветаевский знак равенства (или неравенства) — тире — разъединяет их больше, чем это сделала бы запятая: оно отбрасывает каждое следующее слово от предыдущего вверх.
‹...› ‘Свет’ употреблён в тройном значении: прежде всего как “новый” — по аналогии с “годом” — “свет”, т.е. географически новый, как “Новый Свет”. Но география эта — абстрактная; Цветаева имеет здесь в виду скорее нечто находящееся “
за тридевять земель” (
курсив мой. — В.М.), нежели по ту сторону океана, некий иной предел. Из этого понимания “нового света” как иного предела следует идея “того света”, о котором на самом деле и идёт речь. Однако “тот свет” — прежде всего именно свет, ибо, благодаря направлению строчки и эвфоническому превосходству (большей пронзительности звука) ‘светом’ над ‘годом’, он находится где-то буквально над головой, вверху, в небе, являющемся источником света. Предшествующее и последующее тире, почти освобождающие слово от смысловых обязанностей, вооружают ‘свет’ всем арсеналом его позитивных аллюзий. Во всяком случае, в идее “того света” тавтологически подчёркивается именно аспект света, а не как обычно — мрака”.
15
А мы возвратимся к стихотворению № 5 («Потому что каблук оставляет следы — зима…»). Невелика беда, что мы не дознались, какое слово в нем было изъято, значительным оказывается само откровение о наличии “пропуска”. Важно угадать, что за пробелом-чертой спрятана не только часть женского лица или тела, а существенная часть поэтической речи — знак ‘тире’, который и есть ударный сигнал на пути умолчаний и загадок. Читатель направлен по ложному следу, допуская, что ему предъявлено нечто “занавешенное”, как картинки Михаила Кузмина, скрывающее чёрт-те что непроизносимое. Хотя уж чего-чего, а конфузливости или пуританства за Бродским не водилось.
В стихотворении под номером 3, где знак тире тоже существенен, наоборот, пока мы не проставим взамен умолчания точную цифру — часть речи, имя числительное, мы с места не сдвинемся, о чем свидетельствуют все предыдущие ораторы. Поэт, говорящий, что он что-то запамятовал, непременно в точности ведает, с какой забывчивостью он играет в прятки (или в поддавки). Приведу еще раз стихотворение полностью.
Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагрённый князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнаёт по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о — номер забыл — говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.Я позволила себе выделить двумя тире то, из-за чего весь сыр-бор разгорелся — забытый номер полка. Ответ, как и было обещано, прост и содержится в стихотворении Хлебникова:
Где, как волосы девицыны,
Плещут реки, там в Царицыне,
Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
Нагибалися дубы нам ненужной тетивою,
В пеший полк 93-й16
Я погиб, как гибнут дети.17
19 мая 1916Во время войны Хлебникова, как известно, призвали в армию, для службы в которой он был совершенно негоден, хотя отличался отчаянной храбростью, не ведая что такое страх. Просто его смелость была совсем иной природы и противилась уставному регламенту и солдатчине.
Как только мы вспоминаем номер полка, стихотворение Бродского вмиг перестает быть любовным, оно посвящено, как и весь цикл «Часть речи», поискам нового поэтического языка. «Часть речи» написана с нарочитой апелляцией к опознанию предшественников, с намеренно подчёркнутой оглядкой на Пастернака, Цветаеву, Мандельштама, Хлебникова, Маяковского и др. В частности, хлебниковскими ярлыками маркированы в цикле также стихотворения № 12, 15, 19 — «Тихотворение мое, мое немое…», «Заморозки на почве и облысенье леса…», «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…».
18
Пора дать ответ на обязательный вопрос, не проговорился ли где-нибудь Бродский насчет полка, что служило бы доказательством умышленности подлога. В 1989 году в «Fin de Siecle» он, наконец, обмолвился:
Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль
инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.Пожалуй, дети всех времен считали волка изрядным страшилищем, кроме большого ребенка Хлебникова, не желавшего быть ратником 2-го разряда пехотного полка. В 1994 году Бродский решил, что и ему не зазорно уклониться от “пешего полка” (в пятьдесят четыре-то года), потому в стихотворении “В разгар холодной войны” заявил о своей давней мечте мореплавателя:
Мы все теперь за границей, и если завтра
война, я куплю бескозырку, чтоб не служить в пехоте.Конечно «Слово о полку Игореве» входит в смысловой репертуар стихотворения № 3 Бродского, но опять же, не без взаимодействия с Велимиром. Самая известная аттестация Хлебникова принадлежит Мандельштаму: „Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе — железнодорожный мост или «Слово о полку Игореве». Поэзия Хлебникова идиотична — в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова” («Буря и натиск»). Да и сам Хлебников не оставался в стороне, воинственно обнадёживая читателя в поэме «Война в мышеловке»:
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: „Кто же я?” —
Мы создадим «Слово Полку Игореви»
Или же что-нибудь на него похожее.Весь ареал ученических штудий Бродского (знай-узнаю, трава, грязи, князи, татары) неприкрыто отсылает к словесному набору и рифмам Велимировой
басни «Бех» (1913):
Знай, есть трава, нужна для мазей.
Она растет по граням грязей.
То есть рассказ о старых князях:
Когда груз лет был меньше стар,
Здесь билась Русь и сто татар.Зачем все же понадобилось вспоминать именно цифру 93? Во-первых, она является перевертышем для цифры 39. А это постоянное обозначение Бродским собственного сказочного адреса на чужбине: за тридевять земель. Во-вторых, содержит излюбленную им девятку, которая появляется то как сила тяготения (“девять-восемьдесят одна”), то одой девятнадцатому веку, то в формате фотографии (“шесть-на-девять тех, кто умер”), то выплывает из-за кулис балетным лебедем (“цифра девять с вопросительной шейкой”). Есть еще и невидимое кредо девятки, сопровождающее повествование о чем-то “новом” (итал., лат. девять — nove, novem). Приведенная выше цитата из Бродского о тире у Цветаевой говорит о Новом свете за тридевять земель. Понятно, что тройка будет сопровождаться деревом (tree) или иной растительностью. Вот еще только один пример, из стихотворения «Робинзонада» (1994):
Новое небо за тридевятью земель.
‹...›
и губы сами шевелятся, как при чтеньи, произнося
„тропическая растительность, тропическая растительность”.Итак, забытый номер полка — 93-й, чужая земля „деревянного дома” — за тридевять земель, в слове “деревян-ново” содержатся те же цифры — 3 и 9. Но этот дальний дом еще и кривобок — у него „косые скулы”, и для меня это звучит отсылкой к знаменитому новшеству Маяковского в стихотворении «А вы могли бы?»:
‹...› я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?Бродский включился в турнир поэтов, демонстрируя свои возможности в освоении новой поэтики. Один из признаков — усложнённый синтаксис, который приходится распутывать для понимания и который мнится волапюком.
Выделю и в стихотворении № 3 цепочки взаимодействий слов, из которых пока ко двору пришлось и было отмечено только “во рту — в Орду — word — слово”. (Надеюсь, что педанты без затей во главе с Николаем Перцовым попросту меня не слушают и не читают.) Для начала: зачин стихотворения поддерживает цифру 9 и стремление к обновлению языка — узнаю — know — нов. Далее: падение листа и князя — пасть — рот; глаза и стекло-glass + точно (очно); к потолку — толк — talk — говорю; грязь —
нем. Kot — закатывая; кровь — кров — дом — casa — косая — кайсацкое; на траву — атраву (отраву) — бех (яд); дерево — три — с-три-ла; лицо — рожа — придо-рож-ная. Пожалуй, можно остановиться, чтобы перейти к обязательному ‘тире’.
Собственно, все сошлись на том, что в данном стихотворении слово ‘ярлык’ — это ‘пропуск’. Ну да, хитроумный омоним умолчания-тире, потому сразу и не заметишь. Полоска на стекле — след слезы (
англ. tear) — следующая скрытая замена черты. Другой пробел — забытый номер, еще одно тире — выпадение князя в смерть, а поэта — в изгнание.
Стихотворение Бродского не о любви, а об исходе, насильственном переселении. Забывчивость здесь — ложная, ночное воспоминание — имитация альковных видений. Признаться, у Бродского (и не только у него) поэтическое говорение всегда переполнено подвохами и оговорками, таков его статус. В этой связи напомню строки Пастернака из «Высокой болезни», где растянутость черты-тире и рассеянность тишины выявляют подлог в сонных видениях:
Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог…
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: „Что, бишь,
Я только что сказать хотела”…Именно такой подмётной (вспомним след каблука подмётки) оказывается у Бродского напрашивающаяся разгадка “кайсацкого имени” в «Узнаю этот ветер…». Это вовсе не память о Басмановой, а обозначение того, кем осознает себя пишущий — невольником, пленником в иностранном дому, ратником на пустой полке чужбины за тридевять земель. Хлебников об этом кайсацко-киргизском
19
слове написал повесть, в которой герой странник Истома, пройдя через пленение и рабство, становится по-настоящему свободным человеком.
Для собственного удовольствия привожу две обширные цитаты из Велимировой повести «Есир».
20
Текст мне кажется настолько самодостаточным и доказательным, что опознание в нём нужных слов и тем (невольник-есир, пленник, киргизы, Орда) я доверяю читателям и не стану пользоваться ни курсивами, ни иными шрифтовыми выделениями.
Когда Истома очнулся, он был связан по рукам и ногам и окружен вооруженными степными всадниками, составившими совет.
Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зеленые изразцы лежали среди песка и пепла сожженных на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.
Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни темно-синего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.
‹...›
Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсуждали что-то. На Истому надели мешок для муки, сделав дыры для рук и головы, и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.
Там к нему подошел старик и коротко сказал: „Моя есир”. Истома знал все страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.
Вечером они двинулись в путь.
Киргиз нараспев пел «Кудатку-Билик». Истома бежал за Ахметом.
В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.
Степной неук бежал легкой рысью. Истома со связанными руками бежал сзади.
От частых, похожих на песню беса, ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разорвалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зеленой сеткой своих жадных зеленых глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.
Когда они доехали до Орды, стая черномазых детей окружила его, но киргиз поднял плеть. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил веревки; дал молока и первый раз сказал: „Ашай”. Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец был много добрее. С этого времени жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачовую рубашку. „Якши рус”, — сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.Итак, если не забывать о Хлебникове, то стихотворение Бродского проясняется. Имя, что шевелит язык во рту — ‘есир’ — невольник. Оно страшнее, чем волк или 93-й полк. Но из неволи и чужбины для поэта есть выход и пропуск — в слово.
21
————————
Примечания  1
1 Неумеренное восхваление требует истолкования и некоторых мемуарных справок. Именно А.Е. Парнис (далее АЕП) сделал меня в 1974 году своей попутчицей и помощницей. Моя бесправность и обучаемость были обоюдовыгодными условиями, и я была допущена ко всем аспектам исследования творчества Велимира Хлебникова и его окружения. Женитьба никак не входила в наши планы, но брак был оформлен в 1986 году (по административным обстоятельствам), а годом раньше на деньги моих родителей АЕП купил кооперативную квартиру в Москве. В 1989 году я покинула АЕП и означенную жилплощадь (вероятно, выучилась). Но с точки зрения высокочтимого учёного за мной навсегда закреплены права илота. Недавно прочитала письма АЕП, опубликованные на сайте (см.:
http://ka2.ru/nauka/valentina_16.html#n100), где он жалуется на отсутствие грантов, которые позволили бы ему завершить дело всей жизни — публикацию мемуаров о Хлебникове.
Месяц назад мне позвонил адвокат, сообщивший, что АЕП после 25 лет тревог и паники (а вдруг я посягну?!) подал наконец исковое заявление на развод, так как беспокоится о судьбе коллекции, библиотеки и своих (уже двух) квартир. Имущественных претензий он милостиво решил мне не предъявлять в обмен на отсутствие таковых с моей стороны. Истец забыл (или не учёл), что я давно виртуальна: не обладаю ничем недвижимым или движимым, о чём свидетельствует и мой портрет (см. выше).
Мне остается многажды пожелать здравия (“в конце письма поставить Vale”, а не morderer) Александру Парнису и его коллекции в надежде на скорейшую публикацию мемуаров о нищем поэте к вящей радости всего просвещенного мира.
P.S. Как только что стало известно из телефонограммы, моя виртуальность добралась и до суда, так как АЕП и его поверенный исхитрились “развести” меня без повестки, моего письменного согласия, явки и проч. юридических нюансов.
P.P.S. Моя молчаливая игра в поддавки длилась долго, но под напором ахинеи я не выдержала и заговорила. С радостью и удовлетворением призываю всех зрителей уверовать в мощь театра абсурда!
 2
2 Андрей Михайлович Ранчин — профессор кафедры ЮНЕСКО МИГСУ РАНХиГС. Сфера научных интересов — история древнерусской литературы, компаративистика, творчество Лескова, Л.Н. Толстого, Бродского, Бориса Акунина.
Ранчин один из самых внимательных исследователей творчества Бродского, выявивший, в частности, многоплановую цитацию Хлебникова в стихах поэта. См. алфавитный указатель и главку «Бродский и Велимир Хлебников» в его книге «На пиру Мнемозины. Интертексты Бродского» (
М.: НЛО, 2001).
 3
3 Выдержки из статьи «“Слово о полку Игореве” в поэзии Иосифа Бродского: несколько наблюдений к теме» цитируются по кн.:
Ранчин А.М. Перекличка Камен: Филологические этюды.
М.: Новое литературное обозрение, 2013. (Статья в книге опубликована с дополнениями.)
Впервые: Вестник Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 2007. № 5. Переиздано в кн.:
Ранчин А.М. Древнерусская словесность и ее интерпретации: Маргиналии к теме. 2011. См. также:
Ранчин А.М. Три заметки о полисемии в поэзии Иосифа Бродского // НЛО. 2002. № 56. http://magazines.russ.ru/nlo/2002/56/ranch.html
 4
4 Денис Николаевич Ахапкин — доцент кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы Смольного Института РАО СПб, руководитель Центра письма и критического мышления. Научные интересы: лингвистика текста и лингвостилистика, концептуализация пространства в языке и тексте, русская семантическая поэтика, когнитивная поэтика, теория метафоры, поэтика Иосифа Бродского.
Комментарий воспроизведен по электронной версии книги:
Денис Ахапкин. Иосиф Бродский после России.
СПб, 2009. http://e-libra.ru/read/255270-iosif-brodskij-posle-rossii.html
 5
5 Юрий Левинг — филолог и поэт. Родился в 1975 году в Перми. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме по кафедре английской литературы, там же в 2002 г. защитил диссертацию. Далее занимался визуальным искусством в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, с 2006 г. заведует русским отделением Университета Далхаузи в Галифаксе (Канада). Интерес к Хлебникову нарочито акцентирован, например, в его стихотворении «Робкая зима», откуда привожу три строфы:
Какая-то робкая зима
В этом году
Приятно мурлыкать белиберду
„Я приду — обещать — я приду”
А на самом деле думать что никогда
Вот такая несмелая зима
Кому-то приятно разглядывать
Маленькую пыхтящую русалку
Она просто приползла из леса
Прилежно взбивать ночную рубашку в ручье
Ткань набухает тестом
Белого хлеба
Хлóпок мокнет быстрее воды
Вот такая несмелая зима
Или бабра сидящего у рощи
Запорошённой инеем
В серебряной постели
С улыбкой дышащего в ствол свирели  6
6 Приведённая далее цитата вынута из текста, предваряющего условный “сеанс” — демонстрацию кадров кинофильма «Андрей Рублёв» и строчек стихотворения Бродского. Воспроизведение видеоряда представляется нецелесообразным, потому отсылаем к публикации:
Левинг Ю. Иосиф Бродский и Андрей Тарковский (Опыт параллельного просмотра) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 273–287. http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112/le22.html
 7
7 Фёдор Никитич Двинятин — доцент кафедры русского языка СПбГУ, а также Канадского колледжа СПбГУ. Чемпион мира по спортивному «Что? Где? Когда?» (2002), обладатель четырёх «Хрустальных сов».
Здесь приведено несколько цитат из его статьи «Еще о межъязыковых звукосмысловых соответствиях в поэзии Бродского» — НЛО, 2011, № 112. http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112/d23.html
Я сократила текст приблизительно в тринадцать раз. При желании могла бы его ещё более сжато пересказать, но, отшелушив наукообразно-яркие перья “птичьего” (совиного?) языка, боюсь, пришлось бы призадуматься о костюме конунга.
 8
8 Если читатель-слушатель не заметил, то напоминаю, что это ценное замечание имеется и в статье А. Ранчина (см. выше).
 9
9 Поэт, не доверяя комментаторам, могущим позабыть о его склонности к будетлянским шуткам, представил себя сам в знаменитом стихотворении:
ЛЕВЛОСЕВ
Левлосев не поэт, не кифаред.
Он маринист, он велимировед,
бродскист в очках и с реденькой бородкой,
он осиполог с сиплой глоткой,
он пахнет водкой,
он порет бред.
Левлосевлосевлосевлосевон —
онононононононон иуда,
он предал Русь, он предаёт Сион,
он пьет лосьон,
не отличает добра от худа,
он никогда не знает, что откуда,
хоть слышал звон.
Он аннофил, он александроман,
федоролюб, переходя на прозу,
его не станет написать роман,
а там статью по важному вопросу —
держи карман!
Он слышит звон,
как будто кто казнён
там, где солома якобы едома,
но то не колокол, то телефон,
он не подходит, его нет дома.  10
10 Цитата взята из жизнеописания Бродского, см.:
Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. — http://www.stihi.ru/diary/approx/2012-02-16
 11 Лосев Лев.
11 Лосев Лев. Примечания // Бродский И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева.
СПб., 2011. Т. 1. С. 615. (Серия «Новая Библиотека поэта»).
 12
12 См.:
Дмитрий Бобышев. Я здесь // Октябрь. 2002, № 11. — http://magazines.russ.ru/october/2002/11/bob.html
 13
13 Владимир Иванович Козлов — поэт, критик, филолог. Работает главным редактором делового журнала «Эксперт-Юг», преподаёт несколько спецкурсов на факультете филологии и журналистики Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). Стипендиат Министерства культуры РФ. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» «За лучшие выступления по современной литературе» (2010).
Цитата извлечена из статьи:
Козлов В.И. Четыре подступа к циклу И. Бродского «Часть речи» // Пристальное прочтение Бродского: Сб. статей / Под ред. В.И. Козлова. Ростов-на-Дону: НМЦ «Логос», 2010. См. сканированный текст этого сборника на сайте: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3317088
 14
14 Конечно, ‘тире’ как “персонаж” поэтического обихода — разветвлённая тема, требующая отдельного рассказа и анализа.
 15
15 См.: http://lib.ru/BRODSKIJ/tsvetaeva.txt
 16
16 Здесь на всякий случай уведомляю, что я позволила себе убрать запятую, из-за которой было много споров с В.П. Григорьевым при издании «Творений» (1986). С моей точки зрения, Хлебников написал, что он
погиб в полк (как дети тонут в Волге у Царицына), но лингвиста эта “неправильность” не устраивала.
 17
17 Стихотворение было опубликовано в 1940 году в «Неизданных произведениях» Велимира Хлебникова (без вышеуказанной запятой).
 18
18 К хлебниковским стихотворным отсылкам в «Части речи» я еще возвращусь, но не в этой “пиесе”.
 19
19 Для объяснения имени тех, кто пленил героя Хлебникова, а также для уточнения их называния приведу выписку из статьи «Принятие киргизами русского подданства», написанной старшим советником Тургайского областного управления И.И. Крафтом в 1898 году. Статья отражает представления об этимологии слова ‘кайсацкий’ в конце XIX века:
„Под именем киргизов известны кочевники, населяющие степные области: Акмолинскую, Семипалатинскую, Уральскую и Тургайскую, Внутреннюю (Букеевскую) орду Астраханской губернии, часть Сыр-Дарьинской области и Аму-Дарьинский отдел.
До введения в этих областях временных положений 1867 и 1868 годов в официальных актах киргизы часто назывались киргиз-кайсаками или киргиз-казаками. Сами киргизы называют себя и доныне казаками. Под этим же именем они известны и у соседних азиатских народов.
Существует предположение, что переименование казаков в киргиз-казаков сделано русскими (сибиряками) в отличие от казаков, потомков завоевателей Сибири. Когда Сибирь была населена русскими очень слабо, киргизы, черные или дикокаменные [т.е. современные кыргызы], отличавшиеся, по словам китайского писателя Циши, жестокостью и „зверонравием”, часто нападали на города и села и на купеческие караваны и тем самым сделались ненавистными своим соседям, которые с названием ‘киргиз’ привыкли соединять нечто страшное, дикое и зверское. По удалении чёрных или дикокаменных киргизов в Туркестан соседями русских оказались другие кочевники — казаки, которые много причиняли беспокойств и вреда населению южных сибирских областей. Чтобы отделить кочевников казаков от казаков русских, пришлось дать первым дополнительное название и притом такое, которое могло создать ясное для всех представление об этом народе. Но подыскивать особое название казакам не пришлось: они за свои хищничества и набеги уже получили кличку, в виде брани, ‘киргизов’, и это кличка была прибавлена к действительному названию их, откуда и получилось наименование ‘киргиз-казаки’, впоследствии измененное в ‘киргиз-кайсаки’, а затем сокращенное — ‘киргизы’”. См.: http://forum-eurasica.ru/index.php?/topic/1129-pochemu-kazakhov-nazyvali-kirgizami/
 20
20 Есир, ясыр (
араб.) — невольник, раб.
 21
21 А теперь, когда уже сообщено почти всё запланированное для эпилога, могу признать задним числом, что я руководствовалась в своём конкретном анализе теоретическими выкладками Льва Лосева. Он подчёркивал, когда писал о цикле «Часть речи»:
„‹...› но есть здесь и специфическая тема, сильно заявленная в названии цикла и во вступительном стихотворении и реализованная не столько в сюжетах, сколько в самой фактуре текста, это тема утраты старого и трудного рождения нового поэтического языка. ‹...› Если первое стихотворение цикла полностью посвящено утратам — родной речевой среды и возлюбленной, то последнее заканчивается описанием того, что обретено, — свободы.
Поэт, близкий друг и в юности ментор Бродского, Евгений Рейн говорил о «Части речи»: „‹...›Там он окончательно нашел свой новый язык. Он сделал вообще, может быть, главное открытие свое, а может, в известной степени, и всеобщее, отказавшись от педалирования темперамента, от того, что так характерно для всей русской лирики — темпераментной, теплокровной, надрывной ноты””. —
Лосев Лев. Примечания //
Бродский И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева.
СПб., 2011. Т. 1. С. 613–614. (Серия «Новая Библиотека поэта»).



















![]()