В. Молотилов
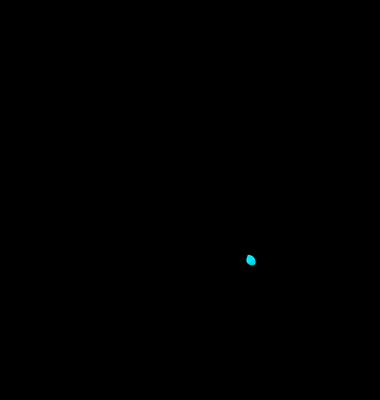
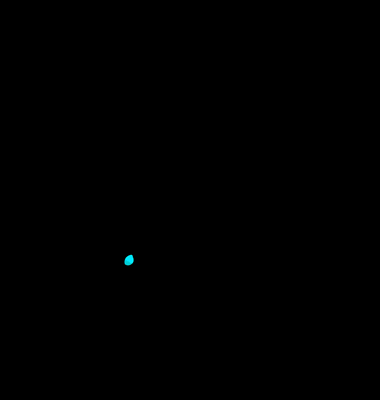
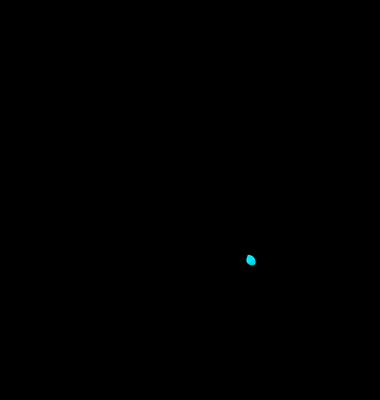
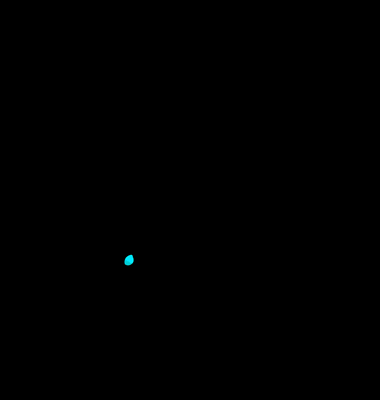
И в небесах блестит братва
Детей лукавыми глазами.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Где Юнона и Цинтекуатль
Смотрят Корреджио
и восхищены Мурилльо дитятей
Велимир Хлебников
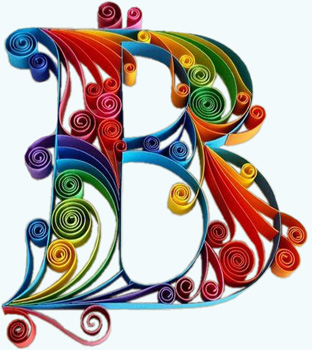 есёлое слово Севилья никогда не сочеталось в моей голове с золотым веком испанской живописи (немые вопли “Дома глухого”, вывернутые суставы Толедо, замогильное заклинание ‘Эскориал’).
есёлое слово Севилья никогда не сочеталось в моей голове с золотым веком испанской живописи (немые вопли “Дома глухого”, вывернутые суставы Толедо, замогильное заклинание ‘Эскориал’).
Постоим на пороге открытия, настроимся должным образом. Хлебников подсказывает, как это сделать. Вот именно. Любованием Корреджо. Начали.



И этим ограничимся: в Сети разливанное море Корреджо. Доброхоты из artcyclopedia.com — надёжные поводыри. Счастливого пути.
Тем, кто замешкался, нагло выскажу своё мнение: почти всегда это невыносимый кич. Леды, Ио и прочие вожделенки похотяев Корреджо так и просятся на прикроватные коврики зощенковских коммуналок.
Но к вкусной толчее вокруг мамочки всегда хочется вернуться, полюбоваться ещё разок. Лепота! Чего ещё требовать от художника? Он принёс радость.
Однако восхищения, т.е. высшей степени одобрения, Корреджо не вызывает. Чего стоит одна исполинская конечность юго-запада полотен, задуманная в качестве толчковой для моего глаза — туда, туда! Однажды разгадав этот нехитрый приём, раздражаешься его повторами. Впрочем, крылышкующие золотописьмом насельники небесных нетот быстрёхонько гасят вспышку недовольства и молодецким ходилом купальщика Св. Иеронима с его львом-недомерком, и приседающего справить большую нужду безымянного пастуха с дрючком непонятного назначения (посох пастыря обязан иметь загогулину для отделения овнов от козлищ). Дети есть дети. Вдруг становится стыдно за свои придирки. Это запоздалое раскаяние и мешает с лёгким сердцем насладиться средоточием произведения: до Младенца чрезмерно развлечённый глаз как-то и не добирается. Возможно, так и задумано: не пяльтесь на Него всуе.
Честно говоря, этот ропот и насмешки подле блистательного итальянца Корреджо — некий род шлюза для каравана с чёрным хлебом испанца Мурильо. Пока вы искали камень поувесистей на отсебятину о прикроватных ковриках, челны благополучно разгрузилась у вашего причала.
Предлагаю восхититься севильским дитятей. Я предупреждал: к искусству стрижки и бритья мы ещё вернёмся. Вот и вернулись.







Это полотно 2,2×1,5 метра хранится в Cincinatti Art Museum, Ohio по завещанию Mary M. Emery, да будет земля ей пухом. Каким образом оно попало к ней, я не могу сказать. Но прекрасный поступок этой женщины позволил нам узнать имя дитяти (со строчной буквы), которым были восхищены боги Хлебникова: частные собрания гобсеков — вне базы данных artcyclopedia.com. Понятно, что как только скупая слеза вашего покорного слуги сквозь носоглотку скатилась в его заскорузлое нутро, он тотчас бросился на поиски подробностей о St. Thomas de Villanueva.
Бартоломе Эстебан был последним, четырнадцатым ребёнком севильского цирюльника Г.Э. Мурильо и его жены Марии Пересы. Гривка и косой пробор маленького гранда, раздающего сверстникам гранты, достойна всяческого доверия: очевидно, детей состоятельных родителей подстригали тогда именно так. Сыну ли парикмахера не знать! Детство золотое, дорогие воспоминания!
Ещё бы не дорогие: в возрасте одиннадцати лет будущий основоположник painting of Childhood остался круглым сиротой. Неизвестно, была ли у него бабушка, собачка и свежая булка по утрам о ту пору. Точно установлено, что мальчика взял на воспитание богатый севильский врач. Прообраз он липкого слизня Бартоло или нет — узнавайте у Бомарше. Э, да я начинаю подпевать дону Базилио. Нет, преуспевающий севильский целитель не готовил Бартоломе себе в жёны, как Розину. Медик наслаждался полноценной семейной жизнью, без странностей: его супруга приходилась родной тёткой приёмышу. Вскоре пареньку помогли определиться в жизни, отправив растирать краски у Хуана дель Кастильо. Искусством создания западающих в душу изображений он овладел самостоятельно, досрочно (1639 г.) прервав обучение у маэстро.
Всю (1617–1682) свою жизнь художник провёл в родной Севилье (хадж 1640 года в Мадрид, к Веласкесу, — легенда), а погиб на чужой сторонке: сорвался с лесов, расписывая храм в Кадисе.
Искусство Мурильо всегда было востребовано. Ещё в молодые годы он составил себе состояние, а в 1657 году стал пайщиком мексиканской торговой компании. Более того, Мурильо покупал рабов для домашнего хозяйства. Первым президентом основанной в Севилье Академии Искусств стал именно этот почтенный горожанин.
Но в январе 1664 году Мурильо испытал страшный удар судьбы, он которого никогда полностью не оправился: он потерял жену. Весь этот год художник не мог работать, и вернул себе душевное равновесие только под кровом монастыря капуцинов, где поселился на время со всеми (Хосе Эстебан 14 лет, Франциска Мария 9 лет, Габриэль 8 лет, Гаспар Эстебан 2 лет и Марией, младенцем) своими чадами.
20 лет его жизни для создания 2/3 всех его известных работ были еще впереди. Среди них и автопортрет из National Gallery, London UK, probably 1670–1673.

Мурильо не скрывает, ради чего, собственно, в первый и последний раз изображает именно себя, а не кого-либо другого. Знающие латынь сами прочтут, а остальные должны принять на веру один из переводов надписи на картуше:
К сонму детей Мурильо принадлежит, как нам теперь известно, и Святой Томас из Виллануэвы. Вот каким его можно лицезреть в камне:

И опять скупая слеза вашего покорного слуги сквозь носоглотку скатилась в его заскорузлое нутро. За ней — ещё и ещё. Я не могу спокойно смотреть на слепых детей. Так вот за что причислен к лику святых дитятя Мурильо: за исцеление маленьких страдальцев!
Вот какие дары обретает снимающий не с ближнего, а с самого себя последнюю рубашку.
Но почему дитятя изваян в архипастырском облачении, в митре католического епископа, с посохом, спиральный завиток которого совершенно правильно обломился (см. отсебятину о дрючке пастуха из «Святой Ночи»)? Вот краткое изложение жизненного пути Томаса Гарсиа Мартинеса из Виллануэвы.
Вот ещё отрывок:
И ещё:
А вот слова проповеди святого:
Для очередного поворота в моём неспешном повествовании чрезвычайно важны сведения о соучастии живописца Мурильо в колониальном грабеже Мексики, родине Цинтекуатля, а также свидетельства евангелизации Нового Света сотрудниками провинциала Кастилии, будущего St. Thomas de Villanueva. Мы на верном пути: придворный художник Велимира Хлебникова и его дитятя из Cincinatti Art Museum, Ohio, отнюдь не чужды Просверленному Черепу (Цинтелькуатлю) пьесы «Боги», самым дотошным исследователем которой оказался М.Л. Гаспаров, см. здесь 
Но полный разворот наш лицом к доколумбовой Америке ещё далеко впереди. Присядем на пенёк, отдышимся, оглянемся назад. И что мы видим? Видим наглое попирание вселенского чувства слова, — едва ли не главной составляющей удивительного явления природы, именуемого Велимир Хлебников. Попирание ни кем-нибудь, а мной. Моим грязным копытом, которое никто теперь не захочет целовать.
Соринку с юго-запада Корреджо раздраконил, а как насчёт бревна в своём глазу?
Выдернем, пока добрые люди не разнесли весь череп этой неуглядой.
Конечно, Мурильо дитятя — не Томас Гарсиа Мартинес из Виллануэвы, и никакие слёзы тут не помогут, даже скупые мужские. Прости меня, St. Thomas de Villanueva. Ты навсегда в моём сердце, видит Бог. Но Велимир Хлебников писал не о тебе. Маленькие оборвыши Мурильо — детвора, ты — деточка, а дитятя — наш Спаситель, изображенный младенцем в сиянии славы. Оставим контекстно-каноническое начертание отдающей курной избой парадигмальной экспрессемы дитятя докам, надо же им будет сказать своё фе.1![]()
Ничего подобного! И не подумаю. Хенрик Баран разыскивает почтовые открытки начала XX века, которые мог видеть Хлебников, и правильно делает. Разыскал даже Фелисьена Ропса, молодчага. Так ведь Мурильо дитятя в Российской империи был значительно доступнее, чем эта подцензурная гнусь: цари собрали полотен испанца числом поболе, нежели владыки Баварии, Великобритании, Испании, Франции и, уж подавно, всякие там свинопасы из Нью-Йорка. Совокупно (18 ед. хранения) больше, замечу в скобках. Через открытки, «Ниву» или прямым доступом во времена великих потрясений Хлебников узрел Мурильо дитятю — оставим дорасследовать вхожим и допущенным. Моё дело — показать вам Дитятю кисти Мурильо, воистину достойного восхищения.

