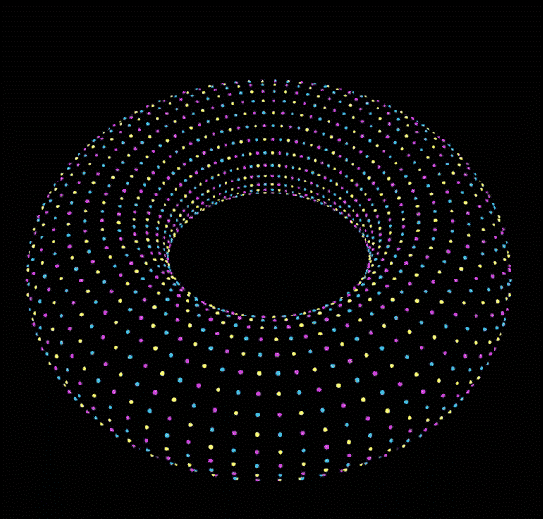Фрэнсис Пулен
«Ночной обыск» Велимира Хлебникова, 36 + 36 и Кронштадтский мятеж
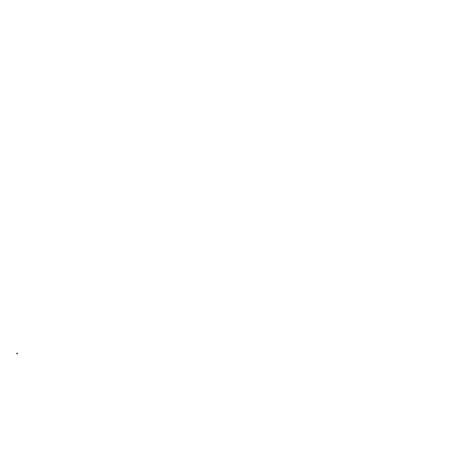
атематические формулы Велимира Хлебникова описывают, в большинстве своём, чередование событий одного порядка, независимо от их пространственно-временнóй привязки. Спустя пятнадцать лет изысканий поэт уверил себя, что ему посчастливилось выявить закономерность такого чередования, то есть овладеть искусством угадывания будущего. В «Ночном обыске», одной из своих последних — и самых амбициозных — поэм, он использует формулу
36 + 36 и дату написания непосредственно после заглавия, вместо эпиграфа.
1
Столь необычное предварение поэтического произведения привлекло внимание Р.Д.Б. Томсона («Хлебников и 3
6 + 3
6») и Рэймонда Кука («Хлебниковская
решётка: недостающий ключ к
Ночному обыску?»). Полагая эпиграф поэмы свидетельством пересмотра поэтом итогов Октябрьского переворота, оба исследователя пришли к выводу: если сопоставить авторское понимание формулы
36 + 36 и поступки действующих лиц поэмы, окажется, что в гибельных для восставшего народа последствиях его победы Хлебников усматривает очередное доказательство справедливости своих
законов времени. На наш взгляд, по этому пути следует пройти чуть дальше: формула-введение связывает два сопутствующих Октябрьской революции события: захват власти в Кронштадте рядовым составом этой военно-морской базы (1917) и Кронштадтский мятеж (1921).
2
Предваряющая «Ночной обыск» формула вызывает разногласия едва ли не со дня обнародования поэмы (1928). В «Творениях», последнем издании произведений Хлебникова в Советском Союзе, утверждается, что 36 + 36 редактор СП Степанов счёл эпиграфом по недоразумению, ибо формула эта, в связке с датой 7/XI–1921, помещена Хлебниковым рядом с заголовком якобы просто для того, чтобы указать на завершение работы над поэмой одновременно с четвёртой годовщиной Октябрьской революции (Творения: 685). В своём комментарии А. Парнис отмечает, что 36 + 36 (1458 дней) соответствует временнóму промежутку приблизительно в четыре года; отсчитав от 7/XI–1921 1458 дней, получим 9 ноября 1917 года — весьма и весьма близкую к законодательно празднуемой дату (Творения: 685).
Степанов же полагал эпиграфом именно 36 + 36, а дату 7/XI–1921 вынес в примечания (СП I: 325). Для пояснения этой формулы он приводит соображения П.В. Митурича, душеприказчика Хлебникова. Смысл их в том, что 36 + 36 приблизительно равно ударам сердца читателя между казнью матросами (в зачине поэмы) белогвардейца Владимира и убийством этих же матросов его матерью (в финале поэмы). Такое истолкование вызвало возражения.3 Р.Д.Б. Томсон, например, заявил, что выражение 36 + 36 почти наверняка соответствует временнóму промежутку между двумя противоположными по духу времени событиями, поскольку именно в таком виде приведено в хлебниковских «Досках судьбы».4
Р.Д.Б. Томсон, например, заявил, что выражение 36 + 36 почти наверняка соответствует временнóму промежутку между двумя противоположными по духу времени событиями, поскольку именно в таком виде приведено в хлебниковских «Досках судьбы».4 Эпиграфом, по его мнению, следует считать и формулу, и дату 7/XI–1921, которая предваряет 36 + 36 в рукописном подлиннике.
Эпиграфом, по его мнению, следует считать и формулу, и дату 7/XI–1921, которая предваряет 36 + 36 в рукописном подлиннике.
Итак, Р.Д.Б. Томсон полагает 36 + 36 эпиграфом, работающим в связке с датировкой поэмы.5 Сравнив этот образчик числоречи с приведёнными в «Досках судьбы» примерами работы законов времени, он уверенно заявил, что в эпиграфе сквозит недовольство Хлебникова „явным обращением революционного импульса вспять” вследствие отмены 7 ноября 1921 года Совнаркомом РСФСР своего решения от 1917 года о признании внешних долгов царского правительства недействительными (Thomson: 299).6
Сравнив этот образчик числоречи с приведёнными в «Досках судьбы» примерами работы законов времени, он уверенно заявил, что в эпиграфе сквозит недовольство Хлебникова „явным обращением революционного импульса вспять” вследствие отмены 7 ноября 1921 года Совнаркомом РСФСР своего решения от 1917 года о признании внешних долгов царского правительства недействительными (Thomson: 299).6
В доказательство своей правоты Томсон приводит три соображения. Во-первых, 36 + 36 (длина обратной волны, следуя «Доскам судьбы») прямо указывает на временной промежуток в 1458 дней между двумя противоположными по духу времени событиями. Во-вторых, датировка — крайне редкий у Хлебникова случай (Thomson: 298). Возможно, предполагает исследователь, математический эпиграф указывает на нечто случившееся 7 ноября 1921 г. как на противособытие произошедшему 1458 днями ранее. В-третьих, согласно «Доскам судьбы», Хлебников связывает 36 + 36 с постановлением советского правительства взять на себя внешние долги в 1921 году (Thomson: 298). Действительно, Царские долги были признаны Советской Россией 6.ХI.1921 г., через 36 + 36 = 1458 дней после начала Советской власти 10.XI.1917 г., когда они были приравнены ничему. (СС III: 476).
Последнее предположение Томсона Кук подвергает сомнению:
‹...› профессор Томсон делает вывод, что „общим смыслом эпиграфа” была „убеждённость в том, что первоначальному импульсу Октябрьской революции противодействует признание внешних долгов императорской России”.
(Cooke: 191)
Прежде чем предъявить своё истолкование образчика хлебниковской числоречи, Кук отсылает читателя к фабуле поэмы:
Авторитет Хлебникова придаёт трактовке эпиграфа профессором Томсоном некоторый вес, хотя трудно сказать, каким образом сочетаются «Ночной обыск» и
признание царских долгов большевиками. Профессор Томсон осторожно предполагает, что в поэме поставлен вопрос о том, „насколько большевистская революция свободна от наследия прошлого? В этом смысле
признание царских долгов многое проясняет”. И всё же, думается, сбрасывать со счетов возможность того, что Хлебников имел в виду нечто совершенно иное, не следует. Кстати говоря,
признание царских долгов не было единственным событием, с которым Хлебников связывает формулу
36 + 36.
(Cooke: 191–192)7
Отсюда вывод:
Следует принять во внимание и другое замечание профессора Томсона. По его мнению, суть поэмы скрыта в математическом выражении
36 + 36, которое Хлебников добавил к беловой версии поэмы в качестве эпиграфа. В рукописи (ед. хр. 15, лист 2) таковая датирована
7/XI–1921 (о чём, как ни странно, Степанов сообщает только в примечаниях, см.
СП I: 325) Думается, эпиграф и авторская датировка — единое целое.
(Cooke: 193)8
Далее Кук даёт своё объяснение косвенно предваряющим «Ночной обыск» 1458 дням: промежуток времени между Октябрьским переворотом 7 ноября 1917 г. и датой 7/XI–1921 равен 1456 дням, что всего на два дня меньше 36 + 36.
Не сравнивает ли здесь Хлебников вооружённое восстание 1917 года с обстановкой в стране четыре года спустя? Не намекает ли своим эпиграфом на то, что революция 1917 года к этому времени выродилась в противособытие, “контрреволюцию”?
Независимо от того, принимаем мы или отвергаем испомещение «Ночного обыска» в рамки представлений Хлебникова о законах времени, ясно, что сюжет поэмы подразумевает чётко выраженную обратную волну, которую он полагал сутью формулы 36 + 36.
(Cooke: 193)
Томсон и Кук показали, что поэму нельзя изучать в отрыве от «Досок судьбы» — итогового свода изысканий Хлебникова, которое ни Степанов, ни Поляков не воспроизвели.9 Формула 36 + 36 работает не сама по себе, независимо от «Досок судьбы», как полагал Степанов, но и не упирается в годовщину Октябрьской революции, на чём настаивает Парнис. Это математическое выражение подразумевает обратную волну истории, а не временной промежуток или количество ударов сердца.
Формула 36 + 36 работает не сама по себе, независимо от «Досок судьбы», как полагал Степанов, но и не упирается в годовщину Октябрьской революции, на чём настаивает Парнис. Это математическое выражение подразумевает обратную волну истории, а не временной промежуток или количество ударов сердца.
Формула Хлебникова, повторяем, работает в связке с датировкой стихотворения. Более того, в рукописном подлиннике эпиграф состоит из двух строк:
7/XI–1921
36 + 36
Однако эти трудности согласования (включая событийно/противособытийное осмысление) эпиграфа с фабулой «Ночного обыска» могут быть решены посредством истолкования его способом, которого придерживается именно Парнис, хотя тот и считает 7/XI–1921 / 36 + 36 не более чем отсылкой к празднованию годовщины Октябрьской революции. Дата 7/XI–1921 говорит сама за себя, без необходимости в отдельном истолковании. Если объединить воззрения Кука и Парниса, можно рассматривать эпиграф как предварение трёх тем. Во-первых, речь действительно идёт о годовщине революции 1917 года. Во-вторых, памятуя о персонажах поэмы и следуя историософии её автора, 36 + 36 выставляет вооружённые восстания в Кронштадте 1917 и 1921 гг. не только примерами события и противособытия, но и образчиком исторических циклов, которые будут повторяться вечно, даже после столь крутых перемен в жизни общества, как победа вооруженного восстания и низвержение тысячелетней власти. Наконец, 36 + 36 предуведомляет читателя о перерождении противоборствующей белым братвы на временнóм отрезке между Октябрьской революцией и её четвёртой годовщиной.
Обнародуй Хлебников «Ночной обыск» при жизни, читатель, вероятно, воспринял бы поэму именно так. Буйная, гораздая на дикие выходки братва «Ночного обыска» напоминает именно кронштадтских матросов, особенно тех, кто принял участие в антиправительственном выступлении.10 Буря и натиск начала поэмы вполне соответствует их революционному пылу четырёхлетней давности, а вселенская смазь финала приводит на память Кронштадтский мятеж 1921 года, 36 + 36 дней спустя. Это событие Ленин назвал „вспышкой, которая осветила действительность ярче чего-либо другого” (Avrich: 3). Кронштадт 1921 года стал олицетворением сотен выступлений против большевистской власти 1920–1921 гг.11
Буря и натиск начала поэмы вполне соответствует их революционному пылу четырёхлетней давности, а вселенская смазь финала приводит на память Кронштадтский мятеж 1921 года, 36 + 36 дней спустя. Это событие Ленин назвал „вспышкой, которая осветила действительность ярче чего-либо другого” (Avrich: 3). Кронштадт 1921 года стал олицетворением сотен выступлений против большевистской власти 1920–1921 гг.11
Первое вооружённое восстание в Кронштадте произошло 28 февраля 1917 года. Длилось оно не более суток, но стоило жизни пятидесяти одному офицеру, включая командующего базой адмирала Вирена и тридцати полицейским вкупе со штатными осведомителями.12 Восстание обезглавило Кронштадт, в итоге военное командование над ним принял новообразованный Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Getzler: 19–27).
Восстание обезглавило Кронштадт, в итоге военное командование над ним принял новообразованный Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Getzler: 19–27).
Второе восстание в Кронштадте началось 28 февраля 1921 года и закончилось 18 марта 1921 года.13 Для его подавления потребовалось без малого 50 000 красноармейцев, включая особо надёжные части под командованием двадцативосьмилетнего генерала Тухачевского (Getzler: 243). Как отмечает историк Пол Аврич, Кронштадский мятеж 1921 года — „едва ли не самый кровавый эпизод Гражданской войны”: потери правительственных войск составили около 10 000 человек (Avrich: 210). Повстанцев, погибших на месте, исчисляют до 1600 человек (Avrich: 211); кроме того, несколько сотен пленных позже были расстреляны (Avrich: 215). Около 8000 участников так называемой „третьей революции”14
Для его подавления потребовалось без малого 50 000 красноармейцев, включая особо надёжные части под командованием двадцативосьмилетнего генерала Тухачевского (Getzler: 243). Как отмечает историк Пол Аврич, Кронштадский мятеж 1921 года — „едва ли не самый кровавый эпизод Гражданской войны”: потери правительственных войск составили около 10 000 человек (Avrich: 210). Повстанцев, погибших на месте, исчисляют до 1600 человек (Avrich: 211); кроме того, несколько сотен пленных позже были расстреляны (Avrich: 215). Около 8000 участников так называемой „третьей революции”14 (Avrich: 166) бежали по льду в Финляндию (Getzler: 244).
(Avrich: 166) бежали по льду в Финляндию (Getzler: 244).

Кронштадтский мятеж 1921 года ознаменовал четвёртую годовщину восстания в Кронштадте 1917 года, которое ускорило крах самодержавия. Математической формулой 36 + 36 Хлебников обобщает поступки действующих лиц своей поэмы, чтобы представить веские доказательства обратимости духа времени. В 1917 году матросы Кронштадта казнили сторонников царя столь же беспощадно, как братва в «Ночном обыске» расправляется с белогвардейцами; в марте 1921 года, 36 + 36 дней спустя, Красная армия истребила сотни тех же матросов. Эту железную поступь судьбы Хлебников и описывает в «Ночном обыске». Его формула прикровенно уведомляет: матросы-палачи не останутся без отмщения.
Последнюю точку в «Ночном обыске» Хлебников поставил восемь месяцев спустя подавление Кронштадтского мятежа, во время которого находился в Баку, числясь при Политотделе Астрахано-Каспийской флотилии.15 Вместе с художником Мечиславом Доброковским Хлебников жил в общежитии для моряков, где и сформулировал свои законы времени — фундаментальные алгоритмы, которые, по его мнению, управляют историческими событиями и природными явлениями (Douglas: 27).
Вместе с художником Мечиславом Доброковским Хлебников жил в общежитии для моряков, где и сформулировал свои законы времени — фундаментальные алгоритмы, которые, по его мнению, управляют историческими событиями и природными явлениями (Douglas: 27).
Стремительная передача новостей в сообществах профессионалов известна; более того, Хлебников мог знать и о Кронштадтском восстании 1917 года, и о мятеже 1921 года от очевидцев, ибо тысячи балтийских моряков были переведены на Каспий именно в это время (Getzler: 244).16 Формула Хлебникова 36 + 36 = 1458 в точности соответствует временнóму промежутку между этими восстаниями-антиподами: 28 февраля 1917 года отстаёт во времени от 10 марта 1921 года, разгара мятежа, ровно на 1458 дней.
Формула Хлебникова 36 + 36 = 1458 в точности соответствует временнóму промежутку между этими восстаниями-антиподами: 28 февраля 1917 года отстаёт во времени от 10 марта 1921 года, разгара мятежа, ровно на 1458 дней.
За это время кронштадтские моряки, особенно в глазах большевиков, из ударной силы революции выродились в “контру”. «Ночной обыск» — именно об этом. Поведение хлебниковской братвы кардинально меняется по ходу действия поэмы. В полном согласии с формулой 36 + 36 эти ярые поначалу борцы с врагами трудового народа постепенно превращаются в полубезумную пьянь с барскими замашками.
Вобранный в 36 + 36, Кронштадтский мятеж и обогащает поэму тематически, и перекликается с хлебниковскими законами времени. По наблюдениям Кука, в «Ночной обыск» включены сторонние тексты; отрывки из этой поэмы, в свою очередь, опознаются в других произведениях будетлянина, особенно в работах по нумерологии истории (Cooke: 189). Как уже сказано, «Доски судьбы» — итоговый свод изысканий поэта в этом направлении. По Хлебникову, при столкновении циклических сил истории насилие неизбежно. В «Досках судьбы» читаем: через повторные времена числового строения 3n события относятся друг к другу как два встречных поезда, идущих по одному и тому же пути (СС III: 477). Таким образом, обратная волна насилия, нарастающая в Кронштадте с 1917 по 1921 год, соответствует исповедующим террор матросам-большевикам начала поэмы, а затем их гибели в финале.
В «Ночном обыске» братва, пьянствуя ночь напролёт, развоплощаются из гончих, которые охотятся на белого зверя, в его жертву. По замечанию Томсона, прежде, чем предъявлять свои доводы относительно возможного значения 36 + 36, следует выяснить: с какой бы стати красным подражать моральным ценностям белых? (Thomson: 304). Действительно, бóльшая часть поэмы ставит перед читателем именно этот вопрос. Приведя свой отряд обыскивать квартиру где-то на излёте гражданской войны в России, когда белые терпели поражение, Старшой спрашивает: Белые звери есть? / ‹...› Пахнет белым зверем (Творения: 317). Нарвавшись на выстрел, они без долгих слов убивают стрелка. Обнаружив ещё одного белого, расправляются и с ним:
Годок! Я гада зарубил!
Лежит на чердаке
У пулемёта.
(Творения: 320)
Однако после того, как пианино разбито и останки его выброшены в окно, революционный пыл матросов остывает. Они пируют, выламываясь на господский лад:
Мать, ты здесь?
Жратвы!
Вина и лососины!
И скатерть белую.
Цветы. Стаканы.
Будет пир, как надо.
Да чтоб живей
И мясо и жаркого ‹...›
(Творения: 323)
Пьянствуя за столом белых, матросы утрачивают революционное рвение, и сами “обелячиваются”:
Налей вина, товарищи,
Чтоб душу отвести!
Пей, море,
Гуляй, море ‹...›
(Творения: 326)
Что же касается предводителя отряда, Cтаршого, то в начале поэмы он заявляет: Я зорок. Далее читаем: Мы не цари / Сидеть и грезить (Творения: 318). Однако ближе к развязке матросы назюзились до полной утраты бдительности, а их вожак при этом ещё и погрузился в грёзы бредового романа с иконой бога девичьего, что позволило Старухе не только запереть шатию-братию, но и устроить пожар.17
По мнению Хлебникова, вселенная заключила законы, связующие события и противособытия, в поддающиеся познанию рамки, описываемые численным выражением 3n. «Ночной обыск» показывает эти рамки со всей наглядностью. Антибольшевистским это произведение не назовёшь (а вот антимарксистским — вполне). Как замечает Томсон, Хлебников и футуристы приняли „исторически неизбежную революцию” (Thomson: 299). Испомещение большевистской годовщины 7.XI.1921 г. в эпиграфе доказывает благоволение Хлебникова Октябрьскому перевороту. Однако поэма выстроена по собственным законам исторического развития, с учётом обратной волны. С ней-то, полагает Хлебников, и столкнётся коммунизм, провозглашённый отцами-основателями заключительным этапом истории. Антибольшевистский мятеж в Кронштадте подтвердил наблюдение поэта, а именно: силам истории свойственно отрицать предшествующее событие событием равной силы, но с противоположным знаком. Таким образом, Кронштадтское восстание 1917 года предопределило выступление против большевистской власти ровно 36 + 36 дней спустя; братва, подотчётная этой математической формуле, убивает белых, “обелячивается” и, в конечном итоге, погибает отнюдь не в соответствии с катехизисом революционера.
————————
Примечания 1
1 Ночной обыск — редкость в сборниках произведений Хлебникова времён СССР. В 1986 году издатели включили эту поэму в:
Велимир Хлебников. Творения / Ред. М. Поляков.
Москва: Советский писатель. По причинам, которые обсудим ниже, они опустили эпиграф
36 + 36. В нашей статье стихотворные цитаты заимствованы из текстовой части «Ночного обыска» по этому изданию. Обо всём, что касается
36 + 36 как авторского эпиграфа, см.: Собрание произведений Велимира Хлебникова / Ред. Н. Степанов. Том I.
Ленинград: Издательство Писателей. 1928 (далее
СП I: номер страницы).
Переиздание степановского пятитомника см.:
Велимир Хлебников. Собрание сочинений / Ред. Владимир Марков. Т. I–IV.
Мюнхен. 1968–1972. Мы цитируем «Доски судьбы» по этому изданию (далее
СС III: номер страницы).
 2
2 В своей работе «Русский футуризм: История» Владимир Марков замечает: „Хлебников разрывался между языком и математикой; безусловно, он предпочёл бы открыть
законы времени, нежели остаться в анналах поэзии” (
Markov: 301).
 3
3 В своей работе «Хлебников и 3
6 + 3
6» Томсон опровергает это наблюдение Митурича, указывая, что чтение «Ночного обыска» занимает около сорока, а не восемнадцать минут, нужных для 1458 ударов сердца (
Thomson: 297). Наблюдение Митурича см. в:
СП I: 325.
 4
4 Вероятно, Степанов не включил «Доски судьбы» в пятитомник 1928–1933 гг. по идеологическим соображениям.
 5
5 Томсон датирует «Ночной обыск» 7 ноября –11 ноября 1921 года, что не соответствует записи рукой Хлебникова
7/XI–1921, расположенной сразу над формулой
36 + 36 (
Thomson: 309). См.:
СП I: 325.
 6
6 Хлебников завершил «Доски судьбы», свою последнюю теоретическую работу, касающуюся его воззрений на время, в 1922 году:
Чистые законы времени мною найдены 20 года (sic!),
когда я жил в Баку, в стране огня, в высоком здании морского общежития, вместе с Добраковским, именно 17.XI. (
СС III: 471). Согласно «Доскам судьбы», все исторические движения имеют начальное и конечное событие, которые часто сопровождаются насилием. Что ещё более важно, по Хлебникову, временной промежуток между началом и концом таких движений описываются математически (
СС III: 471–484). В «Досках судьбы» Хлебников приводит около двадцати пяти исторических наблюдений. Полагая 3
n краеугольным камнем своей теории, он пишет:
Нужно помнить, что вообще степени трёх (3n) соединяют обратные события, победу и разгром, начало и конец. Три есть как бы колесо смерти исходного события (
СС III: 471). Крупный военный успех, утверждает далее Хлебников, в конечном итоге соответствует будущему поражению, предопределёнными силами, возникшими в итоге первоначального военного успеха. Промежуток времени между этими двумя противодействующими силами будет определяться математическим уравнением 3
n:
Если первая точка отмечена крупным военным успехом некоторой волны человечества, была шагом завоевания, то вторая точка, через 3n суток, будет остановкой этого движения, днём отпора ему (
СС III: 475).
 7
7 В этой статье Кук указывает, что Хлебников также использует выражение
36 + 36 в записной книжке, см.:
СП V: 271.
 8
8 Изложено в комментариях Парниса (
Творения: 685) и Степанова (
СП I: 325).
 9
9 Крайняя редкость «Ночного обыска» в советских сборниках, особенно учитывая связь поэмы с «Досками судьбы», может быть связана, как отмечает Кук, с явной политической подоплёкой «Ночного обыска»: „‹...› назвать поэму однозначным приветствием революции нельзя; и действительно, в злобных нападках Бориса Яковлева (1948) «Ночной обыск» попал в число произведений, проникнутых „явно антисоветскими и антибольшевистскими настроениями”. В дальнейшем советские критики давали более осторожные оценки, но поэма явно представляла для них идеологические трудности” (
Cooke: 188).
 10
10 История Кронштадта ХХ века знает два крупных восстания в 1905 и 1906 гг. Эта военно-морская база, по словам Гетцлера, имела „грозную репутацию из-за жёсткого режима, революционных беспорядков, мятежей и репрессий, а также постоянного недовольства” (
Getzler: 1–8).
 11
11 Только в феврале 1921 года большевики столкнулись со 118 крестьянскими восстаниями (
Avrich: 14). Сразу после подавления Кронштадтского мятежа генерал Тухачевский был отправлен на подавление восстания в Тамбовской губернии, в котором участвовало около 50 000 крестьян (
Avrich: 15).
 12
12 В феврале 1917 года в Кронштадте находилось около 20 000 солдат, 12 000 матросов и 17 000 рабочих (
Getzler: 9–11).
 13
13 В марте 1921 года в Кронштадте находилось около 27 000 солдат и матросов. Под командованием повстанцев находились линейные корабли «Петропавловск» и «Севастополь». В Кронштадте также насчитывалось 13 000 рабочих (
Getzler: 205). За исключением финального сражения, восстание в Кронштадте 1921 года считать кровопролитным не приходится. Во время захвата власти матросы не стреляли, а местная коммунистическая ячейка не оказала никакого сопротивления (
Getzler: 218). Тем не менее, мятеж грозил беспорядками в соседних частях. 3 марта 1921 года личный состав близлежащей ораниенбаумской авиаэскадрильи попытался присоединиться к восставшим. Местный коммунистический актив немедленно расстрелял сорок пять возможных повстанцев (
Avrich: 138). Из-за усиленной обороны острова и опасного участка открытого льда советское руководство не предприняло немедленных действий по удушению восстания в зародыше (
Getzler: 151).
 14
14 8 марта 1921 года кронштадтцы в целях пропаганды выдвинули лозунг „третья революция” (
Avrich: 166).
 15 Степанов
15 Степанов: 202.
 16
16 Красноармейцы, участвовавшие в подавлении Кронштадтского мятежа, тоже были рассредоточены по отдаленным военным базам РСФСР (
Avrich: 214).
 17
17 В «Ночном обыске» Томсон и Кук выявили несколько тем, напрямую связанных с
законами времени Хлебникова. Исследования этих учёных помогут любому желающему понять суть
возмездия и
перелома во времени (оба изложены в «Досках судьбы») на примерах из текста поэмы. Весьма полезна и работа Раймонда Кука «Образ и символ в хлебниковском «Ночном обыске»».
Цитируемые работыAvrich, Paul. Kronstadt 1921.
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1970.
Cooke, Raymond. Chlebnikov’s ‘Grid’ (Resetka): A Missing Key to
Nocnoj obysk? // Velimir Chlebnikov (1885–1922): Myth and Reality. Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov / Ed. William G. Weststeijn.
Amsterdam: Rodopi. 1986. Р. 187–215.
воспроизведено на www.ka2.ruCooke, Raymond. Image and Symbolism in Khlebnikov’s
Night Search // The Ardis Anthology of Russian Futurism / Ed. Ellendea Proffer and Carl R. Proffer.
Ann Arbor, Mich.: Ardis. 1980. Р. 279–294.
воспроизведено на www.ka2.ruDouglas, Charlotte. Introduction // The Collected Works of Velimir Khlebnikov, Letters and Theoretical Writings. Vol. 1 / Trans. Paul Schmidt. Ed. Charlotte Douglas.
Cambridge, Mass., and London: Harvard University Press. 1987. Р. 3–34.
воспроизведено на www.ka2.ruGetzler, Israel. Kronstadt 1917–1921, The Fate of a Soviet Democracy.
Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
Markov, Vladimir. Russian Futurism: A History.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1968.
воспроизведено на www.ka2.ruСтепанов, Н. Велимир Хлебников: жизнь и творчество.
Москва: Советский писатель. 1975.
воспроизведено на www.ka2.ruThomson, R.D.B. Khlebnikov and 3
6 + 3
6 // Russian and Slavic Literature / Ed. Richard Freeborn, R.R. Milner-Gulland, and Charles A. Ward.
Cambridge, Mass.: Slavica Publishers, Inc. 1976. P. 297–312.
воспроизведено на www.ka2.ruХлебников, Велимир. Ночной обыск // Велимир Хлебников. Творения / Ред. М. Поляков.
Москва: Советский писатель. 1986.
Собрание произведений Велимира Хлебникова. Том I / Ред. Н. Степанов.
Ленинград: Издательство писателей. 1928.
Собрание сочинений. Том. III / Ред. Владимир Марков.
Мюнхен. 1968–1972.
Воспроизведено по:
Francis Poulin. Velimir Xlebnikov’s Nočnoj Obysk, 36 + 36, and the Kronstadt Revolts.
The Slavic and East European Journal, Vol. 34, No. 4 (Winter, 1990), pp. 511–519.
Перевод В. Молотилова.
pdf поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск» по: СП I: 252–273
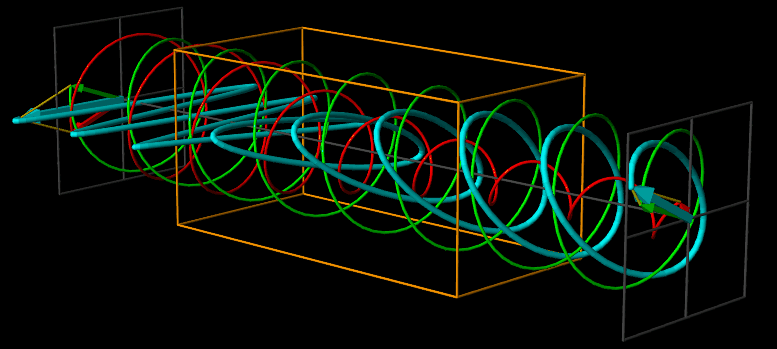
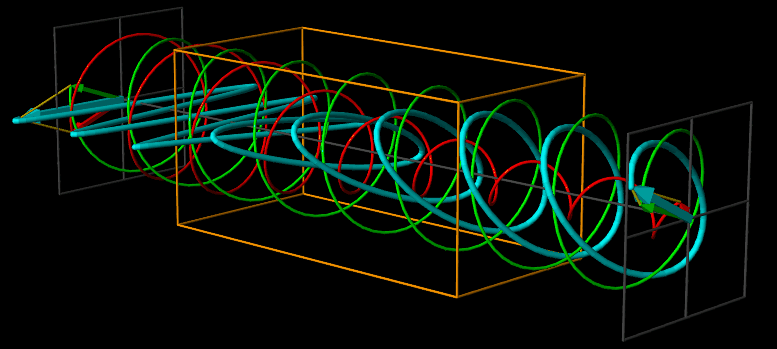
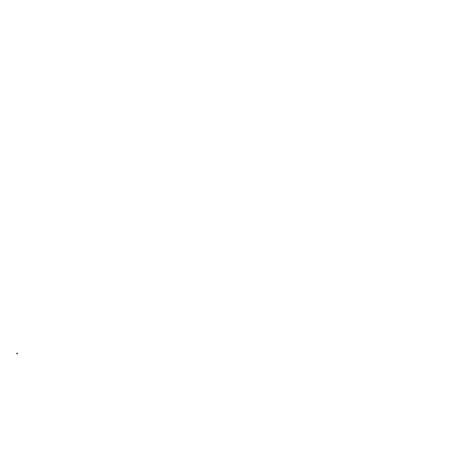 атематические формулы Велимира Хлебникова описывают, в большинстве своём, чередование событий одного порядка, независимо от их пространственно-временнóй привязки. Спустя пятнадцать лет изысканий поэт уверил себя, что ему посчастливилось выявить закономерность такого чередования, то есть овладеть искусством угадывания будущего. В «Ночном обыске», одной из своих последних — и самых амбициозных — поэм, он использует формулу 36 + 36 и дату написания непосредственно после заглавия, вместо эпиграфа.1
атематические формулы Велимира Хлебникова описывают, в большинстве своём, чередование событий одного порядка, независимо от их пространственно-временнóй привязки. Спустя пятнадцать лет изысканий поэт уверил себя, что ему посчастливилось выявить закономерность такого чередования, то есть овладеть искусством угадывания будущего. В «Ночном обыске», одной из своих последних — и самых амбициозных — поэм, он использует формулу 36 + 36 и дату написания непосредственно после заглавия, вместо эпиграфа.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()