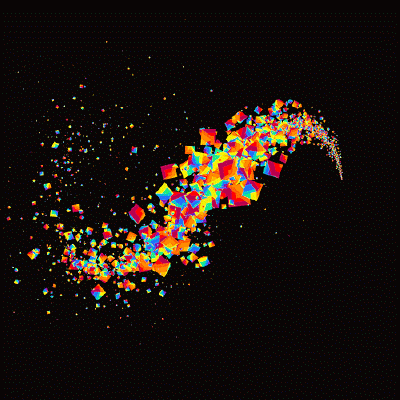Моймир Грыгар
Самовитое слово Хлебникова с точки зрения семиотики
Пояснительная записка В. Молотилова 

Исходным рубежом сравнения теоретических взглядов Хлебникова на язык, литературу, изобразительное искусство и театр с семиотическим подходом к языку и художественной культуре является, во-первых, разработанная в начале XIX века Фердинандом де Соссюром общая концепция языка, во-вторых — новаторское искусство того времени, так называемый классический авангард.
Общим для де Соссюра и отцов авангарда было стремление познать природу и функционирование средств выражения и коммуникации, выявить внутреннюю связь элементов вербального и невербальных языков. Общепринятую догму отношения знака к действительности, которая претила уже символистам, новаторы-лингвисты, авангардные поэты и художники отвергли вообще. Понимание языка как номенклатуры (слово есть этикетка вещи), как естественного соединения звуков и значений новая, основанная на условной системе абстрактных правил концепция речи отвергала. Когда де Соссюр после удивительно раннего успеха в области сравнительного языкознания углубился в изучение языка как знаковой системы, он пришёл к выводу, что ни одно из базовых понятий языкознания не может устоять перед строго научной критикой.1 Ни генетический подход к разделам грамматики, ни накопление материала путём эмпирического описания и обобщения воспринимаемых аспектов языка, ни комбинация методов (физиологического с биологическим или психологического с социологическим, например) не позволяли дойти до сути явления, возникающего на стыке двух гетерогенных рядов — физического и психического.
Ни генетический подход к разделам грамматики, ни накопление материала путём эмпирического описания и обобщения воспринимаемых аспектов языка, ни комбинация методов (физиологического с биологическим или психологического с социологическим, например) не позволяли дойти до сути явления, возникающего на стыке двух гетерогенных рядов — физического и психического.
Дуализм языка состоит не в дуализме звука и понятия — факта “физического” и факта “ментального”, — но в оппозиции вокального явления как такового и знака.2 Де Соссюр открыл семиотический характер языка; поиски субстанционального определения звуков и значений он заменил структурным подходом, который соподчинял звуковые и семантические единицы согласно их месту в динамической, исторически переменчивой системе.
Де Соссюр открыл семиотический характер языка; поиски субстанционального определения звуков и значений он заменил структурным подходом, который соподчинял звуковые и семантические единицы согласно их месту в динамической, исторически переменчивой системе.
На переломе веков эмпиризм естественных наук упёрся в тупик, ибо решение вопросов микро- и макрокосмоса ушло за горизонт осмысления. К теории относительности, квантовой механике и учению о корпускулярно-волновой природе света выработанное классической физикой понятие материи применить было нельзя. В изучении материального мира нарастало стремление вскрыть структуру объектов, понять сеть взаимосвязей и систему внутренних соотношений составных элементов. У физиков и вообще в естествознании крепло убеждение, что наука может постичь не суть вещи в себе, как думают наивные догматики, а лишь отношения между вещами; вне этих отношений нет познаваемой действительности.3 В гуманитарных дисциплинах такой подход к явлениям общественного характера стал преодолением их генетического толкования и поисками скрытых сил, которые управляют событиями.
В гуманитарных дисциплинах такой подход к явлениям общественного характера стал преодолением их генетического толкования и поисками скрытых сил, которые управляют событиями.
Отцы авангарда решали задачи того же порядка сложности: освобождение визуального и акустического рядов от внешних изобразительных, миметических и идеологических функций. Они пытались проникнуть во внутренний мир знаков, выяснить границы и суть элементов структуры выражения и содержания. Самым радикальным и, может быть, даже опасным вызовом стало создание знака, который сам бы себя оправдывал. Разумеется, здесь нет никакого сходства с “ларпурлартизмом” (l’art pour l’art) XIX века, который был скорее жестом самозащиты творцов, нежели позывом к новаторству.4 Хлебниковское понятие самовитого слова соответствует концепции знака с установкой на выражение (термин русских формалистов).5
Хлебниковское понятие самовитого слова соответствует концепции знака с установкой на выражение (термин русских формалистов).5
Переход от частичного миметизма импрессионистической, пуантилистической, фовистской и сезанновской живописи к отрицающему каноны пространственного и перспективного построения кубизму был подобен взрыву (скачок от кубизма к абстрактной живописи, к самовитым картинам Кандинского, Купки, Мондриана и Малевича требовал ещё большей смелости и упорства, думается). Резкую перемену структуры картины можно сравнить с открытием четвёртого измерения, квантовой теорией и новым пониманием времени и пространства в физике. Но ещё больше полное отрицание миметизма в искусстве, торжество самовитого знака напоминает проекты гипотетических, “утопических” систем неевклидовой геометрии, которые нельзя проверить экспериментально.
В отличие от вождей других течений авангарда, парижские кубисты не выдвинули ни одной программной декларации, ни одного манифеста. Они не считали нужным излагать принципы своего мировоззрения, при этом живо интересуясь новейшими открытиями в естествознании. Популяризация науки во Франции на переломе веков — заслуга прежде всего Анри Пуанкаре. По свидетельству Альбера Глеза и Жана Метценже,6 в мастерских молодых художников стали появляться книги этого выдающегося физика и математика с изложением проблематики точных наук, включая принцип относительности и четвёртое измерение. Говоря об преодолении нестыковок в геометрии Евклида, Пуанкаре общедоступным языком излагал непогрешимо логичные гипотезы Николая Лобачевского, Бернхарда Римана и Яноша Бойяи. Дерзновенный порыв этих революционеров мысли за горизонт данной в ощущениях действительности не оставил равнодушными наследников Курбэ и Сезанна. Едва ли стоит говорить о теоретической базе, но даже простая осведомлённость о невозможном с точки зрения “естественной” логики “воображаемом”, “гиперболическом” мире наверняка придавала уверенности художникам, сдавшим в утиль традиционные иконические, миметические приёмы изображения видимого мира.
в мастерских молодых художников стали появляться книги этого выдающегося физика и математика с изложением проблематики точных наук, включая принцип относительности и четвёртое измерение. Говоря об преодолении нестыковок в геометрии Евклида, Пуанкаре общедоступным языком излагал непогрешимо логичные гипотезы Николая Лобачевского, Бернхарда Римана и Яноша Бойяи. Дерзновенный порыв этих революционеров мысли за горизонт данной в ощущениях действительности не оставил равнодушными наследников Курбэ и Сезанна. Едва ли стоит говорить о теоретической базе, но даже простая осведомлённость о невозможном с точки зрения “естественной” логики “воображаемом”, “гиперболическом” мире наверняка придавала уверенности художникам, сдавшим в утиль традиционные иконические, миметические приёмы изображения видимого мира.
В России Пуанкаре-популяризатор был хорошо известен. Изданные в Санкт-Петербурге и Москве «Наука и гипотеза», «Ценность науки», «Наука и метод» пользовались вниманием не только учёных мужей, но и образованной публики. Бывшего студента-математика Хлебникова, страстно ищущего новые пути слова “над пустотой”, межевые вопросы наук и ума занимали чрезвычайно. В письме М.В. Матюшину (декабрь 1914 г.) он размышляет о проблеме четвёртого измерения, ссылаясь при этом на Пуанкаре: точку зрения последнего поэт предпочитает мнению физиолога Бехтерева.7
Поиски “абстрактного” знака в языке кажутся безнадёжной затеей, потому что самые простые элементы его, артикулированные звуки, не являются чисто природным явлением. Они — в отличие от красок, линий, дерева, глины, мрамора или тела человека — не существуют вне знаковой системы, используемой для выражения и сообщения семантических единиц. Вокальная единица участвует в постройке языкового знака только в оппозиции непосредственно, органами чувств воспринимаемого факта и факта семиотического, зависящего от всего комплекса ментальных компонентов. Хлебников стремился найти основные единицы языка, которые бы не изнывали в плену ежедневной рутины утилитарного обихода. Кроме того, он имел определённое недоверие к акустической оболочке речи, мечтая о языке без звуков, обращённому не к усталому слуху, а к зрению. Его не привлекала эвфония сама по себе, он высмеивал “музыку слов” Верлена и символистов; всё — от кручёныховской концепции зауми как чисто акустического явления (вроде натурального “блеяния”, “мычания”) до изысканного bel canto — поэт семантизировал, связывая сочетания звуков с единицами мысли.8
Размышления Хлебникова о языке являются особо важным направлением его изобретательской деятельности в области поэтического слова. Даже концепт заумного языка, возникший как своего рода проект гипотетического словотворчества и герметического языка поэзии, развился у него в онтологический базис речи и стал неотъемлемой частью громадной социальной утопии.9 Несмотря на то что поэт охотно заимствовал термины точных наук, свои воззрения он излагал с помощью метафорических и риторических приёмов. При этом Хлебников умел особым образом уладить разнонаправленные ходы мысли: аналитическое расчленение объектов разного порядка оборачивается у него их внезапным синтезом и неожиданной трансформацией. Не потому ли всё это заботливо согласовано, что в упорном поиске базовых единиц языка поэт не терял из виду главную функцию его в жизни людей и народов — быть средством общения?
Несмотря на то что поэт охотно заимствовал термины точных наук, свои воззрения он излагал с помощью метафорических и риторических приёмов. При этом Хлебников умел особым образом уладить разнонаправленные ходы мысли: аналитическое расчленение объектов разного порядка оборачивается у него их внезапным синтезом и неожиданной трансформацией. Не потому ли всё это заботливо согласовано, что в упорном поиске базовых единиц языка поэт не терял из виду главную функцию его в жизни людей и народов — быть средством общения?
Поэты и художники, создавшие автономный, лишённый коммуникативной функции знак, стремились оправдать его raison d’être соображениями высшего порядка. Несмотря на существенные идейные разногласия между “изобретателями” самовитого знака — например, между Кандинским и Малевичем, Купкой и Татлиным, Хлебниковым и другими “беспредметниками”, — все они нашли глубинные онтологические аргументы и создали грандиозные утопические проекты.
Женевский профессор де Соссюр — выходец из богатой аристократической семьи. Русский поэт Хлебников начинал как студент из провинции. Он приехал в Санкт-Петербург, чтобы в университетской среде, салонах символистов и кружках молодых новаторов найти своё место в науке и поэзии. Интроверт де Соссюр весь талант и энергию отдавал исключительно науке, с возрастом всё более отгораживаясь от внешнего мира. Однако в творческом подъёме этих личностей наблюдается некоторое сходство. Оба стремились перешагнуть границы норм и привычек, касающихся языка и его функций, оба признавали ключевое место языковой коммуникации в духовной и материальной жизни людей, оба искали центральное звено в цепи элементов, составляющих необъятную область языка. И де Соссюр, и Хлебников понимали, что реалии современности требуют нового подхода к выяснению взаимоотношения тех элементов психики и сознания, которые являются движущей силой способности человека познавать внешний мир, выражать чувства и мысли, общаться с окружающими.

Будучи студентом Казанского университета, Хлебников познакомился с “гиперболической” геометрией Николая Лобачевского, одного из самых знаменитых профессоров этого учебного заведения, и через всю жизнь пронёс уважение к его уму и отваге. Математика начала XIX века не знает другого примера не только способности создать, но и смелости обнародовать теорию неевклидовой геометрии, которая не соответствует реальному миру и противоречит “естественным” принципам логики. А ведь ещё мыслители античности Прокл и Посидоний заявили, что постулат о параллельных прямых никем не доказан и противоречит другим аксиомам Евклида. Лучшие умы Европы досадовали: классическая геометрия чревата логическим
скандалом (д’Аламбер), имеет
пятно (Гаусс). Гаусс и Фаркаш Бойяи публично заявили, что нестыковку постулата и аксиом Евклида можно преодолеть только созданием новой геометрии, но этим и ограничились. По его собственному признанию, Гаусс многие годы работал над выведением злополучного
пятна, однако так и не решился опубликовать результат.
10
Чтобы попасть внутрь таинственной комнаты неевклидовой геометрии, необходимо иметь отвагу перешагнуть опасную границу “здравого смысла”, идти “за ум”. Оказывается, в русском захолустье, в “диком татарском краю” совершить этот подвиг легче, нежели в благоустроенной Европе.
В Лобачевском особым образом соединились противоречивые психические и духовные способности. Как математик, он был приверженцем логики “чистого” мышления и рационалистом, но высоко ставил одухотворённость человека.11 Абстрактное мышление Лобачевский умел уравновесить точным эмпирическим наблюдением, а приложение данных эксперимента к практической деятельности не исключало у него романтической взволнованности.
Абстрактное мышление Лобачевский умел уравновесить точным эмпирическим наблюдением, а приложение данных эксперимента к практической деятельности не исключало у него романтической взволнованности.
У Хлебникова видим то же сочетание точного знания и вымысла. В рациональном он открывает чувственное (поэзию науки), в работе воображения — строго научное (логику поэзии). Ещё молодым студентом Казанского университета Хлебников понял, что теория Лобачевского, соединяющая математику с особым типом фантастики, — призыв к новаторству и в других отраслях науки.
Итак, на переломе XIX–XX вв. новые течения в живописи, музыке, литературе и театре роднило стремление к “абстрактному” знаку. Несмотря на то что этим знаком управляют математические величины и геометрические понятия, он, как тогда полагали, должен не только подпитывать интеллект, но и будоражить чувственное восприятие. Символисты повернулись спиной к реальному миру, а поэзию считали вершиной духовного подъёма человека. Вершиной символизма оказались пограничные столбы: творческая фантазия замыкалась в кругу философии, эзотерики и мифологии. При этом Блок, жилец вершин этого литературного направления, досадовал на утончённый до невнятности язык своих коллег по цеху.12
Хлебников презирал расплывчатость мысли, словесный туман и дутую образность, абстрактность же точных наук всегда его восхищала. Числа, математические формулы и геометрические построения он сделал легитимной частью поэтического выражения, видя в них и строительные камни космоса, и базовые элементы эстетики. Следуя античному пониманию природы как гармонии, точной пропорции и меры, он, подобно Пифагору, был уверен в том, что числа таят глубочайший смысл, что это не безличные единицы абстрактного ряда, но действующие лица грандиозного созерцога:
Я всматриваюсь в вас, о числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете — единство между змееобразным движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы ‹...›
13
Математические, философские и эстетические идеи античности вновь подняли на щит мыслители, поэты и художники Ренессанса. Они же избавили численные величины от мистической нагрузки. Галилео Галилей в письме Фортунио Личетти писал:
Я же верю, что книгу философии составляет то, что постоянно открыто нашим глазам, но так как она написана буквами, отличными от нашего алфавита, её не могут прочесть все: буквами этой книги служат треугольники, четырёхугольники, круги, шары, конусы, пирамиды и другие математические фигуры.
14
Отныне уже не только физики, но и художники бесконечное богатство разрозненных, сингулярных явлений могли подчинить античному восприятию окружающей действительности как единого целого.
Когда в Москве были впервые выставлены картины Сезанна и парижских кубистов, творческая молодёжь приняла их восторженно. Если критик журнала «Аполлон» Яков Тугендхольд, посетивший Пикассо в его мастерской, был неприятно поражён беспощадностью художника, с которой тот уродовал плоть женщины,15 то русские авангардисты безоговорочно признали правоту испанца: упрощение форм и разрыв с “естественным” подражанием видимой природе они отнюдь не считали следствием ущербности художника. Более того, Хлебников (мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью) и Давид Бурлюк (поэзию надо распикассить) были убеждены, что странная ломка миров живописных касается и литературы.16
то русские авангардисты безоговорочно признали правоту испанца: упрощение форм и разрыв с “естественным” подражанием видимой природе они отнюдь не считали следствием ущербности художника. Более того, Хлебников (мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью) и Давид Бурлюк (поэзию надо распикассить) были убеждены, что странная ломка миров живописных касается и литературы.16
Кубисты, стремясь освободить живопись от диктата предметного мира и от претензий художника на субъективную оценку видимого, должны были выработать новые правила, соответствующие автономному визуальному знаку. Особое значение приобрёл вопрос пространства и времени. Добиваться иллюзии объёма казалось бессмысленным, ибо симультанное сопоставление разных сторон предмета на плоскости холста создавало потрясающий эффект разложения и сжатия времени. С отказом от изображения трёхмерного пространства и перспективы кубисты вдруг постигли предметы внешнего мира не как состояние, но in statu nascendi — как процесс. Примером тому созданная отчасти под влиянием футуризма «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» Марселя Дюшана и все натюрморты аналитического периода, где предметы домашнего обихода обозреваются как бы изнутри и с разных сторон.
Парижские кубисты не случайно покупали книги Анри Пуанкаре: он излагал сложные вопросы современной науки доступным языком. О том, что благодаря его мастерству изложения проблемы точных наук действительно стали волновать людей искусства, свидетельствует Поль Валери. В одной из его статей находим одинокого чудака-интроверта Анри Пуанкаре и шумного, скандального жизнелюбца Поля Верлена: пути учёного и поэта регулярно пересекались.17 Более того, вопросы времени, относительности, четвёртого измерения, неевклидовой геометрии вдруг оказались темой салонных бесед и породили сюжеты множества романов и пьес научной фантастики. Для Хлебникова же загадки физики, астрономии, космологии, математики, геометрии, физиологии стали неотъемлемой частью его мировоззрения и неиссякаемым источником вдохновения.
Более того, вопросы времени, относительности, четвёртого измерения, неевклидовой геометрии вдруг оказались темой салонных бесед и породили сюжеты множества романов и пьес научной фантастики. Для Хлебникова же загадки физики, астрономии, космологии, математики, геометрии, физиологии стали неотъемлемой частью его мировоззрения и неиссякаемым источником вдохновения.

Маяковский в некрологе Хлебникову защищал своего друга от обвинений в формализме и, чтобы показать разницу между механической игрой с языком и настоящим новаторством, цитировал стихотворение Бальмонта «Вечер. Взморье. Вздохи ветра...» построенное по принципу равномерного чередования аллитераций: согласный, руководящий стихом, меняется в каждом новом стихе без какой-либо тематической или семантической причины.
18
Хлебников не интересовался звуками как автономными акустическими явлениями, из которых поэт может создавать необыкновенные, выразительные или эвфонические сцепления. Наоборот, он был убеждён, что в языке между звуком и значением существует глубокая связь. В аллитерациях он видел не случайные фонетические эффекты, а выражение семантических сходств: звуковую ассимиляцию считал следствием семантической связи. Хлебников с неуклонной последовательностью стремился открыть внутренние законы строения слов, систематически определить основные значения отдельных согласных, предполагая, что их семантическая сила проявляется в определённой позиции, именно в начале слова: начальная буква управляет его значением.
19
По-видимому под влиянием семитских языков он создал теорию
внутреннего склонения, где значения близких слов меняются вследствие замены одного согласного внутри слова другим.
20
В теоретических статьях и набросках он размышляет об одном из парадоксов речи, решение которого лежит в семиотической природе языкового факта: с одной стороны, минимальная перемена “звуковой оболочки” слова может вести к полному изменению лексического значения (
бык: бок, голос: колос, луг: лук), но, с другой стороны, значение как будто независимо от звука (омонимия и употребление разных фонем и графем для обозначения тождественного или очень близкого понятия и вещи в разных языках).
21
Попытки понять подлинный смысл звуков речи предпринимались издавна. Уже Платон в диалоге «Кратил» стремился выяснить, существует ли в языке закон внутренней мотивировки слова, несут ли звуки речи определённые значения, существует ли между словом и обозначаемым объектом естественная связь. Спор Кратила, сторонника естественного начала языка (φύσις) с Гермогеном, который его функционирование объяснял законом и привычкой (νόμος), Сократ не разрешил в пользу одной из сторон. Сначала он показал опасность этимологической страсти, которая способна доказать что угодно, легкомысленно связывая любые звуки с любыми желательными значениями. А следом допустил возможность реальной связи звуков, значений и вещей.
Такой вердикт не должен удивлять: в греческой философии главенствовало понятие естественности. Однако для нас важно, что сократовское объяснение семантической ценности звуков напоминает хлебниковскую азбуку ума. Например, согласный ρ (ро) есть “инструмент движения”, перемены места; согласный λ (ламбда) служит выражению скользкости, гладкого движения по поверхности; φ (фи), θ (тета), σ (сигма) и ζ (зета) обозначают веяние, лёгкое течение воздуха; гласный ι (йота), выражает значение чего-нибудь высокого, острого, пронзительного. Семантическая характеристика звуков в диалоге Платона имеет антропологическую основу: способ произношения вызывает реакцию, которая связывает звук с определённым значением.
Этот семантический эффект “звуковой метафоры” можно доказать экспериментально, причём он возникает лишь в том случае, когда звуки произносятся и воспринимаются вне контекста или входят в слова определённого значения. Звуки л и р, например, могут сами по себе на основе ассоциации вызвать противоположные чувства: липкости, лёгкости, с одной стороны, и твёрдости, движения, напряжения — с другой. Но эта естественная, артикуляционная оппозиция не ощущается на уровне всех слов, ср. рыба — лев и любовь — рухнуть.

Де Соссюр — условно говоря, последовательный сторонник взглядов Гермогена — видел суть языка в абстрактной системе правил, которая является результатом конвенции, независимой от воли говорящего. В языке, по его мнению, нельзя найти краеугольный камень, здесь нет элемента последней инстанции. Физическая, материальная сторона звуков не является субстанцией языка. Связь звуков с понятиями и отношение слов к обозначаемым предметам не подчиняется никакому априорному логическому или естественному закону. Звуки, с одной стороны, не суть простые физические данные; с другой — не имеют никакой семантической ценности. Возможность построить из фонем части слов (морфемы) и словá (лексемы) определяется тем, что отдельные звуки не несут наперёд заданного значения. Смысл не является неотъемлемой частью звуков и звуковых соединений, слово нельзя сравнивать с этикеткой, намертво приклеенной к обозначаемой вещи. Значение слова возникает не как связь звука и вещи, но как условное соединение акустического образа (image acoustique) и понятия.
22
Любой элемент языка существует лишь благодаря связи с другими элементами, он определён местом в системе. Не только акустические образы подчиняются особой фонологической системе, но и каждое отдельное понятие определяется отношением к другим единицам мысли. Связь слова и значения определяется историческим процессом; одно и то же слово может обозначать разные вещи в зависимости от изменений языка и внешних условий, прежде всего общественного сознания и подсознания.
В теории Хлебникова — условного приверженца Кратила — отразилось (сознательно или нет — отдельный вопрос) едва ли не всё многообразие воззрений тысячелетней науки о языке, от вполне правдоподобных до голой фантастики. Тщательный анализ вскрыл бы неожиданное сходство, например, с учением средневековых каббалистов, с furore etymologico XVII и XVIII веков, с утопическими попытками построения совершенного языка, основанного на математических комбинациях и пермутациях небольшого количества элементов. Идея Хлебникова найти основные единицы азбучных истин для таблицы немого языка понятий по образцу закона Менделеева,23 а для передачи этих единиц разума создать систему математических знаков и формул,24
а для передачи этих единиц разума создать систему математических знаков и формул,24 близка исканиям философов средневековья и Ренессанса (Ars combinatoria Раймунда Луллия, теория знаков Джордано Бруно, Lingua Generalis Готфрида Вильгельма Лейбница). Убеждение языковедов Просвещения в априорном существовании системы абстрактных истин, выражаемых посредством языка, сквозит в тезисе Хлебникова о главенстве языка понятий над языком слов.25
близка исканиям философов средневековья и Ренессанса (Ars combinatoria Раймунда Луллия, теория знаков Джордано Бруно, Lingua Generalis Готфрида Вильгельма Лейбница). Убеждение языковедов Просвещения в априорном существовании системы абстрактных истин, выражаемых посредством языка, сквозит в тезисе Хлебникова о главенстве языка понятий над языком слов.25 В хлебниковском стремлении выявить наимал языка, войн, государств, судьбы народов и отдельного человека узнаём типичный для науки XIX века принцип последней причины сложных процессов. Ему верой и правдой служили крупнейшие умы — Дарвин, Маркс и Фрейд. Такого рода наимал дожил до наших дней в политической экономии — у адептов Чикагской школы, например. Они уверены, что двигатель экономического поведения людей есть стремление индивидуума к личной выгоде, и только.
В хлебниковском стремлении выявить наимал языка, войн, государств, судьбы народов и отдельного человека узнаём типичный для науки XIX века принцип последней причины сложных процессов. Ему верой и правдой служили крупнейшие умы — Дарвин, Маркс и Фрейд. Такого рода наимал дожил до наших дней в политической экономии — у адептов Чикагской школы, например. Они уверены, что двигатель экономического поведения людей есть стремление индивидуума к личной выгоде, и только.
Выявив сходство с предшественниками, оценим небывалое: хлебниковское соотнесение языка с миром живого. Слово растет как растение | семена слова | звуко-листья | корни-мысли | позвоночный столб слова | дерево буквенной жизни.26 В подражающем стилю старославянских былин «Кургане Святогора» налицо метафорика геологических процессов, создавших русскую землю, народ и язык. Как никто и никогда прежде, Хлебников питает поэтическое вдохнение точными науками с их упором на математику и эксперимент. Свидетельство тому — его стремление понять структуру азбуки ума и создать “букварь” для построения “планетарного языка”.27
В подражающем стилю старославянских былин «Кургане Святогора» налицо метафорика геологических процессов, создавших русскую землю, народ и язык. Как никто и никогда прежде, Хлебников питает поэтическое вдохнение точными науками с их упором на математику и эксперимент. Свидетельство тому — его стремление понять структуру азбуки ума и создать “букварь” для построения “планетарного языка”.27
 Азбуку ума
Азбуку ума Хлебникова нельзя низводить до натурфилософии XIX века с её попыткой построения “генеалогического дерева” сложных — не только природных, но и культурных — явлений. Сравнение семантической характеристики звуков русского языка у Хлебникова, Константина Бальмонта и Андрея Белого показывает пропасть между воззрениями
будетлянина и столпов символизма. Ни Бальмонт в эссе «Поэзия как волшебство» (1916), ни Белый в
поэме о звуке «Глоссолалия» (1917) не блещут отточенностью формулировок. Оба излагают сугубо личную, проистекающую в последнем пределе из физиологического и житейского опыта трактовку русских фонем. У Бальмонта на первый план выступает интуитивное восприятие звуков поэтической речи, суть которой таится в глубинах мифического и магического. Истолкование гласных и согласных — не только русского языка, — у него лишено какой-либо точности. Бальмонт приписывает каждому звуку множество иной раз противоположных значений эмоционального, телесного, подсознательного характера.
Хотя Андрей Белый назвал своё эссе импровизацией на несколько звуковых тем, его выводы имеют особую логику и последовательность: поэт убеждён, что значение звуков определяет способ произношения. Главным “героем” артикуляции является орган ротовой полости язык, называемый Белым танцовщицей. Ритм, жесты, мимика, кинетика, динамика, соединение духовного и телесного представляются поэту главными скрепами искусства с жизнью. Его понимание звучащего смысла — отголосок антропософских идей Рудольфа Штейнера. С эстетической точки зрения, семантическая характеристика звуков речи у Белого близка сецессионистскому декоративизму, сенсуальности “стиля модерн” с его плавным и непрерывным движением.
Символисты стремились выразить в звуке тайны “иных миров” из вселенной абстрактных идей. Сравнение со строгой логикой математики даёт право назвать эту отвлечённость квазиабстракцией или фальшивой абстракцией, поскольку она предполагала туманность выражения. Родовая отметина символизма — нарочитая неопределённость. Крах этого литературного направления был предопределён возводимой в культ расплывчатостью мысли, клонированием стёртых словосочетаний. Хотя адептов символизма нельзя упрекнуть в небрежении экспрессией (вспомним настойчивую мелодичность Блока, выразительность ритмов и образов Белого, упор Бальмонта на эвфонию), ощутимое качество текстов, signifiant произведений, было, в конце концов, только подсобным средством передачи скрываемых от профанов истин, signifié художественного знака.
Несмотря на то что при создании своей азбуки ума Хлебников руководствовался в первую очередь поэзией, а уж потом наукой, его метод семантической интерпретации звуков свободен от эмоциональных, смысловых и вещественных критериев. Идея толкования элементарных семантических групп с помощью абстрактных, вневременных элементов геометрии (точка, линия, поверхность, плоские и трёхмерные фигуры) и механики (сила, скорость, вес) вполне соответствовала, как показано выше, магистральному направлению научной мысли и задачам новаторского искусства того времени. Принцип абстрактности проник в самые разные области культуры и научные дисциплины. Позитивисты, свято верившие в конкретные, экспериментально проверяемые данные, не сумели освоить новые, недоступные эмпирическому познанию области приложения науки. Не случайно Эрнст Мах, основоположник эмпириокритицизма, отрицал теорию относительности своего ученика Альберта Эйнштейна. И если сторонники историзма в архитектуре сочли bon mot Альфреда Лооса орнамент равняется преступлению варварской провокацией, их негодование свидетельствовало лишь о страхе перед абстрактными формами функционалистского стиля.28
Живопись кубистов тоже стала, как известно, объектом негодования. Множить примеры, думается, не надо. Вполне достаточно такого, например, факта. Немецкий философ Теодор Липпс, один из основоположников так называемой “эстетики вчувствования” (Einfühlungsästhetik), в своих книгах о визуальной и пространственной эстетике выдвинул теорию, которую можно назвать своего рода азбукой геометрических изобразительных форм. Семантику элементов визуального языка Липпс выводил из психической реакции зрителя. Хотя он не предполагал распространить свои воззрения на современное искусство, его теория более или менее соответствовала формальным принципам сецессионистского стиля. Что касается кубизма, то кафедральный эстетик сделался его непримиримым критиком avant la lettre: в рамках общего размышления о восприятии изобразительных элементов он a priori отвергал угловатые, остроконечные, гранёные формы как эстетически неоправданные, безобразные.29
Об актуальности абстрактного принципа в изобразительном искусстве свидетельствует неожиданный успех диссертации Вильгельма Воррингера «Абстракция и вчувствование» (1907), где автор защищал тезис о главенстве абстрактного, не имитативного принципа в живописи над подражательным иконизмом.30

Когда Николай Лобачевский в 1832 году прислал рукопись своей работы «О началах геометрии» в Российскую Академию наук, последовал резко отрицательный отзыв. В рапорте 7 ноября читаем:
Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы нельзя было его понять.
31
Академик М.В. Остроградский в рецензии, опубликованной в журнале «Сын Отечества» (1835), признаётся, что
не понял ни одной мысли. В этом, по его мнению, виноват сам Лобачевский:
Даже трудно было бы понять и то, каким образом г. Лобачевский из самой лёгкой и самой ясной в математике науки, какова геометрия, мог сделать такое тяжёлое и непроницаемое учение, если бы сам отчасти надоумил нас, сказав, что его Геометрия отлична от употребительной, которой все мы учились, и которой, вероятно, уж разучиться не можем, и есть только воображаемая. Да теперь всё очень понятно. Чего не может представить воображение, особливо живое и вместе уродливое? Почему не вообразить, например, чёрное белым, круглое четыреугольным ‹...›?
Академик подытожил погром “пангеометрии” Лобачевского ироническим bon mot: казанский ординариус должен был назвать свою работу Сатирой на геометрии, Каррикатурой на геометрии.32
Поэзия самовитого слова вместе с вариациями кубизма и беспредметной живописи явилась преодолением утилитарного подхода к искусству, освобождением художественного знака от разного рода общественных функций. Установка на социальную значимость позволяет литературному тексту, картине или театральной постановке влиять на идеологические, познавательные, воспитательные, развлекательные, коммерческие и т.п. практические интересы публики. Внешние связи как будто сохраняют raison d’être искусства, обрубить их — значит добиться его полной автономии.
“Воображаемый” принцип в искусстве можно отождествить с эстетической функцией как таковой. Парадокс эстетики состоит в том, что этот фундамент искусства загромождён множеством этических и утилитарных норм и поэтому часто невидим.33 Аналогия с математикой и геометрией вполне уместна: практические, прикладные области точных наук тоже никак не связаны с их коренной сутью. Когда Евклид путём логических операций создавал свою геометрическую систему, её практическое применение было ему совершенно безразлично. Любые отрасли “чистой” математики можно сравнить с самовитой игрой логических категорий, не имеющих ничего общего с реалиями жизни. Бурный подъём естествознания в XVIII–XIX вв. объясняется не только воцарением эксперимента, но и массированной атакой математических приёмов, имеющих свойственную только им, самовитую логику.
Аналогия с математикой и геометрией вполне уместна: практические, прикладные области точных наук тоже никак не связаны с их коренной сутью. Когда Евклид путём логических операций создавал свою геометрическую систему, её практическое применение было ему совершенно безразлично. Любые отрасли “чистой” математики можно сравнить с самовитой игрой логических категорий, не имеющих ничего общего с реалиями жизни. Бурный подъём естествознания в XVIII–XIX вв. объясняется не только воцарением эксперимента, но и массированной атакой математических приёмов, имеющих свойственную только им, самовитую логику.
Разгромный отзыв официальной науки о “гиперболической” геометрии Лобачевского вполне соответствует вызванному самовитой поэзией Хлебникова и его друзей припадку негодования литературной критики. В статьях самого разного идеологического и литературного направления, отрицающих заумное творчество футуристов, использованы те же аргументы, которыми правоверный академик стирал в порошок провинциального смельчака: новая вещь, во-первых, непонятна, во-вторых — является шуткой, карикатурой, издевательством над настоящим творчеством. Ничего удивительного: Хлебников постоянно заявлял, что считает Лобачевского своим предшественником.34 Поэт видел некоторое сходство и в общественном плане: учёные уровня Гаусса и Лобачевского — открыватели новых путей знания, изобретатели новых истин — никогда не пользовались поддержкой приобретателей — дельцов от политики и эконимики, названных Достоевским практическими людьми.35
Поэт видел некоторое сходство и в общественном плане: учёные уровня Гаусса и Лобачевского — открыватели новых путей знания, изобретатели новых истин — никогда не пользовались поддержкой приобретателей — дельцов от политики и эконимики, названных Достоевским практическими людьми.35
Теория самовитого языка — закономерное следствие трудностей, с которыми столнулось европейское искусство начала века: установка на подражание действительности (миметический, реалистический принцип), и на субъективное выражение существующего или фиктивного мира (импрессионизм, символизм) утратила свою вдохновляющую силу. Теоретики русской формальной школы говорили о “смене флага”: в новой поэзии и передовом изобразительном искусстве отныне доминирует установка на знак сам. Между тем как Роман Якобсон, близкий друг Хлебникова и Маяковского, в этом смещении акцентов видел торжество эстетической функции, Хлебников весьма редко связывал теорию самовитого слова с понятием красоты.36
Установка на знак сам передовиков русской художественной культуры достигла степеней чрезвычайных. Хлебников и Кручёных имели отвагу коснуться принципов самого построения языкового знака. Их демонтаж и перестройка языковых средств не имели — по крайней мере в эпоху классического авангарда — примеров за рубежом. Итальянские футуристы вкупе с немецкими дадаистами расшатывали синтаксис и звуковую основу слова, но их интерес сосредоточился на интенсивности, динамике и тембре слогов и звуков; семантическая ценность гласных и согласных для Маринетти или Швиттерса была несущественна. Русские критики по праву считали поэзию итальянских футуристов продолжением импрессионистического стиля, акцентировавшего экспрессивность и эмоциональность материала, красок, звуков, жестов.
Несмотря на то что в каждой стране и в каждом виде искусства установка на самовитый знак манифестировалась по-разному в зависимости от языка, художественных традиций и культурных условий, можно считать неологизмы Моргенштерна, полиглотизм Паунда, работу Джойса с многозначностью морфем и лексем, поэтическое расшатывание синтаксиса в прозе Гертруды Стайн, абстрактные картины Купки, Кандинского, неопластицизм Мондриана и супрематизм Малевича, звуковую экспрессию и ритмический архаизм первых композиций Стравинского, “музыку шумов” Руссоло, додекафоническую систему Шёнберга и многие другие новаторские открытия проявлением общей тенденции: переосмысления принципов языка не только искусства, но и науки. Для обоснования свой мечты освободиться от случайности вещей, от застывших канонов поэзии, живописи, музыки, от идеологических и прагматических функций искусства авангардисты прибегали к самым разным доводам, но единство тенденции налицо. Для Малевича понятие “беспредметности” приобрело почти магическую силу, Моргенштерн видел в своих странных «Песнях висельника» («Galgenlieder») кусок мировоззрения ‹...›, бесщепетильную свободу исключённого, дематериализированного, которая в них показывается,37 Хлебников проповедовал “свободу от вещей” и суть всего и вся — от космического пространства до красного кровяного шарика — видел в числах.38
Хлебников проповедовал “свободу от вещей” и суть всего и вся — от космического пространства до красного кровяного шарика — видел в числах.38 Движение от случайности “вещей” к общим законам структуры материального и духовного мира проявлялось в разных видах искусства по-разному. Инициатива принадлежала поэзии: уже в восьмидесятых годах XIX в. Малларме столкнулся с проблемой абстракции в поэзии;39
Движение от случайности “вещей” к общим законам структуры материального и духовного мира проявлялось в разных видах искусства по-разному. Инициатива принадлежала поэзии: уже в восьмидесятых годах XIX в. Малларме столкнулся с проблемой абстракции в поэзии;39 двадцать лет спустя авангардные течения в живописи — главным образом, кубизм — повлияли на развитие теории и практики заумной поэзии.40
двадцать лет спустя авангардные течения в живописи — главным образом, кубизм — повлияли на развитие теории и практики заумной поэзии.40
Некоторые высказывания Хлебникова свидетельствуют о том, что он тонко разбирался в проблематике знака и знаковости. Фрагмент о тряпичных куклах, которые, хотя лишь отдалённо похожи на людей, вызывают у ребёнка глубокие чувства — притча о подоплёке знака-символа: нейтральная вещь, именно потому что она не имеет сходства с обозначаемым предметом, в определённых условиях годится для обозначения чего угодного. Хлебников соотносит играющего комком тряпок ребёнка с языком:
Отсюда понимание языка, как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек.41
Здесь поэт уже не защищает теорию внутренней мотивации слов. Причина этого, думается, в том, что поэта занимали отнюдь не безличные тряпочки, но живые, мотивированные олицетворения понятий, смыслов и вещей. В заумном языке, по его мнению, скрывается сущность речи.42 Не только причудливые неологизмы, мгновенно привлекающие внимание слушателей, но и слова бытового обихода имеют самовитость, актуализируемую поэтической речью. Следовательно, тряпка тряпке рознь: куклы — не клоны. В поэзии функциональная дифференциация слов, нужная для передачи смысла, становится эссенциальной разницей. Если поэт скажет „город горд”, звуковая перекличка не случайна, она служит как бы доказательством высказанного. Хлебников предложил два пути к мировому языку: во-первых, строить его из естественно связанных отдельных звуков, прежде всего гласных, с основными элементами абстрактных значений; во-вторых, пользоваться азбукой ума, с её искусственными начертательными знаками (общеупотребительными цифрами, например).
Не только причудливые неологизмы, мгновенно привлекающие внимание слушателей, но и слова бытового обихода имеют самовитость, актуализируемую поэтической речью. Следовательно, тряпка тряпке рознь: куклы — не клоны. В поэзии функциональная дифференциация слов, нужная для передачи смысла, становится эссенциальной разницей. Если поэт скажет „город горд”, звуковая перекличка не случайна, она служит как бы доказательством высказанного. Хлебников предложил два пути к мировому языку: во-первых, строить его из естественно связанных отдельных звуков, прежде всего гласных, с основными элементами абстрактных значений; во-вторых, пользоваться азбукой ума, с её искусственными начертательными знаками (общеупотребительными цифрами, например).

Мировоззрение, эстетические взгляды и творчество Хлебникова отличаются множеством противоречий. Когда Маринетти сказал, что Хлебникова больше интересует plusquamperfectum чем futurum, он был до некоторой степени прав. Во всяком случае, уловил отличие русского
будетлянина от итальянского футуриста. Маринетти и его друзья восхищались техническим прогрессом, вменяли будущему неуклонное возрастание могущества машин и, соответственно, человека. Хлебникова техника сама по себе не интересовала — русские поэты и художники вообще не были поклонниками машинерии, —
звученник будизн провидел грядущий синтез многотысячелетней работы мысли, своего рода проекцию древних мифов, сказок, старинных верований и грёз. У Хлебникова оживают деревянные истуканы и мраморные богини; будущее для него — не только рывок вперёд, но и своеобразное возвращение в прошлое: к тому, что современник утратил, а предок не сумел осуществить. В рассказе «Ка» Хлебников с ловкостью фокусника перемешивает времена и культуры: над головами древних богов Египта пролетает самолёт Сикорского (между прочим, этот инженер из Киева после войны изобрёл вертолёт, и его машинами до сих пор пользуется армия Соединенных Штатов).
Очарованный многообразием природных и культурных явлений, Хлебников стремился вместить их разом в объём одного произведения. Об этом свидетельствует не только особый, им выдуманный жанр сверхповести, но и множество текстов, построенных из всевозможных языковых и тематических элементов. С другой стороны, этот одинокий врач в доме сумасшедших был озабочен общемировым нарастанием хаоса, беспорядка и произвола, чреватых войной. И противопоставил силам зла свой белый божественный мозг. Оружие победы Хлебников ковал из абстрактных и вневременных величин — из чисел. Первоначальная поэтическая гипотеза переросла в мономанию, игра воображения — в дело жизни. Если в 1916 г. он мог о себе пошутить: Хлебников утонул в болотах вычислений, и его насильственно спасали,43 то подтрунивать над законами времени в их окончательном виде уже вряд ли бы кому позволил.44
то подтрунивать над законами времени в их окончательном виде уже вряд ли бы кому позволил.44
Проект звёздного языка тоже вызывает немало вопросов. Почему Хлебников отстаивал странную идею “экономии сил”, зачем стремился передать порой довольно сложные семантические построения посредством чисел, математических символов и таблиц? Не обернулась ли эта бережливость пустой тратой времени: pаскопками забытой мудрости языка, его корней на скале безмолвной сигнализации? Здесь учение Хлебникова о предбытии буквы, числа и символа отрицает само себя! И как соединить логический формализм звёздного языка с заумью, этим стихийным выражением подсознательных, не артикулируемых звуков? Жиль Делёз, конечно, грубо ошибается, видя в хлебниковских проектах языка будущего поразительные бюрократические стили, доведённые до последней крайности,45 однако внутренние противоречия языковой утопии Хлебникова нельзя отрицать.
однако внутренние противоречия языковой утопии Хлебникова нельзя отрицать.
Впрочем, не это ли стремление соединить предельно разные силы и величины, не этот ли рывок от памяти внутриутробных ощущений к вершинам интеллекта нас порой так привлекает? Попытки примирить физиологию восприятия с абстрактными категориями мысли, фантазия, питаемая категориями точных наук — не этот ли небывалый накал сопряжения далековатых идей создаёт прелесть его творчества?
Вот пример головокружительных выводов из одного только, на первый взгляд маловажного и нерационального математического понятия:
Полюбив выражения вида √–1 ‹...›,
мы обретаем свободу от вещей ‹...›
И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров?46
Не знаю другого поэта, который оправдывает свои утопические проекты существованием математического чудовища, каким, бесспорно, является √–1.
————————
Примечания 1
1 Де Соссюр в письме своему парижскому другу Антуану Мейе (Meillet) в 1894 г. заявил, что лингвиста, которого угнетает
инерция обиходной терминологии и
необходимость реформировать её, ждёт огромная работа. Он не исключил, что будет — кстати, без особого энтузиазма — работать над книгой, в которой бы
показал, какой тип объекта язык представляет и
изложил, почему в лингвистике не существует ни одного термина, которому он мог бы придать какое-либо значение. См. Saussure (2002: 12; Cahiers Ferdinand de Saussure 21, 1964, 95).
 2
2 Saussure (2002: 19–21).
 3
3 H. Умов в предисловии «Науки и гипотезы» Анри Пуанкаре (1904: 3–4).
 4
4 НП: 334.
 5 Сущность поэзии — это жизнь слова в нём самом, вне истории народа и прошлого народа
5 Сущность поэзии — это жизнь слова в нём самом, вне истории народа и прошлого народа (1907–1908). См. Дуганов (1990: 22).
Произведение искусства — искусство слова. ‹...›
Ведь проповедь, не вытекающая из самого искусства, — есть дерево, подкрашенное под железо (1913; СП, V: 247);
Слово остаётся не для житейского обихода, а для слова (1916; Т: 605). Роман Якобсон в книжке о Хлебникове (1921)
самовитое, самоценное слово определил как
канонизированный обнажённый материал. Поэтический язык отличается
высказыванием с установкой на выражение, поэзия управляется, так сказать, имманентными законами; функция коммуникативная, присущая как языку практическому, так и языку эмоциональному, здесь сводится к минимуму (Якобсон 1921: 9–10).
 6
6 Gleizes / Metzinger (1912).
 7
7 НП: 375. Проблематикой четвёртого измерения в контексте русской культуры начала века занимался Weststeijn (1995).
 8
8 В установке на визуальные знаки, которую автор выразил в программной статье «Художники мира!» (Т: 619–623), и о которой свидетельствует его отношение к живописи как источнику поэтического вдохновения, проявляется общая тенденция искусства и культуры в начале прошлого века. Предпосылкой общедоступного
языка зрения является построение таблицы основных значений, единиц разума:
Все мысли земного шара (их так немного), как дома улицы, снабдить особым числом и разговаривать и обмениваться мыслями пользуясь языком зрения ‹...›
Языки останутся для искусства и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал (СП, V: 158). Об отношении Хлебникова к Верлену см. Дуганов (1990: 113–114).
 9
9 См. Oraić (1985); Mickiewicz (1984).
 10
10 Greenberg (1999).
 11
11 На развитие таланта и мировоззрения Лобачевского влияли прежде всего два профессора Казанского университета — немец Бартельс и его друг Броннер, физик и поэт. Броннер как сторонник иллюминатства и французской революции должен был после запрещения организации, соединяющей черты мистицизма с идеями просвещения, эмигрировать из Баварии в Швейцарию. Оба учёных не раз защищали молодого студента, который при несомненной одарённости отличался необузданным поведением. Однажды Лобачевский должен был оправдаться, например, в том, что
в значительной степени явил признаки безбожия. В «Речи о важнейших предметах воспитания» он ссылался на философа Мабли, предшественника социальных утопистов (Лобачевский 1948: 322).
 12
12 Блок (1907); см. Grygar (1980).
 13
13 СП, II: 98. Кроме того Хлебников связывает понятие времени с природой чисел и с миром
прерывных разорванных величин. Не свидетельствует ли эта формулировка о связи хлебниковского понятия времени с квантовой теорией Макса Планка (СП, V: 242)?
 14
14 Из письма Галилея, отправленного адресату Фортунио Личетти в январе 1641 в Болонью (Galilei 1937: 278; 1966: 430; Кузнецов 1963: 278). Галилей в «Диалоге» полемизировал с пифагорейской символикой чисел. По его мнению
измышления о совершенстве чисел (например, что 3 более совершенное чем 2 или 4) надо
предоставить риторам. Но Галилей был уверен, что настоящую тайну чисел пифагорейцы видели не в
глупостях, которые распространяли среди людей невежественных, а в
несоизмеримых и иррациональных количествах (Galilei 1964: 107).
 15
15 Тугендхольд (1914).
 16
16 НП: 460; Иванов (1990); Grygar (1973, 1982); Hansen-Löve (1983).
 17
17 Valery (1930).
 18
18 Маяковский (1922) в некрологе назвал Хлебникова
Колумбом новых поэтических материков. Может быть, друг Хлебникова здесь вдохновился характеристикой, которая появилась в Русском биографическом словаре в статье о Лобачевском:
Научная деятельность Н.И. Лобачевского, доставившая ему бессмертную славу “Коперника” и “Колумба” геометрии, относится главным образом к вопросу о началах геометрии (Лобачевский 1914: 551).
 19
19 СП, V: 235–236. Хлебников, употребляя термины “буква” и “азбука”, не обращает внимания на то, что графемы не соответствуют полностью звуковым единицам речи. Буквы являются знаками второй степени: азбука — упрощённая транскрипция фонем. С той же самой редукцией фонем на графемы встречаемся также в диалогах Платона и у других теоретиков языка прошлых веков. Последовательную дифференциацию звукового и визуального ряда провели языковеды на переломе XIX и XX веков, прежде всего де Соссюр и его последователи в Пражском лингвистическом кружке. Заслугу в точном анализе звуковых единиц речи имели также филологи Казанской школы (Бодуэн де Куртенэ, Щерба), работы которых Хлебников хорошо знал.
 20
20 СП, V: 171.
 21
21 СП, V: 228.
 22
22 Saussure (1915: 97–100).
 23
23 Хлебников с самого начала своей творческой деятельности до последних лет жизни занимался вопросами языка в связи с поэзией, историей народа, судьбы человека. Первые статьи имели форму эссе, диалогического изложения мысли и поэтического размышления («Пусть на могильной плите прочтут...», 1904; «Курган Святогора», 1908–1909; «Учитель и ученик», 1912; «Разговор двух особ», 1913; «Разговор Олега и Казимира», 1913–1914), основное программное направление этого периода манифестируется в двух коллективных декларациях, изданных в 1913 г.: «Слово как таковое», «Буква как таковая». Прежде чем Хлебников издал четыре года спустя теоретические декларации зрелого периода «Художники мира!» и «Наша основа», путём аналитической работы он накопил богатый материал, касающийся прежде всего изложения семантической ценности отдельных гласных. Статьи и наброски «Изберём два слова...», «Ухо словесника...», «Каким образом в со...», 1912; «3 и его околица», 1915; «О простых именах языка», 1916; «Разложение слова», 1915–1916; «Второй язык», «Перечень. Азбука ума», 1916 являются, кажется, отдельными главами и разделами неосуществлённой книги, которую автор был намерен издать под названием «О простых именах языка» (НП: 464).
 24
24 СП, V: 157–158.
 25
25 СП, V: 188.
 26
26 СП, V: 189.
 27
27 Oraić (1986).
 28
28 Loos (1908). В статье «Мы и дома» Хлебников выразил свое отрицательное отношение к
мелким глупостям узоров, которые, вместе с
неразберихой окон и
подробностями водосточных труб мешают архитекторам построить дом и улицу по законам нового будетлянекого домостроительства (Т: 596).
 29
29 Lipps (1920: 261). См. Grygar (1980: 347-348).
 30
30 Worringer (1907).
 31
31 Лобачевский (1948: 333).
 32
32 Лобачевский (1948: 358). См. отрицательный отзыв на “футуристические” стихи Хлебникова в газете «День», 13 марта 1913 г.:
Общественный вкус требует смысла в словах. Бей его по морде бессмыслицей! Общественный вкус требует знаков препинания. Надо его, значит, ударить отсутствием знаков препинания. Очень просто. Шиворот-навыворот — вот и всё (см. Степанов 1975: 28).
 33
33 Mukařovský (1936).
 34 Лобачевский захотел построить другой несуществующий вещественный мир, а Чебышев дал большую стройность не вещественному, но существующему уже миру чисел
34 Лобачевский захотел построить другой несуществующий вещественный мир, а Чебышев дал большую стройность не вещественному, но существующему уже миру чисел (Т: 647).
Я Разин со знамением Лобачевского логов... (СП, I: 202). В поэме «Ладомир» появляется мотив
пространства и
кривых Лобачевского (184).
 35 Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих изобретателей есть кража (язык и нравы приобретателей) — у первого изобретателя Гаусса. Он создал учение о молнии. А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы.
35 Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих изобретателей есть кража (язык и нравы приобретателей) — у первого изобретателя Гаусса. Он создал учение о молнии. А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы. ‹...›
Лобачевский отсылался вами в приходские учителя. Монгольфьер был в желтом доме. А мы? Боевой отряд изобретателей? (СС, III: 153). Ироническую характеристику
практических людей дал Достоевский в романе «Идиот» (III/1).
 36
36 См. примечание 5. В статье «Курган Святогора» (1908–1909) Хлебников отметил внутреннюю связь между
самовитым словом (установкой на средство) и красотой слова:
Всякое средство не волит ли быть и целью? Вот пути красоты слова, отличные от его целей (НП: 322). Таким образом, эстетическая функция слова состоит в самоцели языкового выражения. В статьях и манифестах зрелого периода в центре внимания поэта стоят вопросы семантических возможностей слова и
мудрости языка, но эстетическая ценность слова никогда не исчезает из его поля зрения. Но красоту слова он искал не в изяществе, смысловой приятности, благозвучии, а в богатстве семантического содержания, в своеобразии внутреннего и внешнего (материального) склада. Об этом свидетельствует его стремление обогатить русский язык старинным лексиконом и внедрением периферийных и заимствованных слов.
 37
37 Morgenstem (1905: 8).
 38
38 НП: 321, 325, 375. «Разговор двух особ» (СП, V: 183–186).
Достаточно созерцать первые три числа, точно блестящий шарик, чтобы построить вселенную. Законы мира совпадают с законами счёта (266).
Невинная игра в числа постепенно переросла в страстную
борьбу с роком. В письме сестре Вере от 2-го января 1920 г. сообщил:
Я забыл мир созвучий; их я как хворост принёс в жертву костру чисел (317). См. исследование проблематики чисел в творчестве Хлебникова у Григорьева (1983: 115–130).
 39
39 Малларме, поклонник Гегеля и преследователь абсолюта, никогда бы не согласился с материалистическим девизом Хлебникова:
Стихи должны строиться по законам Дарвина (СП, V: 270). Но, несмотря на разницу исходных пунктов мировоззрения и философской ориентации, французский символист, последовательно развивая идею языка поэзии, не подчиняющегося утилитарным потребностям ежедневной жизни, мечтал о поэзии
нового слова, которое бы выражало
чистое понятие (la notion рurе). За горизонтом этого предела символистического стиха и текста уже простирались новые поэтические “материки”, открывателем которых был Хлебников. Малларме смолоду стремился освободить язык от референциальных, денотативных функций; основной категорией его поэтики и мировоззрения было
чистое и комплексное или интеллектуальное воображение, не ослабленное никакими намеками на внешний, материальный мир (Mallarme 1898: 407). В своём последнем тексте «Un coup de des jamais n’abolira le hasard» он начертал один из возможных выходов из кризиса современного стиха: белый лист бумаги стал основой, соединяющей разбросанные слова и отдельные фрагменты предложений. Таким образом, слова и группы слов, освобождённые от строгих правил синтаксиса, обращаются, с одной стороны, к слуху (как элементы партитуры) и к зрению (как симультанные части начертательной композиции). В поисках “беспредметного слова” и “беспредметной картины” всегда важную вдохновляющую роль играл пример музыки, самого отвлеченного, “формального” искусства.
 40
40 См. Grygar (1973).
 41
41 СП, V: 324.
 42 Можно сказать, что бытовой язык — тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность
42 Можно сказать, что бытовой язык — тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность (СП, V: 239).
 43
43 СП, V: 124.
 44
44 См. письмо к сестре Вере Владимировне от 2 января 1921 г. (СП, V: 315–317).
 45
45 Deleuze / Guattari (1975).
 46
46 НП: 321, 323.
Библиография Бальмонт, Константин
1916Поэзия как волшебство. Москва.Белый, Андрей
1917Глоссалолия. Поэма о звуке. Berlin. 1922 (Новое издание
с предисловием Д. Чижевского. München. 1971). Блок, Александр
1907 ‘Краски и слова’. Проза, Собрание сочинений, т. 5. Москва. 1962.Григорьев, В.П.
1983 Грамматика идиостиля. В. Хлебников. Москва.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
Дуганов, Р.В.
1990 Велимир Хлебников. Природа творчества. Москва.электронная версия указанной работы на www.ka2.ruИванов, Вяч. Вс.
1990‘Хлебников и типология авангарда XX века’. Russian Literature, XXVII–I, 11–19.Кузнецов, Г.Б.
1963 Галилей. Москва.Лобачевский, Н.И.
1914 ‘Лобачевский Николай Иванович’. Русский биографический
словарь, т. 15. Москва.1948Лобачевский. Материалы для биографии
(ред. Л.Б. Модзалевский). Москва–Ленинград.Маяковский, Владимир
1922 ‘В.В. Хлебников’. Полное собрание сочинений в 13 томах (ред.
В.А. Катанян). Москва (1955–1961, т. 12, 23–28).Остроградский, М.В.
1834 Рецензия на трактат Лобачевского «О началах геометрии».
Сын отечества, 14 (см. Лобачевский 1948: 333–358, 449).
Пуанкаре, Анри
1904Наука и гипотеза (предисловие Н. Умова; дозволено цензурой
26 ноября 1903). Москва.Степанов, Н.Л.
1975Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. Москва.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruТугендхольд, Я.А.
1914Французское собрание Щукина. Аполлон, январь-февраль, 1–2.Хлебников, Велимир
1928–1933 Собрание произведений, т. I–V (ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов). Ленинград (СП, I–V).1940Неизданные произведения (ред. Н. Харджиев). Москва (НП). 1986 Творения (ред. М.Я. Поляков, В.П. Григорьев, А.Е. Парнис). Москва (Т).Якобсон, Роман
1921Новейшая русская поэзия. Прага.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
1962 ‘Retrospect’. Selected Writings, I. Phonological Studies, ’s-Gravenhage.Barr, Alfred H., Jr.
1986Cubism & Abstract Art. Cambridge, Mass.–London.Cook, Raymond
1987Velimir Khlebnikov. A Critical Study. Cambridge–New York, etc. Deleuze, Gilles, Guattari, Felix
1975Kafka. Pour une littérature mineure. Paris.Eco, Umberto
1993La ricerca della lingua perfetta nella cultura Europea. Bari.Galilei, Galileo
1937Le Opere di Galileo Galilei. Ristampa della Edizione Nazionale,
XVIII (editore G. Barbera, direttore G. Abetti). Firenze
(см. Б.Г. Кузнецов. Галилей. Москва, 1963).1964Izbrannye trudy I. Moskva.1966Dialogues et lettres choisies. Paris.Gleizes, A., Metzinger, J.
1912Du Cubisme. Paris.Grabska, Elżbieta
1966Apollinaire i teoretycy kubizmu w latach 1908–1918. Warszawa.Greenberg, M.J.
1999Euclidean and Non-Euclidean Geometries. New York.Grygar, Mojmír
1973‘Kubizm i poezija russkogo i češskogo avangarda’. Structure of
Texts and Semiotics of Culture (Eds. J. van der Eng, M. Grygar). The Hague-Paris.1980‘K opredeleniju stilja modern v russkoj i češskoj poezii’.
Russian Literature, VIII–IV, 315–362.1982‘Pavel Filonov i voprosy izučenija avangardnogo iskusstva’.
Russian Literature, XI–II, 209–236.1986‘Paradoks “samovitogo slova” Chlebnikova
(K problematike vnetekstovych svjazej)’. Velimir Chlebnikov (1885–1922):
Myth and Reality. Amsterdam, 331–362.Hansen-Löve, A.A.
1983‘Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Correlation von
Wort- und Bildkunst. Am Beispiel der russischen Modern’.
Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 11, 291–360.Lévi-Strauss, Claude
1973Anthropologie structurale deux. Paris.Lipps, Theodor
1920Die ästhetische Betrachtung und die bildenden Künste.
Ästhetik, Bd. 2. Leipzig.Loos, Adolf
1908‘Ornament und Verbrechen’. Sämtliche Schriften in zwei Bänden, I.
Wien (München, 1962, 276–288).Mallarmé, Stéphane
1898Igitur. Divagations. Un coup de dés. Paris. 1976.Mickiewicz, Denis
1984‘Semantic Functions in zaum’. Russian Literature, XV–IV, 363–464.Morgenstem, Christian
1905Galgenlieder (Red. A. Habrisch). Leipzig. 1967.Mukařovský, Jan
1936Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. Praha.
(Russkij perevod: Ėstetičeskaja funkcija, norma i cennost’ как social’nye fakty.
Predislovie Ju. M. Lotmana. Semeiotike. Trudy po znakovym sistemam, VII. Tartu, 1975, 242–295).Oraić, Dubravka
1986 ‘Zvezdnyj jazyk’. Russian Literature, XVII–I, 45–51.электронная версия указанной работы на www.ka2.ruSaussure, Ferdinand de
1968Corns de linguistique générate. Paris.2002Ecrits de linguistique générate. Paris.Valéry, Paul
1930Passage de Verlaine. Variété, 11. Paris, 174–183.Weststeijn, Willem G.
1983Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in
Russian Symbolism and Futurism. Amsterdam. 1995‘Velimir Chlebnikov i četvertoe izmerenie’. Russian Literature, XXXVIII–IV, 483–492.Worringer, Wilhelm
1907Abstraktion und Einfuhlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie. München.
Воспроизведено с незначительной стилистической правкой по:
Russian Literature LV–I/II/III (Special Issue Velimir Chlebnikov, 2004), 189–213
Благодарим Барбару Лённквист и Валентину Мордерер
за содействие web-изданию 
* * *
 Тайный ученик Якова Тугендхольда
Тайный ученик Якова Тугендхольда
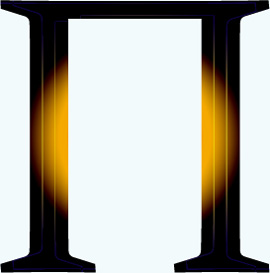
осле того как тебя сожмут со всех сторон, хочется всесторонне расшириться. Слова Леонида Андреева. Который пугает, а Льву Толстому не страшно.
Почитал бы Андреева-сына, храбрец ты наш. Есть мнение, что Уицраора и Жругра ещё можно приструнить валерьянкой, а вот Пропулк — сущая виселица воображения: готовь смену нижнего белья и мешок для мусора. Потому что стирка себе дороже.
Лично мне отпрысковы ужастики нипочём, как раз-таки отец пробирает до костей. Все поджилки ходуном. Так ведь и лопнуть недолго, проносится в голове. Нетушки, не хочу всесторонне расширяться.
А тогда как. Если не всесторонне, выйдет искривление. Искривление → грыжа диска → труба флейте позвоночника.
Пусть и не труба, всё равно уподобишься флюсу. Слова Козьмы Пруткова сами знаете о ком.
Однобоки флюс, фанатик и маньяк. Какой же я маньяк, вовсе нет. Я шире козацких шаровар, это доказано. У Молотилова мирно сосуществуют славословцы и хулители Хлебникова. Даже Анфиса Абрамовна поддакнет: Лада Панова ещё та осанница. Не говоря о Жолковском. А Дружников, Домиль, Колкер, Шувалов? А Сурков?
Но я жесток, это медицинский факт. Пригрею за пазухой, да и пошёл вон. Куча-мала изгнанников. Иной раз по недоразумению, но чаще за дело.
Простой пример: насельник Хлебникова поля X называет себя учеником Y, и я прошу его помочь выйти на Y. Я, сеятель и хранитель. Убедительно прошу. Обогатить открытиями Y мировую общественность. А состоящий со мной в переписке Х играет в молчанку Грибоедова: что будет говорить княгиня Марья Алексевна. Или в молчанку Чехова: как бы чего не вышло.
И спустя непродолжительное время насельнику депеша: вы уволены, живите долго и счастливо.
Но так было давно тому назад, полтора года. Мама была жива, и я свирепствовал, как Нестор Иванович Махно. Теперь не то. Мама своё отлежала, и нынче отказник целёхонек, молчанка сходит с рук: ни гу-гу полутора лет остепенило-таки. Благоухаю кротостию. Или даже смиреннномудрием. В монахи царь идёт, как-то так.
Смиряюсь напропалую, братие: ученик Моймира Грыгара уцелел во всех смыслах. Х не будет жить долго и счастливо, зато и мне приходится орудовать без разрешения Y. Да ещё и с отсебятиной. „Чтоб жёлуди с меня удобней воровать, / поставил под меня и стол он, и кровать. / Потом переиздал, добавив собственного сала. / А дальше слово товарищу Крылову: / и рылом подрывать у дуба корни стала”.
На дворе две тысячи восемнадцатый AD, а Моймир Грыгар с тысяча девятьсот двадцать восьмого. Мой папа в девяносто лазил по деревьям и вёдрами таскал цементный раствор. Его разминку поясницы надо было видеть. Было. Потому что этим летом папа умер. На девяносто втором году жизни.
Отныне я могу быть счастлив только наполовину. Так учит Аристотель. Воспитанник его как-то спросил: что такое счастье? Аристотель ответил: этого я не знаю, но половина счастья — живые родители. Называется бить во все колокола. Или накаркать. Потому что воспитанник вырос и убил Филиппа Македонского.
Я тоже убил своего отца. Настасья Петровна Коробочка и не заметила потери благоверного. Замечают мужья-неразлучники, Афанасий Товстогуб и К°. А я говорю брату: выбирай, кого тебе легче додержать. У меня уже пупок развязался, Васятка.
Отец починяет водопровод, а мама лежит. И Васятка выбрал отца. И сдал в дом престарелых.
Но ведь это я предложил разлучить родителей.
Вот с каким настроением приходится разминать руку спустя ни гу-гу. И тут посылка от Варвары Вильгельмовны: сборник с Моймиром Грыгаром. Как не знать, ссылки на его работы неизбежны. Столп хлебниковедения, зубр.
Читаю зубра. Де Соссюр — мимо, сухомятка натощак. Тугендхольд — что-то слышится родное в грустных песнях ямщика. Кубизм Пикассо? Мимолётное увлечение, поматросил и бросил. Глез и Метценже, ух ты.
Глубинные онтологические аргументы и грандиозной утопический проект? Малевич вернулся к
частичному миметизму и
претензиям на субъективную оценку видимого. Двойник пана Муссяловича из «Братьев Карамазовых». Анри Пуанкаре, Лобачевский. Уже теплее. Фаркаш и Янош — опечатка? Что-что? Мнимое число —
чудовище?!
Называется планка, недоступная подавляющему большинству. Зубр —
жилец вершин, сам того не зная.
Чудовище с ужасным задом, как-то так. Заманчивый заголовок — перед, враки о √–1 —
зад.

Верхний предел, удача наотмашь. Если научная статья не разлакомила хотя бы на один первоисточник — грош ей цена. После Моймира Грыгара я ринулся добывать Якова Тугендхольда — раз, Глеза и Метценже — два, Анри Пуанкаре — три, Лобачевского — четыре, Поля Валери — пять. Свои конспекты по теоретическим основам электротехники я выкинул сорок пять лет назад, вот дурак. Придётся рвануть за учебником.
Математическое чудовище? Ну я ему задам, этому
жильцу вершин!

Знаете ли вы Якова Тугендхольда (1882–1928)? Нет, вы не знаете Якова Тугендхольда. Альфред Бассехес — да, Яков Тугендхольд — нет. Я таки знаком на оба дома, со шляпой Фредди даже и накоротке. Но спустя Моймира Грыгара довелось узнать о приязни тапочек Тугендхольда к моему заднему карману. Который ниже спины, да.
В 1901 окончил гимназию и поступил на историко-филологическое отделение Московского университета и одновременно в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В феврале 1902 арестован на нелегальной сходке студентов и до конца года находился в заключении. После освобождения уехал в Мюнхен, поступил там на юридический факультет университета. Занимался в художественных школах Вайнхольта, Гофмана и Бронхофа, в мастерской Явленского.
В 1905 с семьёй переехал в Париж. Занимался живописью и литографией в Академии Рансона и мастерской Стейнлена. Первая значительная искусствоведческая работа — статья «Последние течения французской живописи» (1908). С этого времени регулярно публикуется в журнале «Аполлон».
Летом 1913 вернулся в Москву. Весной 1914 по поручению С. Щукина предпринял поездку в Германию и Францию с целью отбора произведений новой живописи для щукинского собрания. Начало Первой мировой войны застало его в Париже, откуда он выбрался в Россию с большими трудностями.
Последние течения французской живописи + щукинское собрание = второй этаж ГМИИ им. Пушкина. Тамошние слепки античных изваяний — сомнительная заслуга Ивана Цветаева, отбарабанит каждый мальчишка с переломом руки. А причастность Якова Тугендхольда к приобретению подлинников подтвердит не каждый, хотя и без перелома. Лично я понятия не имел.
Итак, Яков Александрович посетил ателье Пикассо отнюдь не ради праздного любопытства. Деньги С. Щукина жгли ляжку. И что.
И вот, наконец, мы в последней комнате — в сводчатой келье, в музее каменного века, в царстве испанца Пикассо, этого enfant terrible современности.
Но не торопитесь, читатель, с оценкой — вооружимся терпением, последуем пока примеру Щукина, который даже в тех случаях, когда не понимает Пикассо, говорит: „Наверное, прав он, а не я...”
А Пикассо заслуживает такого доверия, ибо он не только первоклассный талант, но и художник, искренно ищущий и упорно работающий. Я не могу забыть впечатления, вынесенного мною из посещения его мастерской. Признаюсь, я увидел там обстановку, довольно неожиданную для живописца: в углу — чёрные идолы Конго и дагомейские маски, на столе — бутылки, куски обоев и газет в качестве nature morte, по стенам — странные модели музыкальных инструментов, вырезанные из картона самим Пикассо. На всём — отпечаток суровости, и нигде ни одного радующего живописного пятна. И, однако, в этом кабинете чёрной магии чувствовалась лаборатория творчества, атмосфера труда — хотя бы и заблуждающегося, но серьёзного, не знающего меры и отдыха в своём пытливом напряжении.
И это было не смешно!
‹...›
В «Фермерше» показана общая её статуарная схема (отношение головы, как объёма — к торсу и грудям), но опущены детали (рот), и есть что-то кошмарное в этой бурой, грудастой
каменной бабе, со стопудовыми ручищами, женщины-монолита. Изображая наготу, Пикассо даёт полную волю своей любви к землистым охрам, к уплотнению миpa, к мощной тяжести: его нагие женщины кажутся сложенными из камней, спаянных чёрным цементом контура. Таковы «Три женщины» кирпично-красного цвета, в которых тяжесть и рельефность монумента. Поистине, некуда дальше идти в смысле
реакции против ренуаровской и дегасовской наготы, против живописной чувственности импрессионистов: здесь самоуверенное торжество резца над кистью, ощупи над глазом! Можно иронизировать над этими тремя кирпичными грациями — но нельзя отрицать в них своеобразного памятника нашему времени, ищущему “органического” и “статуарного” времени развинченных интеллигентов, возлюбивших силу и спорт, но — увы — бессильных...
Ибо, при всей внешней мощи женщин Пикассо, в них есть внутренняя слабина: монументальная красота всё-таки не достигается арифметической спайкой отдельных монументальных глыб! Его каменный бабы всё-таки не всегда цельные монолиты! Конечно, на первый взгляд можно найти много общего между схематической выразительностью женщин Пикассо и какой-нибудь могучей Венерой доисторической эпохи или чудесными деревянными скульптурами из Конго и Мадагаскара, которые так любит Пикассо, и которые стоят в его же комнате в Щукинском собрании. Но на самом деле между абстракцией Пикассо и абстракцией этих первобытных художников — глубокая разница.
Когда я был в мастерской у Пикассо и увидел там чёрных идолов Конго — я вспомнил слова A.Н. Бенуа о „предостерегающей аналогии” между искусством Пикассо и „религиозным искусством африканских дикарей” и спросил художника, интересует ли его мистическая сторона этих скульптур. „Нисколько, — ответил он мне, — меня занимает их геометрическая простота”.
Пикассо с необычайной искренностью (как и во всём, что он делает) сам раскрыл ту разницу, о которой я только что говорил! Ведь за лапидарной упрощённостью, за геометрической схематизацией творцов африканских идолов скрывалось, помимо
неумния, то или иное
желаниe. В неправильности npoпopций, в этих преувеличенно больших грудях или в этой преувеличенно большой голове был опредлённо-иератический смысл, определённое религиозно-метафизическое значение. В преувеличении грудей сравнительно с головой, столь свойственном ваятелям каменной эпохи и неграм Конго, сказалась стилизация пола, эротика первобытной концепции наготы. Наоборот, в ещё более частом у негритянских художников преувеличении головы на счёт тела сказалось желание пластически подчеркнуть
средоточие интеллекта, приоритет духовного начала над животным. Эти негритянские статуэтки с огромными головами —
подлинные идолы, статуи мудрых божеств, выдержанные с торжественной фронтальностью, опирающиеся на тяжелые ступни ног, строго симметричные в своих жестах и линиях; вот почему они кажутся монументальными памятниками, несмотря на свои маленькие размеры...
И если от этих женских идолов Африки мы переведём свой взгляд на женщин Пикассо — нам станет понятной беспочвенность их геометрической выразительности, неорганичность их построения. В них нет метафизического предпочтения одной части тела перед другой — в них равновесие всех объёмов. Но раз в них нет внутреннего цемента, не может быть и внешнего равновесия. Африканские идолы не падают, они похожи на ванек-встанек: кажется — урони их, а они всё-таки встанут на свои тяжёлые ступни, и на свои колоннообразные ноги. Между тем, у «Нагой женщины с пейзажем» Пикассо подкашиваются и “сдвигаются” ноги: ибо в ней нет управляющей телом души — она падает под сдвигом и тяжестью собственных членов...
Итак, интересуясь геометрической схематизацией африканских дикарей, созданной коллективным кумиротворчеством, Пикассо берёт в сущности лишь внешнюю форму, но он не хочет и не может наполнить её новым содержанием. В этом смысле „страшно не то, что чудовища Пикассо похожи на религиозное творчество дикарей” (A. Бенуа) — а то, что они недостаточно на него похожи! Напрасно представители «Союза Молодёжи» заговорили о создании вместо „Аполлона белого” — „Аполлона криво-чернявого”: сам Пикассо не думает о создании какого бы то ни было Аполлона, у него нет никакой нормы, никакого идола, никакого идеала — даже в сфере чистой формы.
Ибо Аполлон есть высшая завершённость, а мир Пикассо пребывает в перманентной незавершённости... Присмотритесь к его «Фабрике» (Horta de Ebro) 1909 года, висящей в Щукинском собрании, присмотритесь к этой комбинации геометрических, каменных плоскостей с зеркальными гранями. Здесь — начало второго и последнего периода в творчестве Пикассо; здесь дальнейший вывод из кубизма и полная полярность тому, что мы наблюдали в испанском цикле Пикассо. Там мы отметили ритм центростремительный; здесь — сила центробежная. Линии стен и крыш этой «Фабрики» не сходятся по направлению к горизонту, как этого требовал Сезанн — а
расходятся вширь, разбегаются в бесконечность. Здесь уже нет мысленной точки общего схода, нет горизонта, нет оптики человеческого глаза, нет начала и конца — здесь холод и безумие абсолютного пространства. И даже отсветы зеркальных стен этой Фабрики играют бесчисленными повторениями, отражаются на небе — делают Фабрику заколдованным лабиринтом зеркал, наваждением бреда...
Ибо действительно можно сойти с ума от этой идеи и соблазна, достойного Ивана Карамазова;
нет конца, нет единства, нет человека как меры вещей — есть только космос, только бесконечное дроблениe объёмов в бесконечном пространстве! Линии вещей расходятся в безмерную даль, формы вещей дробятся на бесчисленные составные элементы.
Отсюда — искание пластического
динамизма в противоположность пластической
статике, занимавшей Пикассо в его каменных бабах; отсюда — искание четвёртого измерения, “измерения бесконечности”, во имя которого Пикассо забывает о третьем измерении, о сезанновской „глубине”. Ибо Сезанн говорил о сведении мира к шару, конусу и цилиндру, а для Пикассо отныне существует только круг, треугольник и параллелограмм, то есть геометрический чертёж. Теперь его пленяет уже не массивное бытие вещей, как в каменных женщинах, — но их динамическое становление. Не предмет как таковой, но закон образования этого предмета из малых величин. Все части предмета равны перед его объективным взором, он обходит их со всех сторон, перечисляет и повторяет до бесконечности их лики, изучает предмет, „как хирург, вскрывающий труп” (Аполлинер), разлагает музыкальные инструменты, как часовой механизм, терзает их, как инквизитор. Одержимый фетишизмом количественной множественности, он уже не замечает, что его картина — лишь механически чертёж, лишь каталог. Ибо он изображает динамику вещей не как
художник, не как Ван Гог, — но
описывает различные перемещения вещей,
одно за другим, как литератор — во времени...
Аполлон. 1914. январь-февраль, 1–2. С. 30–36
 подлинник здесь
подлинник здесь
Заметили сходство? Оказывается, Моймир Грыгар — тайный ученик Якова Тугендхольда. То же умение разлакомить, да. Не разлакомишь — пиши пропало: читатель «Аполлона» — пресыщенный сноб. Галдящие Бенуа все уши прожужжали, тьфу на них. А тут стряхивает капусту с усов — и прыжками на щукинскую выставку.

Всё-таки советую внять обезьянке. Не только Тугендхольд полностью, но и весьма любопытный сосед. Аполлон — покровитель искусств. Кроме исскуства кино: беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Изящная словесность хороводится с благовоспитанными товарками, кинопромышленность мрачно курит в подворотне. Чёлка до переносицы, татуированные знаки, финка в рукаве.
Заметили? Даже и не пахнет выучкой у Тугендхольда. Никаких тайных пружин и кнопок. Чёрное — чёрное, белое — белое, а сосед Якова Александровича — Николай Степанович. Так точно, «Письма о русской поэзии».
Это я Анфисе Абрамовне докладываю. Давеча снабдила переизданнными ПоРП (
от восторга выпала моя челюсть), отдариваю подлинником. Предварительно сличив. Тютя в тютю,
тётенька милая.
‹...› Его творчество распадается на три части: теоретическiя изслѣдованiя в области стиля и иллюстрацiи к нимъ, поэтическое творчество и шуточные стихи. Къ сожалѣнiю, границы между ними проведены крайне небрежно, и часто прекрасное стихотворенiе портится примѣсью неожиданной и неловкой шутки или еще далеко не продуманными словообразованiями.
Очень чувствуя корни словъ, Викторъ Хлѣбниковъ намѣренно пренебрегаетъ флексiями, иногда отбрасывая ихъ совсѣмъ, иногда измѣняя до неузнаваемости. Онъ вѣритъ, что каждая гласная заключаетъ въ себѣ не только дѣйствiе, но и его направленiе: такимъ образомъ, быкъ — тотъ, кто ударяет, бокъ — то, во что ударяютъ; бобръ — то, за чѣм охотятся, бабръ (тигръ) — тотъ, кто охотится и т.д.
‹...› Какъ поэтъ, Викторъ Хлѣбниковъ заклинательно любитъ природу. Онъ никогда не доволенъ тѣм, что есть. Его олень превращается въ плотоядного звѣря, онъ видитъ, какъ на ‘вернисажѣ’ оживаютъ мёртвыя птицы на шляпахъ дамъ, какъ cъ людей спадаютъ одежды и превращаются — шерстяныя въ овецъ, льняныя въ голубые цвѣточки льна.
Онъ любитъ и умѣетъ говорить о давно прошедшихъ временахъ, пользоваться ихъ образами. ‹...›
Нѣсколько наивный шовинизмъ далъ много ценнаго поэзiи Хлѣбникова. Онъ ощущаетъ Россiю, какъ азiатскую страну (хотя и не приглашаетъ ее учиться мудрости у татаръ), утверждаетъ ея самобытность и борется съ европейскими вѣянiями. Многiя его строки кажутся обрывками какого-то большого, никогда не написанного эпоса ‹...›
Слабѣе всего его шутки, которыя производятъ впечатлѣнiе не смеха, а конвульсiй. А шутитъ онъ часто и всегда некстати. Когда любовникъ Юноны называетъ ее ‘тетенька милая’, когда кто-то говоритъ: ‘отъ восторга выпала моя челюсть’, грустно за поэта.
Въ общемъ В. Хлѣбниковъ нашелъ свой путь и, идя по нему, онъ можетъ сдѣлаться поэтомъ значительнымъ. Тѣмъ пѣчальнее видѣть, какую шумиху подняли вокругъ его творчества, какъ заимствуютъ у него не его достиженiя, а его срывы, которыхъ, увы, слишкомъ много. Ему самому еще надо много учиться, хотя бы только у самого себя, и тѣ, кто раздуваетъ его неокрѣпшее дарованiе, рискуютъ, что оно въ концѣ концовъ лопнетъ.
Аполлонъ. 1914, 1–2. С. 124–126
Но я отвлёкся от двоякоумных подначек Моймира Грыгара. От его рыбалки не ради жратвы, а для посидеть с удочкой у водоёма. Двойное удовольствие: поклёвочный азарт — раз, карась бодро уплывает в заданном (тайные пружины и кнопки) направлении — два.
Или не карась, а глупая вобла воображения. Или пескарь. Да, премудрый пескарь в очёчках.
Делается так: В отличие от вождей других течений авангарда, парижские кубисты не выдвинули ни одной программной декларации, ни одного манифеста. И чуть ниже: По свидетельству Альбера Глеза и Жана Метценже ‹...›.
— Паазвольте, но «Du Cubisme» — это и есть манифест кубизма! — ершится премудрый пескарь.
А карась плывёт и плывёт в заданном направлении. Чтобы проверить, так ли уж не прав Моймир Грыгар.
Слово ‘кубизм’ употреблено здесь только для того, чтобы дать читателю ясное представление о содержании очерка, и мы спешим заявить: геометрического тела, от которого происходит это слово, не было и нет на знамени движения, полагающего своей целью интегральное развитие живописи.
Но мы не собираемся играть формулировками; наша цель — заставить вас признать, что проломить череп вселенной подрамником нашему брату по плечу.
Если прослывём пустозвонами — наплевать! По правде говоря, нами движет проверенное удовольствие покалякать вечером трудного дня. К тому же мы твёрдо верим, что не нагородим чепухи, что наш опыт наверняка пригодится идущим за нами.
Альберт Глез, Жан Меценже. О кубизме. Пер. с фр. Е. Низен, ред. Матюшина. СПб. 1913.
Нынче Альберта ужали в Альберы, а Меценже пишут Метценже: отрыжка правописания без ятей. Можно поговорить о благоприятных последствиях для буквы ё, только вот зачем. Какие пустяки в сравнение с главным событием дня: очередной раз убедились в надёжности Моймира Грыгара.
И впрямь не манифест, а очерк. Правильные манифесты размазывают прошлецов и вчерахарей по стенке, ничего подобного у Глеза и Метценже.
Чтобы оценить значение кубизма, следует вернуться к Густаву Курбэ.
После того, как Давид и Энгр великолепно закруглили столетие классицизма, Курбэ ‹...› проложил путь именно к тем к вершинам реализма, от которых берут начало все новейшие течения. Но Курбэ так и остался рабом подлейших условностей зрения. Не понимая, что ради двух точных мазков следует пожертвовать тысячей подробностей, он принимал на веру всё, что сообщала ему сетчатка. ‹...›
Эдуард Манэ занимает более высокую ступень. Однако всё-таки уступает Энгру: «Олимпия» тяжеловата в сравнение с «Одалиской». Но будем благодарны Манэ за то, что он отверг убогие правила композиции и растоптал догмы тематики. В этом отношении мы признаём в нём своего предтечу — мы, для которых красота произведения заключается исключительно в нём самом, а не в благих намерениях. Манэ реалист не потому, что всосался в обыденщину: он сумел выволочь наружу целую прорву скрытых в ней возможностей.
После Манэ видим раскол. Поток реализма разделился на поверхностный и глубинный. Образчик первого — импрессионисты (Монэ, Сислей и др.), второго — Сезанн.
У импрессионистов единственный изъян: толчея мазков создаёт жизнеподобие, но рисунок вял и ничтожен. Одеяние великолепно, а тельце под ним завяло и ссохлось. Здесь даже и Курбэ сам себе господин: у Монэ сетчатка безоговорочно повелевает мозгом. При этом он чувствует непорядок, и для самооправдания выдумывает несовместимость интеллекта и художественного чутья.
‹...› Однако воздержимся от нападок на импрессионизм как ложное направление. Единственная ошибка искусства есть подражание: таковое посягает на закон времени, основу всего и вся. ‹...›
Сезанна хотят представить каким-то малохольным гением: как некий херувим, он несколько занёс к нам песен райских, но лепетал их, дескать, а не пел. ‹...› Сезанн — один из величайших творцов, подлинная веха в истории живописи; смешно сравнивать его с Ван-Гогом или Гогеном. Это новый Рембрандт. ‹...›
Сезанн помогает овладеть всемирным динамизмом. Он показал живую взаимосвязь предметов, которые прежде считались неодушевлёнными. Теперь мы знаем как дважды два: перевирая цвет, губишь форму. Сезанн провозгласил: изучение первичных объёмов открывает бескрайние просторы. Его полотно — сама неподвижность, на первый взгляд — оживает по мере вглядывания: сокращается, вытягивается, тает или вспыхивает ‹...› Кто понимает Сезанна, тот предчувствует кубизм.
Там же
Никакой ругани, взвешенный подход. Но где тут книги Пуанкаре?
А вот где:
Сходство не следует предавать анафеме — по крайней мере, сегодня. Нельзя лишать зрителя радости узнавания.
Кубисты это понимают. И поэтому настойчиво исследуют живописную форму и те особые пространственные отношения, которые она подразумевает.
Пространство живописи по неразумению путают или с пространством чисто зрительным, или с пространством Эвклида.
Эвклид одним из постулатов утверждает неразличаемость покоя и движения: тело равно самому себе в любом случае. Одно только это избавляет нас от дальнейших доказательств своей правоты.
Если уж связывать пространство живописного полотна с какой-либо геометрией, следует обратиться к геометрии неэвклидовой, вникнуть в теоремы Римана.
Что же касается чисто зрительного пространства — доказано, что таковое строится согласованием схождениея зрительных осей обоих глаз и аккомодацией хрусталиков.
Для картины, как плоской поверхности, никакой аккомодации нет и быть не может. Таким образом, схождение прямых, которое навязывает нам перспектива, само по себе не создаёт ощущение глубины. Кроме того, известно, что даже значительные нарушения перспективы отнюдь не ослабляют впечатление объёма. Разве китайские художники его не создают? А ведь они приверженцы идеи расхождения прямых!
Там же
В очерке Глеза и Метженже ни слова о Пуанкаре.
Теоремы Римана, и только. Вникали в таковые? Точно так же и я. При этом смеем чирикать о Хлебникове. Слава, слава Моймиру Грыгару. Кабы не он, оставайся Пуанкаре подробностью переписки Хлебникова с Матюшиным.
Редактор перевода «Du Cubisme», кстати говоря. Однажды Маяковский мне предложил: „Будете по ЛЕФу соредактор? / Вы б смогли — у вас хороший слог”. В каждой шутке есть доля не шутки: одни умеют строить фразу, другие сроду никак. Соредактор так соредактор. Но доводить до ума весь подстрочник Е. Низен повременю. Переходим к доказанному предмету изучения Велимира Хлебникова.

Итак, у Глеза и Метценже ни слова о Пуанкаре. Его туда вчитал Моймир Грыгар, и правильно сделал. Оправданное самоуправство. Однако насилие порождает насилие, Анфиса Абрамовна. А ну быстренько вникла в теорему Римана!
Всякое заключение предполагает наличие посылок; посылки же эти или сами по себе очевидны и не нуждаются в доказательстве, или могут быть установлены, только опираясь на другие предположения. Но так как этот процесс не может продолжаться беспредельно, то всякая дедуктивная наука, и в частности геометрия, должна основываться на некотором числе недоказуемых аксиом. Поэтому все руководства по геометрии прежде всего излагают эти аксиомы. ‹...›
Долгое время тщетно искали доказательства третьей аксиомы, известной под названием
постулата Евклида. Сколько было потрачено сил в этой химерической надежде, положительно не поддается описанию. Наконец, в начале прошлого столетия и почти одновременно двое учёных, русский — Лобачевский и венгерский — Бояи, установили неопровержимо, что это доказательство невозможно; этим они почти совсем избавили нас от изобретателей геометрии без постулата Евклида ‹...› Но вопрос не был исчерпан; его разработка не замедлила сделать новый большой шаг с опубликованием знаменитого мемуара Римана «Über die Hypothesen, welche der Geometrie zum Grunde liegen» ‹...›
Геометрия Лобачевского. Если было бы возможно вывести постулат Евклида из других аксиом, то, отбрасывая этот постулат и допуская другие аксиомы, мы, очевидно, должны были бы прийти к следствию, заключающему в себе противоречие; поэтому было бы невозможно на таких положениях построить цельную геометрическую систему.
Но как раз это и сделал Лобачевский. Он допускает сначала, что
через точку можно провести несколько прямых, параллельных данной прямой.
Кроме этой, все другие аксиомы Евклида он сохраняет. Из этих гипотез он выводит ряд теорем, между которыми нельзя указать никакого противоречия, и строит геометрию, непогрешимая логика которой ни в чем не уступает евклидовой геометрии. Теоремы, конечно, весьма отличаются от тех, к которым мы привыкли, и вначале кажутся несколько странными.
Так, сумма углов треугольника всегда меньше двух прямых углов; разность между этой суммой и двумя прямыми углами пропорциональна площади треугольника.
Невозможно построить фигуру, подобную данной, но имеющую иные размеры.
Если разделить окружность на
n равных частей и провести в точках деления касательные, то эти
n касательных образуют многоугольник, если радиус окружности достаточно мал; но если этот радиус достаточно велик, они не встретятся.
Бесполезно было бы увеличивать число этих примеров; теоремы Лобачевского не имеют никакого отношения к евклидовым, но тем не менее они логически связаны между собой.
Геометрия Римана. Вообразим себе мир, заселенный исключительно существами, лишёнными толщины, и предположим, что эти “бесконечно плоские” существа расположены все в одной плоскости и не могут из нее выйти. Допустим далее, что этот мир достаточно удалён от других миров, чтобы не подвергаться их влиянию. Раз мы начали делать такие допущения, ничто не мешает нам наделить эти существа мышлением и считать их способными создать геометрию. В таком случае они, конечно, припишут пространству только два измерения.
Но предположим теперь, что эти воображаемые существа, оставаясь все ещё лишёнными толщины, имеют форму поверхности шара, а не форму плоскости, и расположены все на одной и той же сфере, с которой не могут сойти. Какую геометрию они могут построить? Прежде всего, ясно, что они припишут пространству только два измерения; роль прямой линии для них будет играть кратчайшее расстояние от одной точки до другой на сфере, т.е. дуга большого круга; одним словом, их геометрия будет геометрией сферической.
То, что они назовут пространством, будет эта сфера, с которой они не могут сойти и на которой происходят все явления, доступные их познанию. Их пространство будет
безгранично, так как по сфере всегда можно безостановочно идти вперед, и тем не менее оно будет
конечно; никогда нельзя дойти до края, но можно совершить кругообразное движение.
Геометрия Римана есть не что иное, как сферическая геометрия, распространённая на три измерения. Чтобы построить ее, немецкий математик должен был отбросить не только постулат Евклида, но, кроме того, ещё и первую аксиому:
через две точки можно провести только одну прямую.
На сфере через две данные точки можно провести
вообще один большой круг (который, как мы сейчас видели, играл бы роль прямой для наших воображаемых существ); но есть одно исключение: если две данные точки диаметрально противоположны, то через них можно провести бесконечное множество больших кругов. Так и в геометрии Римана (по крайней мере в одной из её форм) через две точки вообще можно провести только одну прямую; но есть исключительные случаи, когда через две точки можно провести бесконечное количество прямых.
Между геометриями Римана и Лобачевского существуют в некотором смысле противоположность.
Так, сумма углов треугольника:
равна двум прямым в геометрии Евклида;
меньше двух прямых в геометрии Лобачевского;
больше двух прямых в геометрии Римана. Число линий, которые можно провести через данную точку параллельно данной прямой:
равно единице в геометрии Евклида;
нулю в геометрии Римана;
бесконечности в геометрии Лобачевского. Прибавим, что пространство Римана конечно, хотя и безгранично, в указанном выше смысле этих двух слов.
Пуанкаре Анри. О науке. Пер. с франц. — М.: Наука. 1983. С. 32–34
 полностью здесь
полностью здесь
Всё-таки советую внять обезьянке. Не только Риман и Лобачевский, но и четвёртое измерение. Мы же помним, что Хлебникова убедил Пуанкаре, а не Бехтерев.
Поверьте на слово: Глез и Метценже о четвёртом измерении благоразумно помалкивают. Но как приятно убедиться в надёжности Моймира Грыгара: хрусталик и зрительная ось — перепев.
Пространство визуальное. Рассмотрим сначала чисто зрительное впечатление, обусловливаемое изображением, возникающим на сетчатке. Краткий анализ показывает, что это изображение непрерывно и обладает только двумя измерениями; это уже составляет отличие между пространством геометрическим и тем, что можно было бы назвать чисто визуальным пространством. Далее, этот образ заключён в ограниченном кадре.
Наконец, существует ещё одно отличие, не менее важное: это чисто визуальное пространство неоднородно. Различные точки сетчатки — независимо от изображений, которые могут на них возникать,— играют не одну и ту же роль. Никак нельзя считать жёлтое пятно тождественным с точкой, лежащей у края сетчатки. ‹...› Более глубокий анализ, без сомнения, показал бы нам, что эта непрерывность визуального пространства и его два измерения суть иллюзия; этот анализ ещё более отдалил бы визуальное пространство от геометрического. ‹...›
Однако зрение позволяет нам оценивать расстояния и, следовательно, воспринимать третье измерение. Но всякий знает, что это восприятие третьего измерения сводится к ощущению усилия, сопровождающему аккомодацию, которую надо выполнить, и к ощущению, сопровождающему то схождение обеих глазных осей, которое необходимо для отчетливого восприятия предмета.
Мы имеем здесь мускульные ощущения, совершенно отличные от ощущений зрительных, которые дали нам познание первых двух измерений. Таким образом, третье измерение выступит перед нами не в той же роли, какую играют два других. А следовательно, то, что можно назвать полным визуальным пространством, не есть пространство изотропное.
‹...› Третье измерение открывается нам двумя различными способами: благодаря усилию при аккомодации и вследствие схождения глазных осей.
Эти два рода показаний, без сомнения, всегда согласованы друг с другом.
Ibid. С. 42–43
Насилие не только порождает насилие, но и убивает любознательность. Ишь, поводырь выискался. Не буду вникать в Пуанкаре, наплевать на четвёртое измерение.
Принимаю решение: долой трофим-денисовскую лысенковщину, да здравствует академик Понтрягин.
Как, вы не знаете Понтрягина? Между отродясь не знал и давно забыл две большие разницы, говорят в Одессе. Я сдал ТАР (преподавателя мы прозвали ‘пегегегуиование’) и выкинул конспект с теоремой Понтрягина сорок четыре года назад, но влажный след в морщине утёса налицо. И вдруг читаю:
От редактора
Одно из самых ярких и глубоких впечатлений моих юных лет связано с работами великого французского учёного Анри Пуанкаре, посвящёнными научному творчеству и развитию науки. С годами это впечатление не потускнело. ‹...›
К сожалению, русские издания книг «Наука и гипотеза», «Ценность науки», «Наука и метод», «Последние мысли», о которых идёт речь, давно уже стали библиографической редкостью. ‹...›
Таковы причины, побудившие меня внести предложение о выпуске сборника упомянутых работ.
Л.С. Понтрягин
Академик Понтрягин 1908 года рождения, то есть вникал в Пуанкаре с ятями. Совершенно как Хлебников. При этом рассыпается в благодарностях тт. Ленинизмову и Марксистенко за послесловие. Возможно, вершителям судеб науки страны Советов А. Пуанкаре не казался таким ярким и глубоким, как они сами.
Мир четырёх измерений. Так же, как неевклидов мир, можно представить себе мир четырёх измерений.
Чувство зрения, даже при единственном глазе, в соединении с мускульными ощущениями, сопровождающими движения глазною яблока, могло бы оказаться достаточным для познания пространства трёх измерений.
Образы внешних предметов рисуются на сетчатке, которая является картиной двух измерений; это — перспективные изображения.
Но так как эти предметы, а также и наш глаз, подвижны, то мы последовательно видим различные перспективные изображения одного и того же тела, схваченные с нескольких различных точек зрения.
В то же время мы убеждаемся, что переход от одного перспективного изображения к другому часто сопровождается мускульными ощущениями. ‹...›
Мы понимаем, таким образом, как идея пространства трёх измерений могла возникнуть из наблюдения этих перспективных изображений, хотя каждое из них имеет только два измерения; дело в том, что они следуют друг за другом по определённым законам.
Теперь таким же образом, как на плоскости можно сделать перспективное изображение фигуры трёх измерений, можно сделать изображение фигуры четырёх измерений на экране трёх (или двух) измерений. Для геометра эта задача в высшей степени простая.
Можно также получить несколько перспективных изображений одной и той же фигуры с нескольких различных точек зрения. Мы можем легко представить себе эти перспективные изображения, так как они имеют только три измерения.
Вообразим, что различные перспективные изображения одного и того же предмета следуют одно за другим и что переход от одного к другому сопровождается мускульными ощущениями.
Ясно, что два из таких переходов будут рассматриваться нами как две операции одной и той же природы, если они будут связаны с такими же мускульными ощущениями.
Теперь ничто не мешает нам вообразить себе, что эти операции сочетаются по любому заданному закону, например так, что образуют группу такой же структуры, как и группа движений неизменного твёрдого тела четырёх измерений.
В таком представлении нет ничего невозможного, и однако это как раз такие же ощущения, которые испытывало бы существо, обладающее сетчаткой двух измерений и возможностью перемещаться в пространстве четырёх измерений.
В этом именно смысле допустимо говорить о возможности представить себе четвёртое измерение. ‹...›
Выводы. Мы видим, что опыт играет необходимую роль в происхождении геометрии; но было бы ошибкой заключить, что геометрия — хотя бы отчасти — является экспериментальной наукой.
Если бы она действительно была таковой, то имела бы только временное, приближённое — и весьма грубо приближённое! — значение. Она была бы только наукой о движении твёрдых тел. Но на самом деле геометрия не занимается реальными твёрдыми телами; она имеет своим предметом некие идеальные тела, абсолютно неизменные, которые являются только упрощенным и очень отдаленным отображением реальных тел.
Ibid. С. 51–53
Вспоминаем «Du Cubisme»:
Пространство живописи по неразумению путают или с пространством чисто зрительным, или с пространством Эвклида.
Эвклид одним из постулатов утверждает неразличаемость покоя и движения: тело равно самому себе в любом случае. Одно только это избавляет нас от дальнейших доказательств своей правоты.
Если уж связывать пространство живописного полотна с какой-либо геометрией, следует обратиться к геометрии неэвклидовой, вникнуть в теоремы Римана.
Круг замкнулся на грани куба, которого не было на знамени кубизма.

Всё-таки следовало бы освежить в памяти переписку Хлебникова с Матюшиным. На с пятое на десятое, а четвёртое.
О 3-х измерениях писал Бехтерев; но, не зная предела и смысла построения 4 измерения, родина которого в допущении, что в природе пространства нет начал для ограничения его только тремя степенями, подобно тому, как числа могут быть возводимы в степень до бесконечности, он заключил, что три полукружных завитка уха человека были ближайшей причиной 3 измерений пространства человека; на это Пуанкаре возражал в книге или «Наука и гипотеза» или «Математика в естествознании», что тогда пришлось бы крысам дать пространство 2-х измерений, потому что у них 2 кольца внутреннего уха, а голубям (кажется) пространство 1 измерения.
Он приписывал Бехтереву непонимание истинного смысла 4 измерения и приводил как неудачный пример моста из естествознания к числу.
О 4 измерении лучше всего в юбилейном сборнике в память Лобачевского в трудах Казанского математического общества.
Хлебников В. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 6. Книга вторая. С. 168–169
В понтрягинском издании Бехтерев не упоминается, однако в этом сборнике нет и статьи «Математика в естествознании». Товарищ Марксистенко не одобрил?
Похоже, дело в другом: русского перевода о ту пору не было, и Хлебников прочёл про Бехтерева | кольца внутреннего уха | крыс | голубей в подлиннике.
Остановись, мгновенье. Задний ход.
Находясь в Астрахани, Хлебников цитирует эти источники по памяти. Замечания французского математика Анри Пуанкаре (1854–1912) о роли полукружных каналов содержатся не в упомянутых Хлебниковым книгах, а в книге «Ценность науки» (1905), вышедшей в русском переводе в 1906 г. Кроме того, Пуанкаре возражает не Бехтереву, а известному русскому физиологу Илье Фаддеевичу Циону (1842–1912), опубликовавшему в 1897–1902 гг. ряд статей по данному вопросу в немецких и французских изданиях ‹...›. В своем возражении Пуанкаре действительно упоминает японских мышей, имеющих две пары полукружных каналов, и миног, обладающих одной парой каналов.
Андрей Щетников. К вопросу о датировке некоторых ранних прозаических сочинений Велимира Хлебникова
Так-то вот. Широкошумный разоблачитель стократ полезней попискивающего хвалюна — раз, дорого яичко ко Христову дню — два. Мысленно жму руку и отправляюсь на поиски Циона, японских мышей и миног.
Я не говорил до сих пор о роли известных органов, которым физиологи основательно приписывают выдающееся значение. Я имею в виду полукружные каналы. Многочисленные опыты достаточно показали, что эти каналы необходимы для нашего чувства ориентировки; но физиологи не вполне согласны между собой: предложены две противоположные теории, одна — теория Маха–Делажа, другая — Циона.
Цион — физиолог, прославивший своё имя важными открытиями относительно инервации сердца; однако я не могу разделять его идеи в вопросе, который нас занимает. ‹...›
У трёх пар каналов была бы единственная функция: извещать нас, что пространство имеет три измерения. Японские мыши имеют только две пары каналов; по-видимому, они думают, что пространство имеет только два измерения, и обнаруживают это мнение удивительнейшим образом; они строятся в круг, причём каждая из них прячет свой нос под хвост предыдущей, и, построившись таким образом, начинают быстро кружиться. Миноги, обладая только одной парой каналов, думают, что пространство имеет только одно измерение, но их проявления менее беспорядочны.
Пуанкаре Анри. О науке. М.: Наука. 1983. С. 215–216
Привычки японских мышей наводят на размышления, не так ли. Равно и
три полукружных завитка уха человека. Царь природы. Остаётся не уронить высокое звание.
А как тут не уронить, если спустя Моймира Грыгара
с ужасом я понял, что строчка Хлебникова
пусть Лобачевского кривые украсят города не задевает моего сознания?
Фрейд учит: любой страх, будучи разглашён соответствующим образом, изживаем. Непременное условие — подготовленный собеседник. Незнайки Хлебникова поле обходят стороной, уровень посетителя достаточно высок. А русский авось? Поехали заголяться и обнажаться.
Украсить города, по Хлебникову, — в первую очередь разредить их застройку. Довольно-таки неравномерное чередование пустоты и объёмов, а не
дома-крысятники впритирку. Хлебников предвидел
ходнырлёт, раскидистость жизненного пространства его не особенно волновала: средства передвижения найдутся, вот уже и воздухоплавание налицо. А там и ковры-самолёты подоспеют, какие-нибудь ступы с метлой. Чтобы не воняло гарью.
Однако воображаемая геометрия Лобачевского неспроста называется гиперболической. Моймир Грыгар трижды употребляет это слово. Стало быть, отчётливо понял разницу кривизны Лобачевского и Римана. Не без помощи Пуанкаре, подозреваю.
У Римана кривизна пространства
>0, у Лобачевского
<0. Представить мир плоскатиков Римана гораздо проще, нежели среду обитания разумных существ Лобачевского. При этом Риман и Лобачевский ограничились постоянной кривизной, это вам не полузамкнутые вселенные нынешних
благовестников ума. Геометрическая фигура с постоянной положительной кривизной в пространстве трёх измерений есть сфера, с постоянной отрицательной кривизной — гиперболоид. Трёхмерные гиперболоиды бывают одно- и двухполостные, но в любом случае стенки полостей расходятся.
То есть жить в пространстве с положительной кривизной вполне себе ничего, а почва отрицательной кривизны уходит из-под ног. И никакие башни Шухова дела не меняют. Вот почему лично я уподобляюсь Глезу и Метценже: да здравствует Риман, а Лобачевского в сторонку.

Хотел утешиться Полем Валери — вернулся невод с пеной морскою. Приходится верить Моймиру Грыгару на слово: пересечения Пуанкаре с Верленом высекали-таки у последнего искру.
Воспламенится, и ну петь. А Хлебников знай над ним потешается.
Это
деймо первое. Второе — Осип Эмильевич с «Аполлоном» за январь–февраль 1914 г. в руках. Прочитав о себе, принимается за отгумилёвку Хлебникова.
Онъ любитъ и умѣетъ говорить о давно прошедшихъ временахъ, пользоваться ихъ образами. ‹...›
Многiя его строки кажутся обрывками какого-то большого, никогда не написанного эпоса ‹...›
Слабѣе всего его шутки, которыя производятъ впечатлѣнiе не смеха, а конвульсiй. А шутитъ онъ часто и всегда некстати.
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. Мандельштам откликнулся так:
Современники не могли и не могут ему простить отсутствия у него всякого намёка на аффект своей эпохи. Каков же должен быть ужас, когда этот человек, совершенно не видящий собеседника, ничем не выделяющий своего времени из тысячелетий, оказался к тому же необычайно общительным и в высокой степени наделённым чисто пушкинским даром поэтической беседы-болтовни. Хлебников шутит — никто не смеётся. Хлебников делает лёгкие изящные намёки — никто не понимает.
Огромная доля написанного Хлебниковым — не что иное, как лёгкая поэтическая болтовня, как он её понимал, соответствующая отступлениям из «Евгения Онегина» или пушкинскому: „Закажи себе в Твери с пармезаном макарони и яичницу свари“. Он писал шуточные драмы — «Мир с конца» и трагические буффонады — «Барышня-смерть». Он дал образцы чудесной прозы — девственной и невразумительной, как рассказ ребёнка, от наплыва образов и понятий, вытесняющих друг друга из сознания. Каждая его строчка — начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень.
Мандельштам О. Буря и натиск. 1920–1922.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
Чего я боюсь, так это прослыть невразумительным. Внятность и ещё раз внятность. По свидетельству жены, Мандельштам привёз в Саматиху разрозненный пятитомник Хлебникова, однако наслаждался по-прежнему только перлами словесности. Математические выкладки великого Числяра оставались выше его понимания. Как приятно почувствовать себя более продвинутым хотя бы в этом направлении.
Остановись, мгновенье. Задний ход.
Такого бережного внимания, как Хлебникову, Мандельштам не оказывал никому. Что же касается до стихов, то у Хлебникова он ценил кусочки, а не цельные вещи. В Саматихе весной 38-го года у нас были с собой два тома Хлебникова. Мандельштам их листал и выискивал удачи, а когда я говорила, что целое бесформенно, он надо мной издевался: ишь чего захотела... А этого тебе мало? Чем не целое?.. Вероятно, он был прав.
Надежда Мандельштам. Хлебников. Из «Второй книги».
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
Вот именно: избранные кусочки. На этом
деймо второе
игравы «Ларпурларт» заканчивается.
Деймо третье: голос ниоткуда.
— То же и в отношении хлебниковской цифири. Лёгкая математическая болтовня, трали-вали. Другое дело
законы времени в их окончательном виде. Красота простоты и наоборот. Вернейший признак истины.
Да уж, не мне тягаться с потусторонними в отточенности формулировок. Хотел было вызнать про светёлки-горенки отрицательной кривизны (чем-то же там пользуются для уединения), но сверху ка-ак захрипят:
— Ну а девушки Одессы все скромны, все поэтессы, все умны — а в худшем случае красивы!

Приходилось вам сдавать ПТБ и ПТЭ на вторую группу допуска? Везёт же людям. Лично меня истязали сорок раз: дважды на студенческой практике и тридцать восемь раз на «Стеклодуве».
Проверка знаний ПТБ и ПТЭ у нашего брата производилась ежегодно. Докладываю, в чём опасность электричества: оно 1) невидимо, 2) лишено вкуса, цвета и запаха. При этом убивает не напряжение
U, а ток
I. Который зависит от сухости кожи ладоней, например.
Эти знания отнюдь не предполагают диплома о высшем образовании: закон Ома изучают в седьмом классе. Разбуди отличника, и он отбарабанит: ток в проводнике прямо пропорционален величине прилагаемого напряжения и обратно пропорционален сопротивлению проводника. А вот законы Кирхгофа в моё время требовали только со студентов. Называется ТОЭ, первая часть. Всё довольно-таки понятно и даже наглядно.
Заумь начинается во второй части, а уж третья — унеси моё ты горе. На экзамене по третьей части ТОЭ списывала вся группа до единого человека, попался один Молотилов. Наглость — второе счастье и первое несчастье. Молотилов списывал в наглую, попался, был всячески унижен, спустя угрозу отчисления пересдал. Пересдав, забыл как страшный сон.
Но вторая часть ТОЭ мне нравилась. Работает воображение, польза учёбы налицо.
Польза наотмашь: понял, зачем √–1 лично мне.
Я знаю, с кем имею дело. Нас хлебом не корми, только избавь от интегралов и производных. Меня тоже, да. Показать на булочках труднее, вот почему.
Показываю на булочках.
Ток бывает постоянный и переменный (импульсы — частный случай), в зависимости от вида напряжения. Электрическая цепь в общем случае состоит из активного сопротивления (то, что греется), индуктивности и ёмкости. Индуктивность
L определяется количеством витков провода и качеством сердечника, ёмкость
C — обкладками конденсатора (не только площадью, но и заполнением промежутка). Если к цепи с конденсатором приложить постоянное напряжение, греться ничего не будет: обкладки — разрыв цепи, никакого тока нет. Ток появится только в одном случае: прилагаемое напряжение вызвало пробой конденсатора.
Заумь возникает, стоит приложить не постоянное, а переменное напряжение. Разрыв цепи перестаёт быть таковым, появляется ток. Переменный, но разве от этого легче. Всё равно понять невозможно.
Каждый из нас крутил ручку настройки радиоприёмника. Не знаю как сейчас, а во времена моего детства эта ручка приводила в движение пластины какой-то штуковины. Крутишь в одну сторону — пластины выдвигаются из пакета, в другую — вдвигаются. И вдруг не треск и хрипы, музыка. Чудеса.
— Не чудеса, а колебательный контур, — улыбается изобретатель радио Попов. Наш Попов опередил их Маркони, совершенно как Лобачевский — Яноша Бойяи.
Этот колебательный контур следует предварительно расчитать, иначе нет радио. Уже я не помню, кто первый вспомнил про √–1, но тотчас переназвали. Обычно пишут √–1 =
i, но эта буква в электротехнике занята со времён Ома, пришлось заменить на
j. И полное сопротивление цепи переменного тока приняло вид
Z = r + jx,
где первое слагаемое связано с тем, что тупо греется (включая провод катушки индуктивности), а второе непосредственно влияет на излучение электромагнитных волн.
Собака зарыта в мнимой часть равенства, да. И приём/передача музыки детства к ней жёстко привязаны, вот именно.
Остаётся раскрыть, что такое
х, и на этом прекратить дозволенные речи.
х = ωL – 1——ωC Здесь ω — частота переменного тока,
L — индуктивность,
С — ёмкость. Обращаю внимание на знак перед дробью. Переводится следующим образом: переменный ток через конденсатор опережает напряжение на его обкладках. Иными словами, яйцо сносит курицу. О, как это восхитило меня сорок пять лет назад, вы даже представить себе не можете.
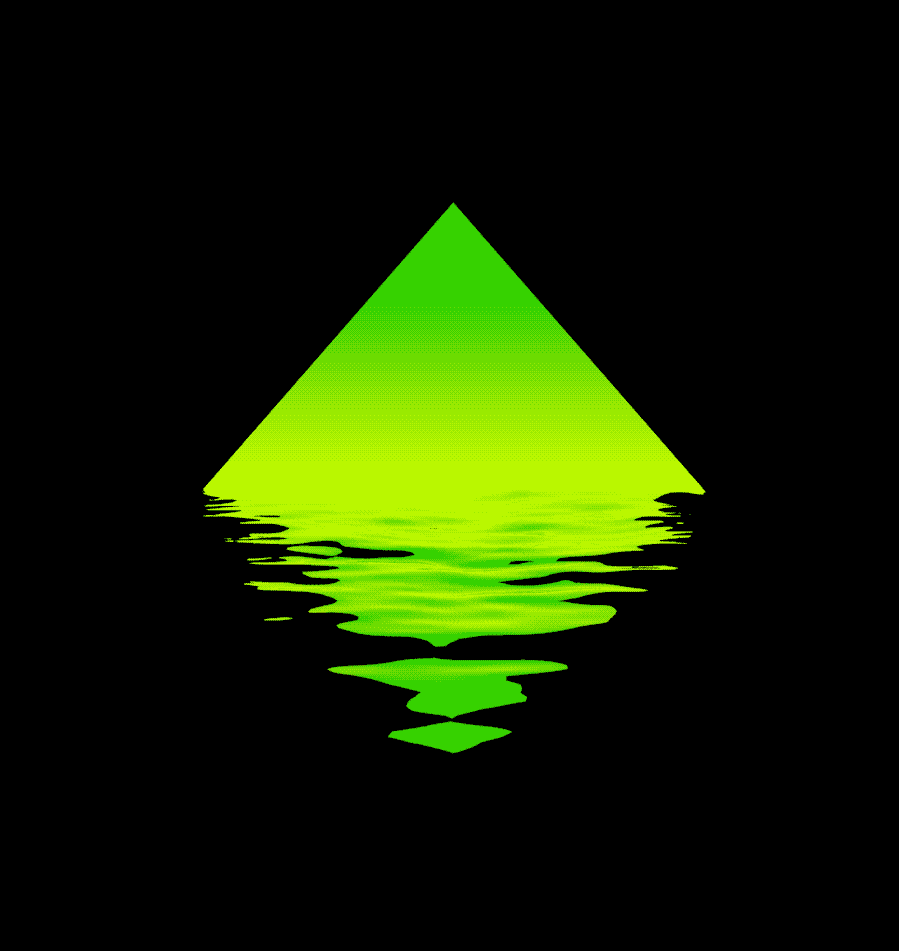
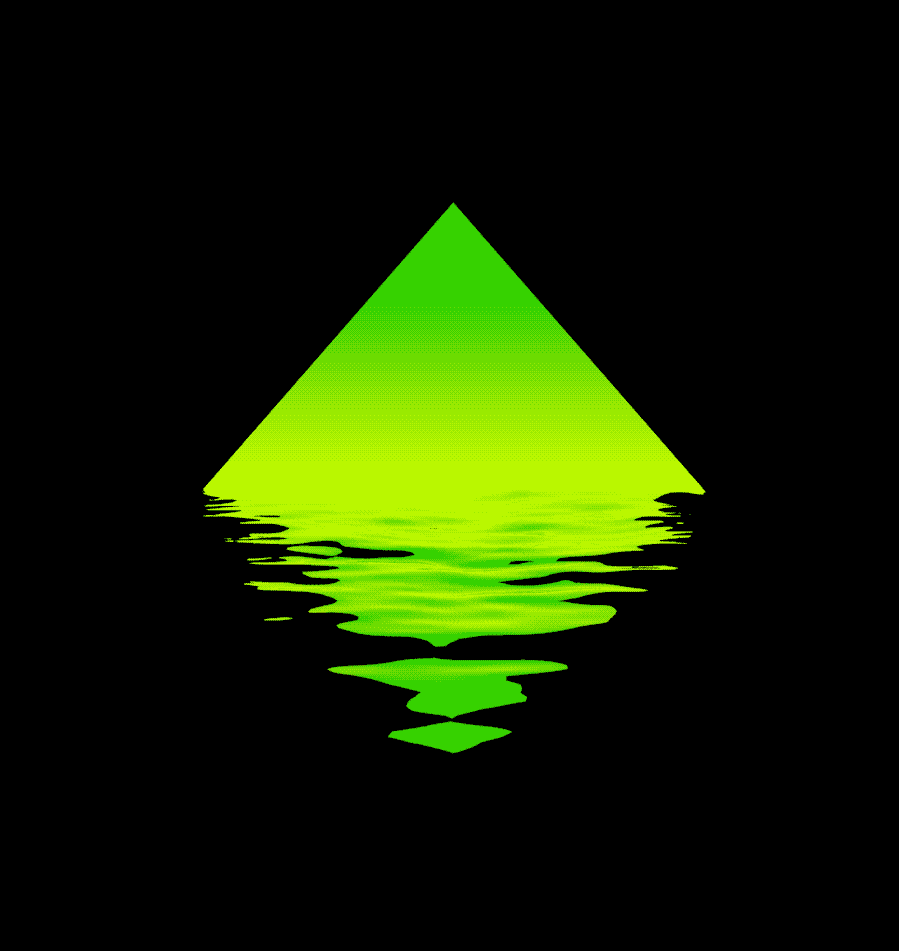
 Исходным рубежом сравнения теоретических взглядов Хлебникова на язык, литературу, изобразительное искусство и театр с семиотическим подходом к языку и художественной культуре является, во-первых, разработанная в начале XIX века Фердинандом де Соссюром общая концепция языка, во-вторых — новаторское искусство того времени, так называемый классический авангард.
Исходным рубежом сравнения теоретических взглядов Хлебникова на язык, литературу, изобразительное искусство и театр с семиотическим подходом к языку и художественной культуре является, во-первых, разработанная в начале XIX века Фердинандом де Соссюром общая концепция языка, во-вторых — новаторское искусство того времени, так называемый классический авангард.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Будучи студентом Казанского университета, Хлебников познакомился с “гиперболической” геометрией Николая Лобачевского, одного из самых знаменитых профессоров этого учебного заведения, и через всю жизнь пронёс уважение к его уму и отваге. Математика начала XIX века не знает другого примера не только способности создать, но и смелости обнародовать теорию неевклидовой геометрии, которая не соответствует реальному миру и противоречит “естественным” принципам логики. А ведь ещё мыслители античности Прокл и Посидоний заявили, что постулат о параллельных прямых никем не доказан и противоречит другим аксиомам Евклида. Лучшие умы Европы досадовали: классическая геометрия чревата логическим скандалом (д’Аламбер), имеет пятно (Гаусс). Гаусс и Фаркаш Бойяи публично заявили, что нестыковку постулата и аксиом Евклида можно преодолеть только созданием новой геометрии, но этим и ограничились. По его собственному признанию, Гаусс многие годы работал над выведением злополучного пятна, однако так и не решился опубликовать результат.10
Будучи студентом Казанского университета, Хлебников познакомился с “гиперболической” геометрией Николая Лобачевского, одного из самых знаменитых профессоров этого учебного заведения, и через всю жизнь пронёс уважение к его уму и отваге. Математика начала XIX века не знает другого примера не только способности создать, но и смелости обнародовать теорию неевклидовой геометрии, которая не соответствует реальному миру и противоречит “естественным” принципам логики. А ведь ещё мыслители античности Прокл и Посидоний заявили, что постулат о параллельных прямых никем не доказан и противоречит другим аксиомам Евклида. Лучшие умы Европы досадовали: классическая геометрия чревата логическим скандалом (д’Аламбер), имеет пятно (Гаусс). Гаусс и Фаркаш Бойяи публично заявили, что нестыковку постулата и аксиом Евклида можно преодолеть только созданием новой геометрии, но этим и ограничились. По его собственному признанию, Гаусс многие годы работал над выведением злополучного пятна, однако так и не решился опубликовать результат.10![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Маяковский в некрологе Хлебникову защищал своего друга от обвинений в формализме и, чтобы показать разницу между механической игрой с языком и настоящим новаторством, цитировал стихотворение Бальмонта «Вечер. Взморье. Вздохи ветра...» построенное по принципу равномерного чередования аллитераций: согласный, руководящий стихом, меняется в каждом новом стихе без какой-либо тематической или семантической причины.18
Маяковский в некрологе Хлебникову защищал своего друга от обвинений в формализме и, чтобы показать разницу между механической игрой с языком и настоящим новаторством, цитировал стихотворение Бальмонта «Вечер. Взморье. Вздохи ветра...» построенное по принципу равномерного чередования аллитераций: согласный, руководящий стихом, меняется в каждом новом стихе без какой-либо тематической или семантической причины.18 Де Соссюр — условно говоря, последовательный сторонник взглядов Гермогена — видел суть языка в абстрактной системе правил, которая является результатом конвенции, независимой от воли говорящего. В языке, по его мнению, нельзя найти краеугольный камень, здесь нет элемента последней инстанции. Физическая, материальная сторона звуков не является субстанцией языка. Связь звуков с понятиями и отношение слов к обозначаемым предметам не подчиняется никакому априорному логическому или естественному закону. Звуки, с одной стороны, не суть простые физические данные; с другой — не имеют никакой семантической ценности. Возможность построить из фонем части слов (морфемы) и словá (лексемы) определяется тем, что отдельные звуки не несут наперёд заданного значения. Смысл не является неотъемлемой частью звуков и звуковых соединений, слово нельзя сравнивать с этикеткой, намертво приклеенной к обозначаемой вещи. Значение слова возникает не как связь звука и вещи, но как условное соединение акустического образа (image acoustique) и понятия.22
Де Соссюр — условно говоря, последовательный сторонник взглядов Гермогена — видел суть языка в абстрактной системе правил, которая является результатом конвенции, независимой от воли говорящего. В языке, по его мнению, нельзя найти краеугольный камень, здесь нет элемента последней инстанции. Физическая, материальная сторона звуков не является субстанцией языка. Связь звуков с понятиями и отношение слов к обозначаемым предметам не подчиняется никакому априорному логическому или естественному закону. Звуки, с одной стороны, не суть простые физические данные; с другой — не имеют никакой семантической ценности. Возможность построить из фонем части слов (морфемы) и словá (лексемы) определяется тем, что отдельные звуки не несут наперёд заданного значения. Смысл не является неотъемлемой частью звуков и звуковых соединений, слово нельзя сравнивать с этикеткой, намертво приклеенной к обозначаемой вещи. Значение слова возникает не как связь звука и вещи, но как условное соединение акустического образа (image acoustique) и понятия.22![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Азбуку ума Хлебникова нельзя низводить до натурфилософии XIX века с её попыткой построения “генеалогического дерева” сложных — не только природных, но и культурных — явлений. Сравнение семантической характеристики звуков русского языка у Хлебникова, Константина Бальмонта и Андрея Белого показывает пропасть между воззрениями будетлянина и столпов символизма. Ни Бальмонт в эссе «Поэзия как волшебство» (1916), ни Белый в поэме о звуке «Глоссолалия» (1917) не блещут отточенностью формулировок. Оба излагают сугубо личную, проистекающую в последнем пределе из физиологического и житейского опыта трактовку русских фонем. У Бальмонта на первый план выступает интуитивное восприятие звуков поэтической речи, суть которой таится в глубинах мифического и магического. Истолкование гласных и согласных — не только русского языка, — у него лишено какой-либо точности. Бальмонт приписывает каждому звуку множество иной раз противоположных значений эмоционального, телесного, подсознательного характера.
Азбуку ума Хлебникова нельзя низводить до натурфилософии XIX века с её попыткой построения “генеалогического дерева” сложных — не только природных, но и культурных — явлений. Сравнение семантической характеристики звуков русского языка у Хлебникова, Константина Бальмонта и Андрея Белого показывает пропасть между воззрениями будетлянина и столпов символизма. Ни Бальмонт в эссе «Поэзия как волшебство» (1916), ни Белый в поэме о звуке «Глоссолалия» (1917) не блещут отточенностью формулировок. Оба излагают сугубо личную, проистекающую в последнем пределе из физиологического и житейского опыта трактовку русских фонем. У Бальмонта на первый план выступает интуитивное восприятие звуков поэтической речи, суть которой таится в глубинах мифического и магического. Истолкование гласных и согласных — не только русского языка, — у него лишено какой-либо точности. Бальмонт приписывает каждому звуку множество иной раз противоположных значений эмоционального, телесного, подсознательного характера.![]()
![]()
![]()
 Когда Николай Лобачевский в 1832 году прислал рукопись своей работы «О началах геометрии» в Российскую Академию наук, последовал резко отрицательный отзыв. В рапорте 7 ноября читаем: Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы нельзя было его понять.31
Когда Николай Лобачевский в 1832 году прислал рукопись своей работы «О началах геометрии» в Российскую Академию наук, последовал резко отрицательный отзыв. В рапорте 7 ноября читаем: Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы нельзя было его понять.31![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Мировоззрение, эстетические взгляды и творчество Хлебникова отличаются множеством противоречий. Когда Маринетти сказал, что Хлебникова больше интересует plusquamperfectum чем futurum, он был до некоторой степени прав. Во всяком случае, уловил отличие русского будетлянина от итальянского футуриста. Маринетти и его друзья восхищались техническим прогрессом, вменяли будущему неуклонное возрастание могущества машин и, соответственно, человека. Хлебникова техника сама по себе не интересовала — русские поэты и художники вообще не были поклонниками машинерии, — звученник будизн провидел грядущий синтез многотысячелетней работы мысли, своего рода проекцию древних мифов, сказок, старинных верований и грёз. У Хлебникова оживают деревянные истуканы и мраморные богини; будущее для него — не только рывок вперёд, но и своеобразное возвращение в прошлое: к тому, что современник утратил, а предок не сумел осуществить. В рассказе «Ка» Хлебников с ловкостью фокусника перемешивает времена и культуры: над головами древних богов Египта пролетает самолёт Сикорского (между прочим, этот инженер из Киева после войны изобрёл вертолёт, и его машинами до сих пор пользуется армия Соединенных Штатов).
Мировоззрение, эстетические взгляды и творчество Хлебникова отличаются множеством противоречий. Когда Маринетти сказал, что Хлебникова больше интересует plusquamperfectum чем futurum, он был до некоторой степени прав. Во всяком случае, уловил отличие русского будетлянина от итальянского футуриста. Маринетти и его друзья восхищались техническим прогрессом, вменяли будущему неуклонное возрастание могущества машин и, соответственно, человека. Хлебникова техника сама по себе не интересовала — русские поэты и художники вообще не были поклонниками машинерии, — звученник будизн провидел грядущий синтез многотысячелетней работы мысли, своего рода проекцию древних мифов, сказок, старинных верований и грёз. У Хлебникова оживают деревянные истуканы и мраморные богини; будущее для него — не только рывок вперёд, но и своеобразное возвращение в прошлое: к тому, что современник утратил, а предок не сумел осуществить. В рассказе «Ка» Хлебников с ловкостью фокусника перемешивает времена и культуры: над головами древних богов Египта пролетает самолёт Сикорского (между прочим, этот инженер из Киева после войны изобрёл вертолёт, и его машинами до сих пор пользуется армия Соединенных Штатов).![]()
![]()
![]()
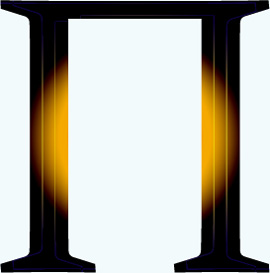 осле того как тебя сожмут со всех сторон, хочется всесторонне расшириться. Слова Леонида Андреева. Который пугает, а Льву Толстому не страшно.
осле того как тебя сожмут со всех сторон, хочется всесторонне расшириться. Слова Леонида Андреева. Который пугает, а Льву Толстому не страшно. Верхний предел, удача наотмашь. Если научная статья не разлакомила хотя бы на один первоисточник — грош ей цена. После Моймира Грыгара я ринулся добывать Якова Тугендхольда — раз, Глеза и Метценже — два, Анри Пуанкаре — три, Лобачевского — четыре, Поля Валери — пять. Свои конспекты по теоретическим основам электротехники я выкинул сорок пять лет назад, вот дурак. Придётся рвануть за учебником. Математическое чудовище? Ну я ему задам, этому жильцу вершин!
Верхний предел, удача наотмашь. Если научная статья не разлакомила хотя бы на один первоисточник — грош ей цена. После Моймира Грыгара я ринулся добывать Якова Тугендхольда — раз, Глеза и Метценже — два, Анри Пуанкаре — три, Лобачевского — четыре, Поля Валери — пять. Свои конспекты по теоретическим основам электротехники я выкинул сорок пять лет назад, вот дурак. Придётся рвануть за учебником. Математическое чудовище? Ну я ему задам, этому жильцу вершин! Знаете ли вы Якова Тугендхольда (1882–1928)? Нет, вы не знаете Якова Тугендхольда. Альфред Бассехес — да, Яков Тугендхольд — нет. Я таки знаком на оба дома, со шляпой Фредди даже и накоротке. Но спустя Моймира Грыгара довелось узнать о приязни тапочек Тугендхольда к моему заднему карману. Который ниже спины, да.
Знаете ли вы Якова Тугендхольда (1882–1928)? Нет, вы не знаете Якова Тугендхольда. Альфред Бассехес — да, Яков Тугендхольд — нет. Я таки знаком на оба дома, со шляпой Фредди даже и накоротке. Но спустя Моймира Грыгара довелось узнать о приязни тапочек Тугендхольда к моему заднему карману. Который ниже спины, да. подлинник здесь
подлинник здесь Всё-таки советую внять обезьянке. Не только Тугендхольд полностью, но и весьма любопытный сосед. Аполлон — покровитель искусств. Кроме исскуства кино: беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Изящная словесность хороводится с благовоспитанными товарками, кинопромышленность мрачно курит в подворотне. Чёлка до переносицы, татуированные знаки, финка в рукаве.
Всё-таки советую внять обезьянке. Не только Тугендхольд полностью, но и весьма любопытный сосед. Аполлон — покровитель искусств. Кроме исскуства кино: беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Изящная словесность хороводится с благовоспитанными товарками, кинопромышленность мрачно курит в подворотне. Чёлка до переносицы, татуированные знаки, финка в рукаве.  Итак, у Глеза и Метценже ни слова о Пуанкаре. Его туда вчитал Моймир Грыгар, и правильно сделал. Оправданное самоуправство. Однако насилие порождает насилие, Анфиса Абрамовна. А ну быстренько вникла в теорему Римана!
Итак, у Глеза и Метценже ни слова о Пуанкаре. Его туда вчитал Моймир Грыгар, и правильно сделал. Оправданное самоуправство. Однако насилие порождает насилие, Анфиса Абрамовна. А ну быстренько вникла в теорему Римана! полностью здесь
полностью здесь Всё-таки следовало бы освежить в памяти переписку Хлебникова с Матюшиным. На с пятое на десятое, а четвёртое.
Всё-таки следовало бы освежить в памяти переписку Хлебникова с Матюшиным. На с пятое на десятое, а четвёртое. Хотел утешиться Полем Валери — вернулся невод с пеной морскою. Приходится верить Моймиру Грыгару на слово: пересечения Пуанкаре с Верленом высекали-таки у последнего искру.
Хотел утешиться Полем Валери — вернулся невод с пеной морскою. Приходится верить Моймиру Грыгару на слово: пересечения Пуанкаре с Верленом высекали-таки у последнего искру.  Приходилось вам сдавать ПТБ и ПТЭ на вторую группу допуска? Везёт же людям. Лично меня истязали сорок раз: дважды на студенческой практике и тридцать восемь раз на «Стеклодуве».
Приходилось вам сдавать ПТБ и ПТЭ на вторую группу допуска? Везёт же людям. Лично меня истязали сорок раз: дважды на студенческой практике и тридцать восемь раз на «Стеклодуве».