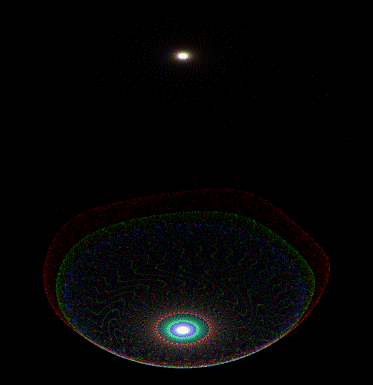О. Ханзен-Лёве
Ономатопоэтика Велимира Хлебникова. Имя и анаграмма.
1. “Поэт-Адам” как поименователь
В древних космогонических мифах, равно и в мифопоэтике современности, “creator mundi” предстаёт как существо, являющееся одновременно и порождением своего имени, и творцом его: мифологическое мышление не различает “имя” и “вещь”, т.е. поименование (“номинация”) и создание вещи — одно то же. В этом смысле можно говорить и о „номинационном характере мифологического мира” (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский 1973: 286). Подлинно созидающая сила, т.е. энергийное творческое начало, таится в самом имени. Имена оказываются не просто истолкованиями предметов (продуктом соотношения условных знаков и реалий культурной системы), они скорее реализуют символическую или языковую сторону первобытных понятий в их докультурном, доисторическом состоянии — докоммуникативную естественность.
1
Называние имени тождественно созданию вещи (Фрейденберг 1936: 104; В.В. Иванов 1976: 35, 47 и далее), так как в акте поименования имядатель высвобождает нечто из своей сущности (точнее, энергию своего имени). Этот процесс часто понимается как “излучение” божественного света в земную среду или акт деторождения, при этом “семя” и “имя” (или “семена” и “имена”) устанавливаются как равнозначные, как совершенно те же самые, что и — в символике “Мировой книги” — “имена” и “письмена”.2
Согласно Ю. Лотману и Б. Успенскому (1973: 282), в мифологическом тексте существует изоморфизм между описываемым миром и системой описания (равно и между “вещами” и их “именами”). Поэтому типичной семиотической формой мифа является номинация: „Знак в мифологическом сознании аналогичен имени собственному” (там же, 284). И наоборот, мифологическое сознание можно было бы охарактеризовать как „асемиотическое” (287), так как здесь нет условных знаков. Мифический язык — это язык, состоящий из имён собственных (300), или язык, в котором родовые имена появляются как имена собственные. Если в этом мире нет разделения между обозначением и вещью, то не может быть и синонимов, налицо только „превращение [изображаемого] предмета” (там же). Поэтому принцип омонимии доминирует в мифе, что, впрочем, относится и к архаистической мифопоэтике Хлебникова.3
В своей довольно загадочной схеме семиотически возможных отношений между сообщением и кодом, в дополнение к объектно-языковым (сообщение → код), металингвистическим (код → сообщение) и цитационным (сообщение → сообщение) связям, Р. Якобсон предусматривает случай, когда код ссылается на код (R. Jakobson 1957, II: 130; E. Holenstein 1975: 166). В этом случае циклической ссылки (K/K) имя (собственное) заявлено как типичный пример (если другие случаи такого рода остаются неясными). Эта корреляция от кода к коду — которую трудно понять, и которая, между тем, сама стала чем-то вроде научного мифа (ср. также A. Nozsicska 1985: 233 и далее) — удивительным образом перекликается с архаическим (подсознательным, даже мифопоэтическим) пониманием “языкового мышления”. В такого рода прасемиотическом „конкретном мышлении” (Кл. Леви-Стросс) амбивалентность “вещей” и “имён” — предтеча семиотических отношений между объектом и знаком, signatum и signans. Фундаментального “различия” между биосферой (миром реалий) и семиосферой (миром знаков) ещё не произошло. Корреляция код ↔ код мыслима постольку, поскольку это взаимосвязь двух явлений одного и того же порядка: знаки (словесные) выступают в виде “имён” как изнанка “вещей” — и наоборот. Неопримитивистская, архаическая реституция такого языкового мышления оперирует (как в символизме, так и в футуризме) понятием “слово-вещь” или — на более абстрактном, более герменевтическом уровне — древним топосом “Мировой книги”.
Человек-демиург воспроизводит мифическую функцию богочеловека “Адама-Кадмона” — именно того второго, уже земного “сотворённого творца”, который в ранней греческой философии был известен как όνομαθέτης — “творец имён” или “установитель имён”.4 Проблема, поставленная Платоном в «Кратиле», а именно, соответствуют ли имена сущности вещей или нет, пока не затрагивает мифических культурных героев (adamischen Onomatheten), так как „в райском состоянии человек дал вещам их истинные имена” (Блюменберг 1981: 54):
Проблема, поставленная Платоном в «Кратиле», а именно, соответствуют ли имена сущности вещей или нет, пока не затрагивает мифических культурных героев (adamischen Onomatheten), так как „в райском состоянии человек дал вещам их истинные имена” (Блюменберг 1981: 54):
История творения есть не что иное, как сумма приказов существам, названным по имени. Райский человек повторяет эти распоряжения Творца. Таковы истинные имена вещей, призывающие их к повиновению точно так же, как они повиновались в акте творения, выйдя из ничего.
Там же, 875
Итак, когда Адам (согласно Быт. 2,19 и след.) даёт имена всем животным, он тем самым подтверждает свою власть над тварью (Kittel V: 252). «Книга природы» не читается,
скорее, из неё берутся имена, которыми называются вещи, — истинные отражения их сущности. Знание означает ‹...› восстановление изначального суверенитета человека и его власть называть вещи своими именами и, таким образом, вновь и вновь править ими.
Blumenberg 1981: 896
Уже в «Кратиле» Платона “поименователь” понимается как “ремесленник”, δημιουργός (Kratylos 389a), он сравнивается с художником, кузнецом, плотником — идея, которая до сих пор в секуляризованной форме бередит стихотворцев. Подобную мысль находим у Хлебникова в «Трубе Марсиан» (V: 151):
Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач.
Хлебниковский художник слова — такой “словотворец”, который, подобно Адаму, даёт вещам их имена; точнее, на фоне их утилитарного уплощения и ирреализации как предметов недавнего повседневного мира (“быт”) восстанавливает их первозданность (т.е. вещь-и-поименование). «Декларацию слова как такового» следует понимать буквально:7
Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена.
Kručenych, Manifesty: 63
Хлебников ссылается — как и во всех других оправданиях словотворчества — на изначальную способность человека к поименованию: Первобытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной (I: 311). Отсюда стремление футуристов: Мы хотели всему дать имена (IV: 112). Это притязание относится и к поименованию вещей, и к самоназванию Председатель Земного шара:
Только мы, стоя на глыбе себя и своих имён, осмеливаемся среди моря ваших злобных зрачков назвать себя Правительством Земного Шара. Оно — мы.
V: 162
Али
В Председатели шара земного
Посвящается за стаканом джи-джи.
Страна, где все люди Адамы,
Корни наружу небесного рая! ‹...›
Где молчаливому месяцу
Дано самое звонкое имя — Ай,
В этой стране я!
I: 239
Снова мы первые дни человечества!
Адам за Адамом
Проходят толпой
На праздник Байрама
Словесной игрой.
III: 124
...Где вместо народа Адамов — адам.
V: 35
В письме Кручёных от 1913 г. Хлебников сравнивает футуристский адамизм с акмеизмом (ссылаясь на статью Городецкого «Некоторые течения современной русской поэзии» («Аполлон», 1, 1913):
Пылкие слова в защиту Адама застают вас вдвоём вместе с Городецким. В этом есть смысл: мы пишем после “Цусимы”. Но Адамом нужно быть, а сурьма и белила не спасут обманщиков. Строго? Кто молод, тот отче людей.
НП: 367, 474
Футуристический “поименователь” (Onomathet) — это и первочеловек Адам (как архаист), и “новый Адам”, господствующий в качестве мессии над новым-старым миром языка: Я зову увидеть лицо того, кто стоит на пригорке и чьё имя Пришедший Сам. (V: 187). Таким образом, Хлебников может ссылаться как на синхронический адамизм акмеистов, так и на мифопоэтический символизм.
Символисты тоже ставили знак равенства между „наименованием” и сотворением мира.8 Земной „слово-творец” действует аналогично и символически в духе космического „миро-творца”, создавшего объективную реальность как „космический художник”. В акте поименования художник-теург превращает “содержание” в “вещь”: „Именуя содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, мы бесформенность хаоса содержаний претворяем в ряд образов...” (А. Белый. Эмблематика смысла. 1910. С. 129). Художник-Адам выступает в роли мифического создателя имени-вещи:
Земной „слово-творец” действует аналогично и символически в духе космического „миро-творца”, создавшего объективную реальность как „космический художник”. В акте поименования художник-теург превращает “содержание” в “вещь”: „Именуя содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, мы бесформенность хаоса содержаний претворяем в ряд образов...” (А. Белый. Эмблематика смысла. 1910. С. 129). Художник-Адам выступает в роли мифического создателя имени-вещи:
Все имена слетели с вещей; все виды творчества распались в прах, пока мы стояли у преддверья; стоя во храме, мы должны, как первозданный Адам, дать имена вещам; музыкой слов, как Орфей, заставить плясать камни.
Белый, Эмблематика: 112
Кроме того, символисты — хотя и в рамках их искусства-религии — видели в художнике слова “возобновителя”: он выполняет дионисийско-христианскую задачу “оживления слова”, и в то же время является самим Логосом, носителем “Имени Божьего”. „Жизнетворчество” символистов превращает “вещи” в мифически-символические существа (там же, 129). Вот почему поименование — ещё и “мифотворчество”:
Называем мы образы
именами вещей ‹...› И образы фантазии населяют наш мир: так в искусстве начинается мифическое творчество...
А. Белый. Песня жизни. 1911. С. 5710
2. Nomen est omen. Пра-язык
2.1 Пра-звуки как “имена слов”
Деятельность словотворца двояка: как футурист, он борется с “заезженным”, “автоматизированным” обиходным языком (“предметный язык”) путём “переименования” существующих выражений; как архаист — берётся за буквальное “открытие” таинственного “языка-вещи”, скрытого под повседневным языком, создавая “слова-вещи”. Поэтому футурист настойчиво требует “замены” старых, сношенных имён по-настоящему новыми:
Жирные толпы человечества
Протянутся по нашим следам.
Где мы прошли
Лондон, Париж и Чикаго
Из благодарности заменят свои имена нашими.
Но мы простим им их глупость.
Это дальнее будущее ‹...›
III: 18
Старые поименования считаются в футуризме “ветхими одеждами”, которые заменяются новыми в результате революции (= футуристический аспект) — или под которыми архаист обнажает воистину природную их суть: „И вдруг / все
вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать
лохмотья изношенных
имён” (Маяковский I: 163).
11
Для Хлебникова “пра-звуки” его звёздного языка, т.е. той космической азбуки, которую “осваивает” подлинный словотворец, суть “простейшие поименования языка” (ср. его статью «О простых именах языка» — НП: 346 и далее). Исходные звуки оказываются в то же время “пра-словами” (в смысле немецкого мифопоэтического романтизма, т.е. Новалиса и Шлегеля), консонантные “буквы” (письмена) служат словотворцу как материал, из которого он выстраивает свой языковой космос. Вот некоторые примеры:
Тогда с З должны быть: 1. все виды зеркал; 2. все виды отражённого луча. ‹...› Имена глаза, как построения из зеркал: зень, зрачок, зрак, зины ‹...› Имена мировых зеркал: земля, звёзды; ‹...›
НП: 346
Но вот из темноты донеслось знакомое имя, и сразу стало ясно, идут свои. „Свои!” — доносится из темноты с каждым словом общего языка.
Мировой закон Лоренца говорит, что тело сплющивается в направлении, поперечном давлению. Но этот закон и есть содержание простого имени Л; значит ли Л — имя, лямку, лопасть, лист дерева, лыжу, лодку ‹...›
V: 230
Таким образом, Ч есть не только звук, Ч — есть имя, неделимое тело языка. ‹...› Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть ‹...› имя.
V: 236–237
Пра-звуки, таким образом, являются “неделимыми телами языка”, который состоит из них, как тело из членов.
12
То же самое относится и к (магическим, священным) числам: в мифологическом языковом мышлении они эквивалентны буквам. “Числа” тоже являются “именами” мирового языка:
Но в именах чисел мы узнаём старое лицо человека. Не есть ли число семь усеченное слово “семья”? ‹...›
Именем числа стали названия занятий пращура в этом числе.V: 184–185 Имя восемь говорит на вход в семью (во-) нового чужого члена.V: 189
(Математическая) “делимость” чисел соответствует “расчленению” “тела речи” (ср. образование пра-звука /т/: Тело, туша, тучнеть в смысле разложения тела, V: 231; звук /м/ выступает в роли “структуры объёма”: Эм — разделение объёма, ножом и целью / На множество малых частей, III: 81). Поэтому даже простейшие “тела речи” — “буквы алфавита”, т.е. имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира ‹...› Так 20 имён построек, начатых с Ч. (V: 219). Единственный пра-звук (“главный звук каждого слова”, звук имени) оказывается, так сказать, “судьбой” слова:
‹...› мы говорим и открываем особую природу заглавного звука, звука имени, независимую от смысла слова, присваивая ей имя прóвода судьбы.
V: 189
‹...› и везде вижу, даже в ливне и луже, Л начинает те имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси.
V: 198
Так задача о простых именах приближается к своему решению с помощью точных понятий. В языке столько простых имён, сколько единиц в его азбуке — всего около 28–29; далее будут разобраны, как простые имена, некоторые согласные звуки (М, В, С, К). ‹...› М начаты имена самых малых членов нескольких многообразий.
О простых именах языка, V: 203
Далее именем М начаты имена вещей, делящих другие на части ‹...›
V: 204
Эти имена речи всегда касаются двух вещей или, точней, описывают пять случаев отношений между вещами и их движением.
НП: 330
В «Нашей основе» Хлебников помещает словотворчество в упомянутый выше контекст биосферы, куда в ходе реституции “вещного мира” реконвертируется семиосфера.
Словотворчество учит, что всё разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сеятель языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки, зёрнами языка.
V: 228
Слово живёт двойной жизнью. То оно просто растёт как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идёт на службу разуму, звук перестаёт бьггь “всевеликим” и самодержавным; звук становился “именем” и покорно исполняет приказы разума ‹...›
V: 222
Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозём духа и позднее загадочными путями даёт свои всходы. Разве понимает земля письмена зёрен, которые бросает в неё пахарь?
V: 226
От “языкового корня” и “семени” (т.е. “имени” как зачатка творящего слова) вырастает дерево всемирного языка (V: 269):13 пища богов (V: 163) есть одновременно пища для богов и питание ими. В соссюровской теории анаграмм мифология “слова как семени Божьего” сочетается с мифической сущностью пра-слов как “имён”: „тематическое слово” (т.е. имя) „производит развёрнутую речь” (J. Starobinski 1980: 46), текст есть эманация „словесного тела” „тематического слова” (там же, 62).
пища богов (V: 163) есть одновременно пища для богов и питание ими. В соссюровской теории анаграмм мифология “слова как семени Божьего” сочетается с мифической сущностью пра-слов как “имён”: „тематическое слово” (т.е. имя) „производит развёрнутую речь” (J. Starobinski 1980: 46), текст есть эманация „словесного тела” „тематического слова” (там же, 62).
2.2 Звуко-люди как персонификация произносимых имён
Если мифический текст состоит из единственного пра-слова, из него разворачивается имя, и наоборот, каждый миф дремлет в “сжатом виде” и разворачивается из имени (поэтому архаико-футуристическое художественное произведение „могло состоять из
одного слова”, V: 247). Этот принцип “развёртывания – свёртывания” распространяется и на людей как таковых: они выступают у Хлебникова (и других футуристов)
персонификациями звуковых метафор.
14
Персонификация В. Каменским фонем или морфем /ю/ и /я/ в его сборнике стихотворений «Девушки босиком» (17–19) тем любопытнее, что здесь налицо процесс сведения лексемы, собственно текстов, к отправной формуле в виде названия стихотворения. Парадигматически это представлено так:
Ю
Юночка
юная
юно
юнится
юнами юность
В июне юня
Ю — крыловейная лейная.
Ю — розоутрая рая.
Ю — невеста Ста Песен.
Ю — жена Дня.
Ю и Я.
Каменский 1917: 17
Будь то морфема или фонема, она является частью целого, т.е. “членом” “тела слова”, и в то же время есть самое целое: в финале этой текстовой парадигмы фонетические имена “Ю” и “Я” оказываются персонами, которые объединяются по футуристическому принципу „бракосочетания слов” и производят все новые слова и тексты. — Каменский демонстрирует изолированное выявление этого олицетворения словотворческой и текстообразующей морфемы в альманахе «Рыкающий Парнас» (46):
Я
излучистая
лучистая
истая
стая
тая
Ая
Я.
Процесс разворачивания слов из пра-имён (одним из которых является звук /я/) прослеживается в этом тексте следующим образом: фонема /я/ порождает морфему {я} (приблизительно как суффикс), которая, в свою очередь, порождает лексему #я#, то есть “Я”. Однако этот процесс представлен в
редуктивной манере, т.е. налицо и “сплавление” текста до исходного “Я” (ощущаемого уже в слове ‘тая’!), и типографически переданное впечатление текста, вырастающего из “слова-семени” /Я/.
15
Следующее стихотворение («Морская» // «Девушки босиком», 19) доказывает тесную связь этой столь же редуктивной и продуктивной процедуры с именем-мифом:
Есть страна Дальняя
Есть страна Дания
Есть имя Анния
Есть имя — Я. ‹...›
Хотя у Василия Каменского теория букв менее универсальна, чем у Хлебникова, она работает по тому же принципу (Каменский 1918: 123–125) и может быть прочитана как комментарий к цитированным ранее текстам:
Буквы
Ю.
гласная — жена.
Согласная — муж ‹...›
Согласные — корни Букв, отцы.
гласные — движенья, рост, материнство.
Каждая буква — строит индивидуальный мир ‹...›
Образец — Ю.
Ю
Юночка
Юная
Юно ‹...›
Ю всегда принесёт слову женственность, звучальность, розоутренность, гибкость, возбужденье. ‹...›
Поэт — мастер — строитель высшей организации слова-мысли-речи-формы.
А. Белый называет продукт этих олицетворений „звуко-людьми” (А. Белый 1922: 68); они “вырастают” из единственной фонемы в его романе «Петербург» (42–43):
В звуке “ы” слышится что-то тупое и склизкое ‹...› Липпанченко сидел перед ним совершенно бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу ‹...› Перед ним сидело просто какое-то “Ы” ‹...› С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул: „Ерыкало ты, ерыкало...”
Хлебников предлагает сравнимую конкретизацию или персонификацию “звуко-имён” /Ы/ в стихотворении «К А..» (II: 239):
И чтоб утроить вещь Ы,
Я забавам бросил „кыш!”,
Красивым кинул „брысь!”
А смерти „цыц!”
II: 239
3. Имя и/как анаграмма
3.1 “Письмена” и “имена”
Сбивающее научное языкознание с толку смешение фонем и графем в поэтике “зауми” (ср. полемику И. Бодуэна де Куртенэ с футуристами) обретает свой действительный смысл лишь тогда, когда, с одной стороны, понимают “графическую заумь” в рамках авангардного леттризма, с другой — рассматривают мифо-магическую роль буквы (“письмена”) в архаическом культе “письменности”.
16
Термин анаграмма редко встречается в футуристической поэтике. Его заменило понятие “сдвигология”, т.е. техника смещения границ слов или переназначения графем морфемам, чего обычное использование не предусматривает. Футуристы и формалисты прекрасно осознавали связь техники “сдвига” в словесном искусстве с таковой в изобразительном искусстве кубофутуристов (откуда и происходит этот термин, как и многие другие заимствования).17
Исходя из того, что устная форма ритуального языка появилась позже письменной (О. Фрейденберг 1936: 140), становится ясной тесная связь между архаичными названиями слов и их магической буквенной природой (J. Derrida 1976: 282 и далее). В форме букв, которые „раскладываются пред Богом, как приношение хлебов” (О. Фрейденберг 1936: 140), биологическая, материальная, вещная природа языковых знаков гораздо яснее, чем “flatus vocis” (сотрясание воздуха): абстрактный характер букв знаменует собой переход к исходному пониманию мира как текста — иероглифического, зашифрованного, скрытого текста с постулируемым “письменным качеством”.18
С течением времени буквенная система и “письменность” в целом становились всё более герметичными и непроницаемыми для непосвящённых. Роль изобретателя письма (или хранителя тайн письма) приписывается высшим божествам. У египтян это бог Тот, которому помогает бог речи Ра (Платон, Федр: 274cd). Греки доверили эту задачу Гермесу Трисмегисту, на которого опять-таки могли ссылаться гностические герметики, которые, как и всякое магическое сообщество, предпочитали “письменное” “устному”.
Одной из существенных черт разграничения высоких религий и мифа (или магии и инославного мистицизма) является то, что — как и в раннем христианстве, — “дух устного слова” (пневматическое) противопоставляется мёртвой “букве закона” (т.е. иудейского учёного письма): „Буква убивает” (2 Кор. 3; Рим. 2: 29; 7: 6).19
В отличие от всех форм аллитерации, включая парономазию, анаграмматический текст может быть выявлен только визуально и оптически; более того, он оперирует своей двойственной природой письменного и устно-акустического дискурса, причём интерференция этих двух медийных представлений определяет действительный смысл, “соль” анаграммы. Акустический текст образует, так сказать, нормальную, “безобидную”, бытовую или иным образом жанровую “текстовую поверхность”, под которой скрыт действительный, истинный, бессознательный, мифологически-магический текст, состоящий из комбинаций и вариаций букв или символов. Сначала должны быть получены слоги (см. ниже о лингвистической Каббале). (Божественное) имя есть реконструкция “письменности” текста, которая, в свою очередь, представляет его магическую, сакральную природу. Старобинский говорит — вслед за Соссюром — о следовании ведийских (как и индоевропейских) текстов “букве” (Starobinski 1980: 30).
Древнегерманское представление о письме как о „палочках” и одновременно „аллитерационной фонеме поэзии” (там же, 31 и далее) ещё полностью интегрирует символику письма в биосферу древовидного мира, которая в мифопоэтике Хлебникова также во многом связана с миром, соотносимым с книгой (ср. Фрейденберг 1978: 541 и далее). В ключевом тексте «Единой книги» (III: 68–69) весь род человеческий выступает как читатель “единой мировой книги”, на обложке которой надписью красуется имя её создателя, что представляет собой не что иное, как имя собственное словотворец:
Род человечества — книги читатель!
И на обложке — надпись творца,
Имя моё, письмена голубые.
Да, ты небрежно читаешь,
Больше внимания, ‹...›
В этих страницах прыгает кит ‹...›
III: 69
Возникновение имени (собственного) в виде “надписи” придаёт “слову-имени” материальный, даже графический характер (вспомните пристрастие художников-кубофутуристов к знакам и надписям) — особенно когда имя (которое, в свою очередь, функционирует как имя-миф) обозначает предмет (преимущественно современной цивилизации — например, корабль):
20
Мы несёмся в зеркальном заливе
Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным
С надписью «Троцкий» и «Роза Люксембург».
I: 245
На глухом полустанке
С надписью «Хапры»,
Где ветер оставил “Кипя”
И бросил на землю “ток”
III: 228
На тучах надпись „Наш”, —
А это значит: готовлю порох.
III: 299
Парус Оки высоко стоял над Украиной, и надпись: „я страшен” зияла на нём.
IV: 122
Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; на прекрасном боевом железе была вырезана золотая надпись и его имя.
IV: 129
Я буду рад, когда моё имя с надписью „продано” на этот холст навесится.
IV: 227; HП: 78
Футурист в буквальном смысле является “возвестителем слова” (таким образом, его секуляризованная форма есть “Логос”, ср. формулу „воскрешение слова”, идущую рука об руку с „восстанием вещей”, с которым воедино связаны сотериологические и апокалиптические мотивы), он — архаический поэт, “бард бунта букв”, от которого произошли таинственные имена:
Баян восстания письмен
Засеял нивами станков.
Те юноши, что клятву дали
Разрушить языки —
Их имена вы угадали —
Идут увенчаны в венки.
I: 198
Мастер техники анаграммы („теологический поэт” в понимании Шеллинга, “poeta vates”, “пророк” и т.д.) пишет — по аналогии с творцом макрокосма языком природы на/в «Мировой книге»: „На книгу тела имя Ольги. / Речной волны писал глаголы я.” (I: 293); он способен “читать руны звёзд”, язык которых представляется номотетической “письменностью”:
А эта синяя доска, ‹...›
Кто не прочтёт их звёздных рун.
Она небесная глаголица,
Она судебников письмо ‹...›
I: 299
В образе кукушки тайна Мира-текста раскрывается как имя:
То смерть кукушкою кукукала,
Перо рябое обнаружив,
За сосны спрятавшись событий,
В именах сумрачных вождей.
Кук! Ку-кук!
Об этом прежде знал Гнедов.
Пророча сколько жить годов,
Пророча сколько лет осталось.
Кукушка азбуки в хвое имён закрыта,
Она печально куковала.
Душе имён доступна жалость ‹...›
I: 298
Архаическая медвежья кость служит доисторическому человеку не только орудием для (сосания) приёма пищи, но и для (культового) “написания имён”:
Кость медведя годится сосать и писать имена (IV: 262) — таким образом, мотив “поедания” неразрывно связан с мотивом “написания имён”.
21
————————
Примечания Предварительное замечание переводчика: авторские выделения разрядкой, включая цитаты, здесь даны жирным курсивом Garamond.
 1
1 О различии между “вещью” и “предметом” в русском авангарде см.: А. H.-L. 1978: 74 и далее, 244 и далее; 1983: 303, 315 и далее; 1985: 27 и далее, 39 и далее, 74 и далее (“слово” как “вещь”); 1989с: Цель “беспредметности” — отменить автоматизацию или условность “предметного мира” и его языка (“предметный язык”), — возвращаясь к ним в смысле “архаизма” или выходя за их пределы в смысле “утопизма” — встречаться со слоем “вещей” и их языком (“язык вещей” — “вещий язык” — “вещной язык”) (ср. об этом А. H.-L. 1986: I29 и далее; 1987: 8 и далее. В том, что “воспрянувшее”, вновь “восставшее слово” (ср. футуристически-формалистическую формулу „воскрешение слова” В. Шкловского в: Тексты II:12) „становится действительностью” (по К. Малевичу (1927) 1962: 174), „преодолевает свой прежний объективный мир идей” (там же), оказываясь, таким образом, „беспредметным, освобождённым Ничто” (там же). “Вещи” становятся словами (“слова-вещи”), ведут автономную жизнь, ускользающую от логики и эмпиризма мира объектов. “Мышление” такого рода есть столь же автономное “языковое мышление”, которое соответствует и „конкретному мышлению” (“мышлению вещами”), и „первобытному мышлению” (Кл. Леви-Стросс). В мифе мир есть “вещь” (О. Фрейденберг 1978: 63), для первобытного человека „вещь есть космос, и он создает вокруг себя вещи, представляющие собой жизнь природы” (там же). Всё это по принципу: „то, что изображается, тождественно исполнителю” (там же). Поэтому все вещи, находящиеся в рамках рода, „тесно связаны друг с другом” (207), „вещи и люди до известной степени разговаривают друг с другом” (там же).
Эту архаичную отсылку к вещам, вероятно, имел в виду Ю. Тынянов, когда подчёркивал „научный взгляд” Хлебникова на мир вещей: „Хлебников смотрит на
вещи, как на явления, — взглядом учёного, проникающего в процесс и протекание, — вровень. Для него нет замызганных в поэзии вещей (начиная с “рубля” и кончая “природой”), у него нет вещей “вообще”, у него есть частная вещь. Она протекает, она соотнесена со всем миром — и поэтому ценна. Поэтому для него нет “низких” вещей”. (Ю.Тынянов [1924] 1965: 297). В этом контексте невольно возникает мысль о гомологе мифологического и научно-структурного мышления Кл. Леви-Стросса: „Поэзия близка к науке — этому учит Хлебников” (Тынянов, там же: 296).
С точки зрения “философии имени”, идущей от Платона через схоластику к Ал. Лосеву, между “именем” и “вещью” существует аналогия — даже гомология-отношение: “вещь” “философии имени” есть всегда „хорошо определяемая, солидная, независимая от отношений и доминирующему над ними, пребывающая в пустом “пространстве”, или “месте”, всегда может получить “имя” (Ю.С. Степанов 1985: 10). Поэтому “имя” не только внешне связано с “вещью”, но и с её “природой” (ср. ниже: «Философия имени» Лосева).
 2
2 Об уравнивании “семени” и “света-искры” (т.е. “мерцания”) см. В.Н. Топоров 1982: 316. Хороший пример гностической подоплёки этого топоса, который был широко распространён в древности (и особенно в отношении аналогии “света” и “имени”), даёт Филон Александрийский в сочинении «De mutatione nominum», §§ 3–14. (Philo von Alexandria, 1938). Мотив “слово”-“семя” в мифопоэзии русских символистов может быть полностью задокументирован (ср. А. H.-L. 1984: 1021, Anm. 233 к высказыванию М. Волошина „“Я” вырастает из его “имени”; ср. с этим также ibid., 1040 и далее).
 3
3 Согласно О. Фрейденберг 1978: 23, в архаическом мышлении „нет места для переносных значений”. То же самое в целом относится и к “магическому мышлению”, как определяет его Марсель Мосс: „Как только мы приходим к идее магических свойств, перед нами возникают явления, подобные явлениям языка. В то время как для вещи есть бесконечное число имён, знаков для неё немного” (M. Mauss 1978: 1, 112).
 4
4 О древнепифагорейском характере этой концепции см. И.М. Тронский, «Из истории античного языка» [1936], цит. по: В.В. Иванов 1976: 43–47. Прекрасный пример аналогии творчества мира и авторства поэта, точнее, “poeta vates” — трактат Г. Вико «Scienza Nuova» (1744 г.): поэзия древних греков зарождается в “теологии”, где предполагается пророчество. Согласно Вико, греки верили, что „Юпитер повелевает знаками”, которые являются „словами, выражающими сущности”, поэтому вся природа является „языком Юпитера”; в качестве истолкования этого языка народы вообще видели пророчество, которое греки называли теологией, т.е. наукой о языке богов. (G. Vico [1744] 1966: 70). „Через логику, возникшую из такой метафизики, первые поэты дают имена вещам в соответствии с самыми частными и чувственными представлениями, из которых возникли метонимия и синекдоха” (там же, 79).
Роберт фон Ранке-Грейвс посвятил этой идее свою знаменитую книгу «Белая богиня» (1948, здесь 1985: 15 и далее, 352 и далее), где связывает гадательную работу (и в особенности искусство именования и анаграммы) кельтской бардовской поэзии с древним свитком “poeta vates”. По мнению В.Н. Топорова 1987б: 216, поэт является автором первомифа, заключающегося в архаическом “жертвоприношении”, расчленении сына “Громовержцем”: поэт как жертва и жертвоприноситель одновременно “субъект и объект” текста: „Он — установитель имён: немую и бездеятельную до него вселенную сотворил в слове, собрал её по частям, которые он отождествил (т.е. придал им знание, нашёл их тайный, скрытый или утраченный смысл) и выразил в звуке” (там же). Для поэта как одноименного “auctor mundi” имя — „самый краткий и точный итог, квинтэссенция изображаемого в поэтическом тексте, и потому оно — главное в тексте” (там же). Также, согласно О. Фрейденберг 1978: 57, архаический поэт-жрец находится в равном положении с демиургическим творцом мира.
 5
5 В концепции “onoma” Платона — прежде всего в диалогах «Кратила» — коренится вся традиция эссенциалистской “философии имён” от античности через средневековую схоластику и Возрождение до наших дней (ср. обзор в Ю.С. Степанов 1985: 1 и далее). Типичным для этого лингвистического эссенциализма является до сих пор полумифическая идея выяснения чего-либо из его названного, т.е. магического, исходного состояния, его изначальной сущности из этимологии слов (Bietenhard 1954, in: G. Kittel, V: 245). В противоположность этому есть такие “ономаты”, которые лишь (как “знаки”) “выражают” нечто внеязыковое (Ю.С. Степанов 1985: 13 и далее), т.е. функционируют как условные знаки в соссюровском смысле. Платоновский «Кратил» (прежде всего 386e–387d) ещё полон оптимизма найти точные словесные поименования сущности вещей (там же, 24), которые являются квази-“миметическими” (т.е. с семиотической точки зрения, “иконическими”, “ономатопоэтическими”) “образами” своего объекта. Здесь, следовательно, последний остаток упомянутой выше идеи о гомологии между структурой означающего и означаемого в мифологическом понимании слов. Платон уже сомневался в этой способности слов-имён (см. эссе J. Trabant 1985: 169 и далее), Аристотель ещё определённее выступает против смешения “имён” и “вещей” (см. также F.W.J. Schelling VI: 45 и далее) См. также Э. Кассирер о «Кратиле», 1923: I, 22 и далее, 62 и далее; в заключение также В.В. Иванов, 1976: 43 и далее.
Следуя Платону, Августин в «De magistro» рассматривает имя как нечто универсальное, поскольку „всему, в принципе, можно присвоить имя”, ибо „каждое слово есть имя, потому что оно тогда окажется таковым, когда мы называем его тем, что оно есть, говоря об этом”. Поэтому мы „вспоминаем слова по их именам” (De magistro, гл. 5, 15).
 6
6 См.: В.В. Иванов 1976: 47. Для нового времени отождествление мира и творцов искусства часто является секуляризованной ересью (дуалистически-гностического происхождения) приравнивания поэта к “демиургу”. Ср.: J. Derrida 1972 (начиная с von Artaud): „Речь идёт о метонимии божественного имени, собственного имени вора и моего собственного метафорического имени: моя метафора есть моя экспроприация в языке. Бог-демиург — не творец, он не жизнь, он субъект произведений (œuvres) и уловок, вор, мошенник, фальсификатор, псевдоним, узурпатор, противоположность божественного художника, сущность ремесла и хитрости: сатана”. (J. Derrida 1972: 278). Мотив “художника-демиурга” как “дьявола” особенно ярко выражен в раннем русском символизме (ср. A.H.-L. 1984: 124 и далее).
 7
7 О значении “адамизма” в контексте футуризма см. A.H.-L. 1989а (особенно адамизм у А. Кручёных).
 8 Вл. Соловьёв
8 Вл. Соловьёв. Общий смысл искусства. 1890. VI, 75 и далее; он же: Красота в природе. 1889. VI, 65 и далее).
 9 В. Иванов
9 В. Иванов. О художнике. 1908. III, 115 и далее;
А. Белый. Феникс. 1906 // Арабески, 152 и далее (здесь художник выступает как “творец вселенной”, “бог всего мира”).
 10
10 Подробное сравнение символистской и архаично-футуристической концепции “имени” см.: A.H.-L. 1987: 28 и далее.
 11
11 Для послереволюционных футуристов “переименование” революции было прямым продолжением “оживления вещей” в дореволюционном “восстании слов”: „‹...› вещи оживут — / губы вещины / засюсюкают / „цаца, цаца, цаца!” (Вл. Маяковский, «Облако», I: 187); „‹...› Запрыгали слова. / Ругань метаясь от писка до писка, / и до-о-о-лго / чичикала чья-то голова” (I: 57). (Старые) вещи должны (снова и снова) расчленяться и вновь собираться, “сшиваться” так, чтобы “слух” (сфера “уха”) и “говорение” (“рот”, “губы”) обязательно менялись местами: „‹...› Вот видите! / вещи надо рубить! / Недаром в их ласках провидел врага я! / ‹...› / А, может быть, вещи надо любить? / Может быть, у вещей душа другая? / ‹...› / Многие вещи сшиты наоборот. / ‹...› / И там, где у человека вырезан рот, / многим вещам пришито ухо!..” («Владимир Маяковский», I: 158). Роль “переименования” в революционной России (на фоне “переименования” в религиозной мысли Древней Руси) трактовал Б.А. Успенский 1971: 481–492; он же, Из истории русских канонических имён.
М. 1969.
 12
12 О персонификации фонем, морфем и лексем см.: R. Jakobson [1921] 1972: 46 и далее; А. H.-L. 1978: 166 и далее, 1982: 214 и далее, 1985: 79 и далее (большинство примеров там). Связь между дионисийским “расчленением” тела (культовое “жертвоприношение”) и “разложением” лексемы в “мельчайших языковых элементах” см. подробно в: А. H.-L. 1987: 88–133:
Таким образом, Ч есть не только звук, Ч — есть имя, неделимое тело языка (V: 236);
Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя (там же, 237).
 13
13 Многочисленные примеры мотива “слово-дерева” (и, следовательно, “слово-семени”) можно найти в A.H.-L. 1985: 33–46.
 14
14 У Хлебникова всегда мыслима иноязычная интерпретация русских фонем или “звуконазваний”, употребляемых в русском контексте. В данном тексте, очевидно, употребление “я”, т.е. “I”. Напротив, английское ‘You’ следует интерпретировать как ‘Ю’. Похожую игру с омонимией личных местоимений мы находим у Шекспира, где эксплуатируется созвучие ‘I’, т.е. “я” и ‘ay’: „‹...› If he be slan ‘I’, or if not, no.” (цит. по G.-R. Hocke [1957/59] 1987: 356). Омофонию ‘I’ как “я” и ‘Eye’ (“глаз”) Вл. Набоков использует в английском переводе своего рассказа «Соглядатай»: на тематическом уровне эго героя олицетворяет (внешнюю, отчужденную) позицию вуайериста и нарцисса, высшей формой самореализации которой является тотальная редукция к “глазу”, т.е. к универсальному видению (В. Набоков 1938: 86–87).
 15
15 Именно эту технику написания слов друг под другом, когда „каждый раз пропускается одна буква” (например, Amore, more, ore, re), G.-R. Hocke 11957/59] 1987: 311 определяет как маньеристический жанр Kaimata. Это в известной мере “редуктивное” текстообразование приводит к постулату Хлебникова о том, что
искусство слова в пределе сводимо к произведениям искусства, состоящим только из одного слова (
В. Хлебников. Слово как таковое. V: 247:
Произведение искусства — искусство слова). Таким образом, “слово”, встраиваясь в текст / строя текст, оказывается источником и целью своего развития.
 16
16 Отождествление фонемы и графемы в манифестах футуристов (ср. декларацию «Буква как таковая» [1913], Манифесты: 60–61;
Третьяков С. Бука русской литературы.
М. 1922: 6). И. Бодуэн де Куртенэ подверг критике в своём эссе «К теории слова как такового и книги как таковой» // Отклики, №8. 1914.
Подробнее о генетической и функциональной связи между “устностью” и “письменностью” см.: Б. Гаспаров 1978: 63 и далее. Все характеристики “письменной записи” — их необратимость (там же, 70), структурированность (74), открытость или незавершённость (91), невоспроизводимость (92) — отсутствуют в тексте. „В письменной речи ‹...› смысловые компоненты текста (элементарные знаки — морфемы, слова, идиомы) предстают в виде дискретных составляющих общего смысла фразы и текста в целом” (74). Письменный текст закрыт, для “сохранения” информации (93), и потому более соотносим с историко-эпическими жанрами (95). Поэтому Б. Гаспаров различает тип “устность”, тяготеющую к “мифологическому”, и тип “письменность” — форму речи, соответствующую „историческому мышлению” (99). Только в современной культуре оба типа речи взаимодействуют (102 и далее), причём “устность”, в отличие от “письменности” становится всё более распространённым явлением в фиксированных текстах с вкраплениями “сказов” или диалогов (108). “Поэтический текст” сочетает в себе характеристики типов текста и культуры: “открытость” “устности” с усилением и усложнением структурного механизма (согласно „гиперопределению структуры”), возможным только в письменных видах (106).
В системе художественных форм русского авангарда отмеченная Гаспаровым близость “письменности” к среде изобразительного искусства сыграла ведущую роль не только для всех жанров леттризма, но и для актуализации и семантики “начертания” слов в “заумной поэзии” (ср. специфически футуристический жанр „самописьма” и программу «Буква как таковая» // Манифесты: 78 и далее, там же, 50, 60). О проблеме интермедиальности в русском авангарде см.: А. H.-L. 1978: 96–98; 1983: 291–360; С. Третьяков [1922] 1925: 6;
Д. Бурлюк. Поэтические начала. [1914]: 1.
 17
17 Разумеется, “сдвигология”, пропагандируемая прежде всего А. Кручёных, тоже основывалась на “письменном образе”, ведь термин “сдвиг” (т.е. “смещение”) и родственный термин “фактура” (т.е. материальное воплощение) художественного текста заимствованы из кубофутуристической живописи, и относятся к смещению морфемных и словесных границ, возможному только в среде “письменности”, причём из существующего (преимущественно литературного) текста (например, стихов Пушкина или канонизированных символистов), “новый текст” можно было комбинировать: целью этой манипуляции был прежде всего пародийно-сатирический эффект, который неразрывно связывает “сдвигологию” с смысловой функцией “каламбура” (ср. А. H.-L. 1978, 90 и далее; 1988). Таким образом, приёмы каламбура „сдвиг” (доминирующий у Кручёных, Маяковского и др. футуристов) и анаграмма (особенно у Хлебникова), имеют общую техническую основу — но совершенно разную поэтико-художественную функцию: в первом случае поэтическая речь (которая, как правило, имеется) трансформируется (и тем самым отчуждается, сатиризируется или экспрессивно утрируется), во втором — порождается ново-старый поэтический язык, который частично, но не во всех областях отчуждает или пародирует существующий поэтический дискурс. Сам Кручёных различает свою ориентацию на эффект неожиданной „самоценности слова-звука” (его “звучизм”) и хлебниковской “семантической зауми” (А. Кручёных 1973: 287, 296). Немаловажной стороной различия этих двух типов является и то, что футуристы (и Кручёных, и Маяковский) применяли приём “сдвига” во многом “мотивированно”, т.е. делали его “выражением” определённого речевого замысла (пародия, персифляж, дискурсивно-стилистическая критика, экспрессивность, экстаз, “современность”, урбанизм, культурная революция и др.), — факторы, которые эффективны у Хлебникова и важны для интенциональности его текстов, но играют сравнительно подчинённую роль (А. H.-L. 1988). Вот примеры из Маяковского: „‹...› перина. / И на / неё / встающих звёзд / легко опёрлись ноги. Но ги- / бель фонарей” (I: 34); „‹...› Дорога — рог ада — пьяни грузовозов храпы!” (I: 53); „‹...› Петух однажды / дог / и вор / такой скрепили договор: / дог / соберёт из догов свору” (I: 147); „‹...› У- / лица. / Лица / у / догов / годов...” (I: 38–39). Такие пародийные интенции реинтегрируются Хлебниковым в его архаическую мифопоэтику, частично декомицированную: ‹...›
Нетумые зовы, нетумое имя! /
Они пролетевшие мимо, /
Летумые снами своими, /
Дорогами облачных сдвигов, /
Летели как синий Темнигов ‹...› (III: 73).
 18
18 См. H. Blumenberg 1981: 36 и далее, 234 и далее — особенно по теории букв Новалиса и его “грамматическому мистицизму”, который опирается на герметическое и маньеристское предпочтение “иероглифического” (там же, 236): “Я” обладает, согласно Новалису, „иероглифической силой” (там же, 248). Хлебников, очевидно, был знаком с новалисовской поэтикой букв и иероглифов (см. Б. Лённквист 1979: 152); точно так же герметика букв (начиная с Каббалы) была известна на Руси самое позднее со времен символизма. Символизм алфавита и числовой мистицизм Агриппы фон Неттесхайма, Дж. Бруно, А. Кирхнера, Амоса Коменского, Я. Бёме, Джона Ди через лепоризм маньеристов пришёл к представителям “языковой алхимии” во французском символизме — G.-R. Hocke [1957/59] 1987: 286, 297 и далее, 320 и далее, 423 и далее. Все эти умопостроения о мистике букв и цифр коренятся в мифическом представлении о сотворении мира как сотворении письменности.
 19
19 Для Новалиса „душа — это звуковое тело. Евреи называют гласные буквы душами” (цит. по G.R. Hocke 1987: 314). Уже G. Vicko ([1744] 1866: 86) указывает, что у греков имена и “характер” означали одно и то же (ссылаясь на «De divinis nominibus» Псевдо-Дионисия-Ареопагита). О имени буквы (или “именах букв”) очень подробно у Р. фон Ранке-Грейвса (R. Ranke-Graves 1985: 130 и далее, 138 и далее). Первоначально эти имена держались в секрете, и каждое отождествлялось с божеством (там же, 140). Изобретателем букв или письменности всегда было божество (у египтян Тот, Геракл, у греков Дионис и Аполлон (143, 153 и далее). Знание имени буквы возвышало барда в глазах профанов.
Мало внимания уделялось связи между мифическим мотивом “журавля” и открытием букв или письма, на что также указывает Ранке-Грейвс (там же, 262 и далее), когда он ссылается на миф о Меркурии или египетском боге Тоте и журавлях (263): „Стая журавлей выстраивается клином, т.е. буквой V, и буквы всех пра-алфавитов, вырезанные ножом на древесной коре или процарапанные на глиняных табличках, конечно, были угловатыми” (267). „Гермес, или Меркурий, или Кар, или Паламед, или Тот” наделены поэтическим зрением, а также способностью читать предзнаменования по полёту птиц; вместе с этим они способны понять тайну алфавита, представленного в журавлях (там же, 271). Эта связь между “журавлём” и “poeta vates” (там же, 276), обычная для Древнего мира, и чья трагедия все еще звучит в «Журавлях Ибикоса», вероятно, должна быть привлечена и для столь обсуждаемой хлебниковской поэмы «Журавль», на что до сих пор не указывалось, так как, по-видимому, “каннибалистический” аспект не был признан в качестве мифа о “текстово-миропоедании”: “журавль” как воплощение “тайны письма” (или как символ поэтической “письменности” вообще) одновременно функционирует и как истребитель мирового текста, который он — заодно с людьми — пожирает (о хлебниковском текстопоедании более подробно см. А. H.-L. 1987). Во всяком случае, в поэтическом мире Хлебникова буквы живут своей жизнью, ибо словотворчество есть враг
книжного языка, т.е. окаменевшего условного языка: ‹...›
опираясь на то, что в деревне около реки и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавaя слова, которые то умирaют, то получают право бессмертия, пeренoсит это право в жизнь писем (Хлебников V: 233).
Отдельная глава посвящена “журавлям” и А. Белым в «Петербурге» (316–319) — они здесь, конечно, понимаются как апокалиптические посланники. Р. Лахманн 1987: 408 выявила связь между “журавлём” и буквенными обозначениями или анаграммами у Набокова. (по А. Белому там же, 409).
Мифо-магическое вырезание письменных знаков (на уровне “пра-языка”) в современной бытовой культуре отзывается банальным вырезанием имён (возлюбленных):
Об том знала я тогда, когда сидели мы в саду на той скамье, где наши имена в зелёной краске вырезаны им, и наблюдали сообща падучих звёзд прекрасный рой, и козодой журчал вдали , и смолкли шёпоты земли (IV: 244); ‹...›
некому было писать писем /
Я дал обещание, /
Я нацарапал на синей коре /
Болотной берёзы /
Взятые из летописи /
Имена судов, /
На голубоватой коре /
Начертил тела и трубы, волны, — /
Кудесник, я хитр (III: 94).
 20
20 Неприкрытое представление “надписи” как “картины”, т.е. как самодостаточных, самостоятельных артефактов, в футуризме давало возможность вскрыть двусторонность идеограммы как словесного знака и как “изображения”. Хорошим примером такого подхода является картина Ивана Пуни «Бани» (1915), в которой надпись — наряду с “фактурой” фона — выступает как единственный изобразительный элемент (ср. иллюстрацию в каталоге «Париж–Москва 1979», 159, а также в: A.H.-L. 1983: 326).
У Маяковского городская мотивация цитирования надписей и объявлений в контексте поэтических текстов всегда на первом плане (точно так же этот приём применяли в “литературе факта” 1920-х годов — Пильняк, например): „Читайте железные книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копчёные сиги / и золотокудрые брюквы. / А если весёлостью песьей / закружат созвездия «Магги» —” (Маяковский, «Вывескам», I: 41); „‹...› а сквозь меня на лунном сельде / скакала крашеная буква” (I: 37). В парадигматическом для раннего урбанизма Маяковского тексте «В авто» использован приём “вывески” изложения, связанный с развитием мотива заживающей собственной жизнью “буквы” — процесс, вполне в духе культа скорости итальянских футуристов, — может быть выведен из динамической перспективы горожанина: „Какая очаровательная ночь! / „Эта, / (указывает на девушку) [ = мотивированный “сдвиг” перспективы предложения], / что была вчера, / та?” [ = мотивированный “сдвиг”-стихосложение] / Выговорили на тротуаре / “поч- / перекинулись на шины [квазифизическая мотивация слова или прерывание речи, или синтаксический “след”] / та”. / Город вывернулся вдруг. / Пьяный на шляпы полез. /
Вывески разинули испуг. / Выплёвывали / то “О”, / то “S”. / А на горе, / где плакало темно, / и город, / робкий прилез, / поверилось: / обрюзгло “О”, / и гадко покорное “S”.” (Маяковский, I: 58).
У Хлебникова городские надписи (а часто и поучительные тексты бытовой цивилизации) вплетаются в архаичный декорум: „‹...›
Тогда части поездов, с надписью “для некурящих” и “для служилых”, /
Остов одели в сплетённые друг с другом жилы. («Журавль», I: 77).
 21
21 См.: A.H.-L. 1986: 129 и далее; 1987.
Воспроизведено по:
Wiener slawistischer Almanach. 21. 1988. P. 135–147, 197–204.
Перевод В. Молотилова
Благодарим В.Я. Мордерер за содействие web-изданию
Продолжение 
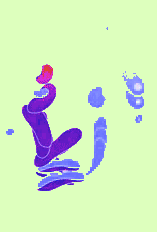
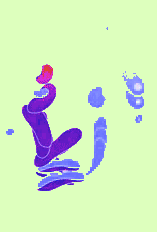
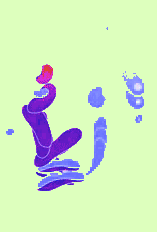
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()