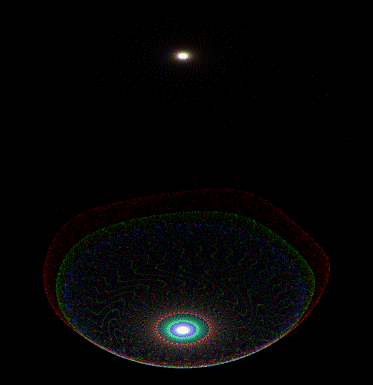О. Ханзен-Лёве
Ономатопоэтика Велимира Хлебникова. Имя и анаграмма.
Продолжение. Предыдущие главы: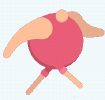
3.2. Имя как анаграмма
Согласно Фердинанду де Соссюру (J. Starobinski 1980: 13 и далее), анаграмматическая процедура неразрывно связана с функцией „тематических слов”, то есть “имён”: „тематическое слово” содержит звук или набор букв, который затем распределяется по тексту как “disiecta membra” расчленённого бога Диониса, который перерождается в чреве земли (языковом теле), чтобы стать загадочным Словом Истины (Urworte), который лежит в основе всех анаграмматических и, следовательно, мифических текстов. „Тема”, по Соссюру, — „текст под текстом” (Starobinski 1980: 16):
Поэтическая “речь”, таким образом, оказывается не чем иным, как вторым способом бытия имён: развёрнутой вариацией, которая для проницательного читателя с очевидностью (пусть и выборочно) позволяет воспринимать наличие ведущих фонем. Гипограмма нисходит от простого имени к сложному разбросу слогов стиха; речь идёт о распознавании и сборе ведущих слогов, подобно тому, как Исида собирала воедино расчленённое тело Осириса.
Там же, 25
Именно такова была роль vates у римлян, таковы и все жреческие обязанности поэта-жреца, умеющего читать „священные имена” как развёртывание мифа (а это именно развёртывание) (46): „Тематическое слово продуцирует развёрнутую речь” (47; ср. Фрейденберг 1978: 541):
‹...› глагол вырастает из той же смысловой фонемы, что и имя, взятое в действии, а всё выражение (‘дело делать’) начинает ещё дальше распространяться на целую сентенцию, выходящую за узкие фонетико-семантические пределы этого имени ‹...›
Именно такое сокрытие фонем или графем в тексте характерно для самых архаичных текстов (там же, 54, 543), да и для всех первобытных языковых состояний (В.В. Иванов, 1976: 251 и далее). Религиозной причиной анаграмм является предположение, что „молитвы и просьбы, обращенные к божеству, не достигают его, если в них не содержится имя Бога” (там же, 264). Клод Леви-Стросс говорит об универсальной „анаграмматической способности” (IV: 763), которую обладатели таковой не осознавали. По этой причине нет прямых сведений об анаграмматике в античной поэтике и риторике, чему удивлялся Соссюр:
Поэтическое вдохновение основывается на игре комбинаторики даже в античном мистицизме, который с давних времён был истинным механизмом неизменного вытеснения эстетического творчества в бессознательное.
Там же, 763
Не только имена собственные в более узком смысле, но и сама лексема ‘имя’ образует исходный пункт для различных разложений и новых сочетаний, так что слово “имя”, в свою очередь, вырастает в магически-мифическое “ИМЯ”, ибо оно само состоит из “писмен”, которые, в свою очередь, представляют собой имена и могут быть синтезированы вновь и вновь. Это происходит, например, через палиндромную этимологию имя или имена в поэме-палиндроме «Разин»: ‹...› Мечем | Оперив свирепо | Имен неми (I: 212) или ‹...› Оперив свирепо | Моров огнями, имян говором (I: 213); имян гологол огнями!.. (I: 214); Чьи камни на саблях? ‹...› Стекает бурно голота, | Её немы имена | И бурно развеваются знамена (II: 291).
Если отдельные графемы или звуки являются “именами” и, в то же время, живыми существами или людьми (звуко-люди), то — помимо лингвистически правильной этимологии лексемы ‘имя’ — тем же самым наделены и “буквы-существа”. Хлебников предлагает для этого ряд вариантов, типичных для его ономатопоэтики: наиболее очевидное “разложение” лексемы ‘имя’ — на ‘им’, дательный падеж множественного числа от личного местоимения ‘они’ и ‘я’: ‹...› Но, брезгая, брызгаю ими. | Моё воскликалося имя ‹...› (II: 218); Ими, ими, имя, имя | Предков душами овьём. | Снимем, снимем, с ними, с ними ‹...› (II: 20); Жизнь им имя, чело их носитель ‹...› (НП: 315); Старик: О, лукавое имя! (роняет рог и исчезает во мгле). Слушающие: Ими... (IV: 200); Огонь, зажегший очи, ровен, | Им я недавно очарован (НП: 272).
Таким образом, здесь фигурирует и им, и имя, и я — ср. пример из Каменского, приведённый выше: „‹...› Есть имя Анния | Есть имя — я” или у Хлебникова: ‹...› Где молчаливому месяцу | Дано самое звонкое имя — | Ай. | В этой стране я! (I: 239). Редким вариантом является следующий пассаж: ‹...› Вхожу в одинокую хижу, | Куда я годую себя и меня. ‹...› | Увозит свои имена ‹...› (III: 66–67). Формула “им” + “я” приводит к возможной этимологии высказывания: ‘имя’ есть (означает, реализуется) то, что ‘я’ есть (означает), лексема ‘имя’ объединяет индивидуума (т.е. “я”) с коллективом (им ← они), ибо ‘я’ носителя имени (‘Хлебников’) целиком состоит из “звуков” и, наоборот, “звуки”, тождественны носителю имени: ‹...› И стану я из звуков весь ‹...› (НП: 270).
Имеется целый ряд примеров того, что в поэзии Хлебникова лексема ‘я’ выступает не только как личное местоимение, но — и в этих случаях в кавычках (“я”) — как “слово-вещь”, т.е. как овеществлённое или персонифицированное “слово”, которое само становится носителем “действия”. Это относится и к другим лексемам (а также к графемам и фонемам или морфемам), которые обозначаются кавычками (иногда заглавными буквами) и функционируют в качестве актантов “развёрнутого” субъекта:
И дыхчие полымем змеи и косматые миристые гласом дива и постепенно миренело утихающее тихвой величия слово: “я!” и тонуло в немичии ‹...›
IV: 32–33
‹...› понял их как отражённые лучи будущего, брошенные подсознательным “я” на разумное небо. ‹...› Это самовитое слово вне быта и жизненных польз.
II: 9
Итак, мы делаем вывод, что чувства этого сердца опережают его возраст. Они весть “я” в будущем — “я” сегодня.
НП: 339
Она сотрудник гайдамака
И верит в силу “я” лучей.
НП: 242
Есть и другие ключевые слова, подающие “слово-имя” ‘я’
22
анаграмматически (как “член” их “тела слова”):
Юноша я — Мир. Я клетка волоса или ума большого человека, которого имя Россия? (IV: 35), или: ‹...›
Половой (подходит и пальцем трогает слово «Россия») (IV: 222). Следующий текст образует ‘я’ именно как „тематическое слово” (в соссюровском смысле), из которого разворачивается всё стихотворение:
Я забывал тебя во всяком взоре,
Я зрил твоё в зазоре,
Но знал, что я — уж не я,
И ты моих снопов жнея.
Лия пустотность в алчность ям,
Я отдавался всем змеям.
Я был угрюм и одинок, ‹...›
Благословляй или роси яд,
Но перед взорами одна,
Завет морского дна
— Россия. ‹...›
(НП: 250)
Я универсального архаиста Хлебникова скрыто как в слове Россия (ср. также стихотворение «Я и Россия», II: 304), так и в слове «Азия», т.е. ‘АЗ’ — ‘И’ — ‘Я’. : Архаическое ‘Аз’ есть „освобождённая личность”, освобождённое, первобытное, мифическое “Я” (С. Мирский 1975: 16 и далее, 22). Я растворяет себя в мире вещей и — отчасти, как лексема, морфема — в космическом (мировом) языке, который тоже часть “мирового тела”: Подзорные трубы устремлены на Я, | Чтобы свести с неба на землю “я” человека (III: 177). Аналогично этому, Я может быть развёрнуто в (мировую) книгу: Я счетоводная книга | Живых и загробного света (V: 57).
В ряде случаев этой функции соответствуют и другие личные местоимения в качестве персонифицированных лексем, представленных актантами: ‹...› Роковое слово “он” ‹...› (II: 246); ‹...› Тебе говорю — Ты! (II: 256); ‹...› Ты милый, с тобой мы же на “ты” (НП: 161); Мир и всё — лишь к “я” и “ты”! (II: 284); Я был более слово, чем слева (II: 285).
В дополнение к представленным здесь возможностям декомпозиции ‘им-я’ есть и другие, одна из которых состоит в том, чтобы отделить персонифицированную форму И от лексемы ‘и-мя’ и позволить ей появиться самостоятельно — например, в повести каменного века — «И и Э» (I: 83–87): — Где И? | В лесу дремучем ‹...› Стану я, чьё имя И, | Э! Уйди в леса свои.. Посредством фонемы /м/ в ‘имя’ можно понять и следующий пример — в ограниченнном, конечно, смысле: Трижды ве, трижды эм! | Именем равный отцу! (V: 92), или: Я — Пэ, | Главный пар в сердце великой чахотки. | Разве не Мо бога, | Что я в черепе бога ‹...› Это я, наполнив сердце Перуна, | Сделал пену, пузырь, пыль и порох, ‹...› В Че божество моё Пэ, | Оттуда пролью своё Эль ‹...› Ведь Мы взял взаймы | У Эм, матери малых миров, | Радость Мавы, радость ведьмы. ‹...› Вы видели Маву | У свайных столбов буквы Эм. ‹...› Ведь мы мирское целое | Делим на я, на множество я, | Муку я. | Дерево Господина Народа | Мелем на я, | Состоим из многих частей ‹...› Мы пересекли времена | Их угол — разной близости чертам, | Имени одно и то огромней (V: 107–113).
Ещё одна весьма продуктивная поэтическая этимологизация слова ‘имя’ — его (лингвистически некорректная) производная от ‘иметь’: ‹...› Солнца затмение, острые булавки! | Серьги — имение, из лучшей лавки (Ш, 250), или:
Влада худесников и неимеев, бедесников трудоты.
Неимеи всех длин, соединяйтесь!
Неумеи, умейте рост умства и думственной жизни, умственного духа голоса нератяев и стон нелатяев.
IV: 309
Наконец, русская форма прошедшего времени глагола ‘иметь’ допускает анаграмматическую связь как с существительным ‘я’ творительного падежа (‘им’), так и с глаголом ‘есть’ (поедать), форма прошедшего времени которого ‘ел’ — “фонетическая фигура” Эль как олицетворённая фонема во многих текстах Хлебникова, ср. его «Слово об Эль» (III: 70–74) или ‹...› Это он просит, чтоб лели лелеяли | Лели и чистые Эли, тело усталое ‹...› (III: 327). Фонема или графема /л/ встречается в “теле слова” как “тело”, так и — в обратной форме — в пра-названии всего поэтического мира Хлебникова — по его собственному выражению: Горело Хлебникова поле ‹...› И вместо Я | Стояло — Мы! (III: 306); Громко пел тогда голос Хлебников (III : 226); ‹...› В Нижнем я попал ‹...› В рот молодого человека | И прошёл желудок | Хлебникова ‹...› (V: 102).23
3.3. “Слово” как “Имя”
Если в мифопоэтическом мире (не только хлебниковском) слово есть ‘знак’
и ‘вещь’ (или представляет ‘тело’ или ‘лицо’), то, наоборот, такое овеществлённое и персонифицированное ‘слово’ способно иметь — или не иметь — ‘имя’:
И плачется и волится |
Словами без названий ‹...› (III: 33). Кстати, такая “слово-фигура” может и безмолствовать: ‹...›
Молчит сияющий глагол ‹...› (II: 55). “Фонетические имена” — это “слова”, которые представлены как “СЛОВА” (иногда в кавычках или иным образом отмеченные): весьма продуктивно “фонетическое имя” /М/ (ср. его реализацию для “измельчения”, т.е. мотива муки
24
) Наконец, “фонетическая форма” русского ‘имя’ тоже “содержит” эту фонему:
Зачем виденью моему
Я дал кладбищенское слово?
[Ахти! Могил усопших „мму”]
Свирель взять именем готова.
V: 47
Могай, моган! могей, могун!
Глаза могвы, уста могды!
Могатство могачей!
Это Эм ворвалось в владения бэ ‹...›
Так мы пришли из владений ума в замок “Могу”
III: 338–339
Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки.
III: 325
Следующие цитаты из “слова” обозначают множество других отмеченных “слово-вещей” или “слово-людей” в творчестве Хлебникова:
Окон прозрачное „нет”!
III: 324
Недаром хохочут холмы: „Сарынь на кичку”, и оси, корни из мнимой нет-единицы русалок протягиваются к да-единицам люда.
IV: 146
И Разина глухое „слышу”
Подымется со дна холмов ‹...›
I: 247
‹...› И первые вылетят птенчики
Из тихого слова “люблю”.
V: 67
Знайте, что новые будут Бироны
И новых “меня” похороны.
II: 177
И мне опорой будет палка
Одно лишь слово ваше: “жалко”.
II: 233
Я слово “бог” и вслед ругательство
Кого-то “стерва”,
Что догоняет собакой лающей кошку на дереве. ‹...›
Я — “боже! боже!”, я возглас уст священника.
III: 167
‹...› Играет словом — бог. ‹...›
Вы еще не поняли, что мой глагол —
Это бог, завывающий в клетке.
V: 46–47
Я верю, что перед очень большой войной слово “пуговица” имеет особый пугающий смысл, так как ещё никому не известная война будет скрываться как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок в этом слове, родственном корню пугать.
IV: 58
Слово “сверхгосударство” мелькало чаще, чем следует.
IV: 64
Мы — высшая сила
И всегда сможем ответить
На мятеж государств,
Мятеж рабов, —
Метким письмом.
Стоя на палубе слова “надгосударство звезды ” ‹...›
III: 21
3.4. Постановочная анаграмма
На связь архаической функции
загадки и анаграммы неоднократно указывалось в специальной литературе (Т.Ю. Елизаренкова / В.Н. Топоров 1984, нем. 1986: 39 и др.; В.Н. Топоров 1981, нем. 1986: 181 и др.).
25
Наряду с загадками, которые оперируют семантическими фигурами (прежде всего, теми, разрешение которых требует метафорического преобразования — точнее, подстановки), анаграмматические тексты имеют, по-видимому, гораздо более примитивный статус культовых жанров, более того: все архаические тексты были, надо полагать, построены анаграмматически, т.е. состояли из
двойного текста, первичная структура которого (в лексемах) могла быть сведена к вторичной посредством преобразования, и в этом случае приходилось перераспределять графемы и фонемы. В ходе этой
реконструкции такой вторичный уровень затем оказывался “актуальным”, магически действенным, “первичным” в аксиологическом смысле: сверхъестественной, космической речью или высказыванием, имеющим функцию прорицания, пророчества или тайного учения. “Второй текст” — это то, о чём следует догадываться, подменяя
решение вопроса, который артикулирует первый текст (точнее: фактура, поверхность текста). Таким образом, ответ как бы скрыт в означающей структуре вопроса, тогда как структура означаемого даёт вводящий в заблуждение, неверный ответ-пустышку (т.е. ответ 1 на текст 1). Можно высказаться ещё более радикально: в архаическом тексте (не только в загадке) означающее, помимо своей первичной референтной функции, есть не просто самовыражение, а сущностная, магико-мифическая языковая реальность, отсылающая к “мировому алфавиту”, что указывает на макро- и микрокосмическое значение мирового текста, делает его явным. По мнению Елизаренковой / Топорова,
такая структура загадки идеально соответствует общему принципу препарирования и
сокрытия сакральных ценностей и, соответственно, их обозначений (“тайных имён”), сколь можно более глубоко скрытых в
разных местах текста.
Там же, 5326
Осуществляя вышеупомянутое “расчленение” священных имён (или, в конечном счёте, пра-слова, имени Бога) посредством разложения лексем на их фонетические и письменные “компоненты” — “totum” на “partes”, — жрец-поэт выступает в роли древнего жреца-жертвоприносителя, который расчленяет изначальное единство (жертвенное животное). Самоотнесение загадки после того, как „ответ следует из вопроса, но вопрос определяется ответом ‹...› можно понимать как иконическое отражение жертвоприношения” (там же, 67) таково: жертвоприноситель (т.е. предлагающий загадку) одновременно является жертвой (т.е. отгадчиком) и наоборот. Эта взаимосвязанность жертвы и жертвоприносителя занимает центральное место в дионисийской поэзии В. Иванова.
27
В архаизме Хлебникова она лишена какой-либо личностной составляющей и входит в структуру самого текста.
Магико-культовый процесс “демонтажа”, “перераспределения” и метаморфической “сборки заново” аналогичен всем творческим актам оживления, возрождения, дионисийско-христианского „умереть и восстать”. Как и во всех культах, “конец” всегда неизбежен, т.е. (дионисийская) трагедия хорошо известна зрителю — как в своём развитии, так и в драматургическом разрешении — ещё за порогом театра (точно так же христианину и в голову не придёт сомневаться насчёт литургии: как-то получится на сей раз?). Соответственно, зритель (равно и адресат анаграммы) отнюдь не подвержен фрейдистскому позыву разгадать (если при этом задумано снятие “напряжения”): он решает вопрос, ответ на который ему заранее известен; ответ этот как бы содержится в структуре означающих вопроса — и становится очевидным, если зритель переходит от предлагаемой подсказки на уровень редуцирования до элементов “стихий” (στιχεια), т.е., по сути, к тому, что современная поэтика (особенно Якобсон) называет поэтическим вдохновением. Магически-мифическое (в дальнейшем герметично-таинственное, каббалистическое) ‘знать’ всегда утвердительно, ни в коей мере не представляет неожиданности: это математически выверенное ожидание, чуждое богатого напряжением семантического “зазора” между первоначально ожидаемым и предлагаемым, как это демонстрирует З. Фрейд в его теории шутки28 — как раз наоборот: архаичный текст утверждает космос, своими компонентами — аналог (и гомолог) языково-материальной структуры мира.
— как раз наоборот: архаичный текст утверждает космос, своими компонентами — аналог (и гомолог) языково-материальной структуры мира.
Напряжение при разгадывании загадки заключается изначально не в эффекте отчуждения, а в том процессе разрешения (впоследствии названном терапевтическим), который равнозначен культовому акту — и в то же время (см. бой со Сфинксом! ) представляет собой вопрос выживания. Выигрывает тот, у кого есть правильное слово (то есть “имя Бога”): если вы не сложите буквы должным образом — вы погибнете. “Напряжение” возникает из-за ощутимого интервала между текстом 1 и текстом 2 (в конечном итоге, сложенным “Первопричиной”), так как в ходе этого отыскания слова в отгадчике происходит самооткрытие, как если бы он разгадал текст собственной жизни и, тем самым, наткнулся на собственное имя. Если результат попытки — не “попадание на 100%” (но, тем не менее, существенно), тогда это процесс, продвижение к разрешению — не к теме, а к структуре. “Инвентарь” архаических текстов строится „таким образом, что ему соответствует множество (в принципе) изоморфных образов основного предмета” (Елизаренкова / Топоров, 59), при этом сценарий ритуала состоит в “сотворении Вселенной” для перепросмотра. Таким образом, каждый текст структурно повторяет строительство и демонтаж всего космоса — правда, в микрокосмическом моделировании.
В этом отношении всякий архаический текст есть, по сути, загадка (т.е. и анаграмма), ибо Творец мира задумал мир как загадку, имеющую готовый ответ (в его “disiecta membra”). Особенно показателен знаменитый индийский гимн богине речи Вак, само имя которой можно реконструировать по фактуре гимна (там же, 69): Вак — в равной мере и “пра-поэт”, и демиургический творец мира-текста, и “субъект и объект” гимна. Этот гимн оказывается парадигмой (как её понимал Г. Шолем в своем каббалистическом исследовании) для самогó магически-мифического текста.
Конечно, между загадкой и анаграммой есть разница: загадка в принципе может быть решена правильно и полностью (В.Н. Топоров. Анаграмма в загадках. Там же, 181), с другой стороны, анаграмматический уровень текстов часто зыбок, многозначен; остаётся неразрешимый, не разгаданный остаток. Если, по Джоллесу (Simple Forms, 1925, 1929: 129), „миф есть ответ, в котором содержался вопрос, и если загадка являет прямо противоположную ситуацию, то анаграмма — это вопрос, содержащий другой вопрос, — и так до бесконечности. Прагматическая ситуация (анаграмматической) загадки на самом деле парадоксальна: загадчик задаёт вопрос, ответ на который он уже знает (т.е. “риторический вопрос”, вопрос о том, что известно заранее), отгадчик же отвечает на вопрос, который он и не думал задавать” (П. Гржибек 1987: 21, 32).
Мифопоэтика или неомифологизм современности (в частности, хлебниковская архаика) оперирует приёмом “развёртывания” от исходных фигур (преимущественно паронимических, метафорических) к порождаемым текстам разных жанров. В хлебниковедении разработка семантических фигур для текстов29 была признана главным порождающим принципом, при этом в центре внимания находилась реализация метафор, в особенности, каламбуров (то есть паронимов). Хлебников (и вообще нынешний архаизм) также использует приём “развёртывания анаграмм”, который я бы назвал “постановочной анаграммой”. Речь идёт о представлении процесса анаграммирования (т.е. “поэзиса”) на поверхности текста (в V-эстетике — чистый акт “обнажения”). Собственно, буквы криптограммы — “ответ” на заданную загадку — предметно рассматриваются не только в её результате, но и как процесс постановки вопроса; знаменательная структура означающего, репрезентирующая означаемое (хотя и выборочно) текста 2 (= криптограмма), становится внутриязыковым референтом текста 1: в этом проявляется общая проблема архаичных текстовых принципов в рамках современного, недавнего языкового мышления. У “словотворца” наших дней имеется единственная возможность: построить на основе архаических (или всеобщих) правил и элементов (ср. фонетическая семантика Хлебникова) неологический код, который затем снова десакрализуется и секуляризуется в тех же мифопоэтических текстах, где он реализован, в том смысле, что его компоненты (στοι χειαι, т.е. графемы и фонемы) и его правила комбинации (его “грамматика”) по теме текста 1 оказываются актантами или объектами дискурса, который сочинитель поэтически излагает, и в диалоге с этой “грамматикой”. При этом, однако, “криптум” текста 2 (подстановка, объект разрешения, распутывания) становится “апертумом”, „латентное” (Фрейд) становится „манифестным”, тогда как объектно-языковая референция текста 1 в определённой степени становится “криптумом” — по крайней мере, в том, что касается ссылки на нарративную или риторическую модель вероятности, поскольку лингвистические факты теперь стали фактами реальности. С другой стороны, в крайних случаях языковая референция смещается на уровень реконструируемого текста 2.
была признана главным порождающим принципом, при этом в центре внимания находилась реализация метафор, в особенности, каламбуров (то есть паронимов). Хлебников (и вообще нынешний архаизм) также использует приём “развёртывания анаграмм”, который я бы назвал “постановочной анаграммой”. Речь идёт о представлении процесса анаграммирования (т.е. “поэзиса”) на поверхности текста (в V-эстетике — чистый акт “обнажения”). Собственно, буквы криптограммы — “ответ” на заданную загадку — предметно рассматриваются не только в её результате, но и как процесс постановки вопроса; знаменательная структура означающего, репрезентирующая означаемое (хотя и выборочно) текста 2 (= криптограмма), становится внутриязыковым референтом текста 1: в этом проявляется общая проблема архаичных текстовых принципов в рамках современного, недавнего языкового мышления. У “словотворца” наших дней имеется единственная возможность: построить на основе архаических (или всеобщих) правил и элементов (ср. фонетическая семантика Хлебникова) неологический код, который затем снова десакрализуется и секуляризуется в тех же мифопоэтических текстах, где он реализован, в том смысле, что его компоненты (στοι χειαι, т.е. графемы и фонемы) и его правила комбинации (его “грамматика”) по теме текста 1 оказываются актантами или объектами дискурса, который сочинитель поэтически излагает, и в диалоге с этой “грамматикой”. При этом, однако, “криптум” текста 2 (подстановка, объект разрешения, распутывания) становится “апертумом”, „латентное” (Фрейд) становится „манифестным”, тогда как объектно-языковая референция текста 1 в определённой степени становится “криптумом” — по крайней мере, в том, что касается ссылки на нарративную или риторическую модель вероятности, поскольку лингвистические факты теперь стали фактами реальности. С другой стороны, в крайних случаях языковая референция смещается на уровень реконструируемого текста 2.
На первый взгляд, получается пустая или — по меньшей мере — абсурдная загадка, которая — как минимум на прагматическом уровне этого жанра — представляет собой текст, дающий ответ без соответствующего вопроса. Инсценированная анаграмма “иллюстрирует” в какой-то мере только что созданный языковой мифический код и одновременно демонстрирует создание его правил, как это бывает в том случае, когда Хлебников представляет семантические парадигмы (т.е. “парегмены”) как тексты, причём автономные литературные тексты. У таковых, кроме всего прочего, есть наглядная цель: неологическим кодом, который они поясняют на примере, соблазнять как образцом.
Все приёмы осознанного, персонифицированного развития смысловых фигур соответствуют “постановочной анаграмме” — по классической формуле А. Белого, что у Маяковского (да и вообще в гротескной поэтике) „гипербола идёт в штанах”.30 Тем не менее, имеется отличие: семантическая фигура (т.е. паремическая формула, взятая буквально), а также процессы звуковой эквивалентности (аллитерация, паронимия, каламбур и т.д.) — это определённо (и прежде всего) звукоэстетические, просодико-акустические феномены, возникающие при говорении и прослушивания и/или расшифровке. “Игра слов” паронимии31
Тем не менее, имеется отличие: семантическая фигура (т.е. паремическая формула, взятая буквально), а также процессы звуковой эквивалентности (аллитерация, паронимия, каламбур и т.д.) — это определённо (и прежде всего) звукоэстетические, просодико-акустические феномены, возникающие при говорении и прослушивания и/или расшифровке. “Игра слов” паронимии31 (или каламбур) может — по всем правилам остроумия — разрешиться в самый момент речевого акта (или с небольшой задержкой), что предполагает и семантическое воздействие: порождение новых смысловых связей за счёт эквивалентностей на означаемом уровне может быть достигнуто незамедлительно), так как все смыслообразующие процессы устных жанров обязаны окончательно реализоваться во временнóй среде (т.е. последовательно). Однако в силу своего архаичности (предполагающей семантическое или мифическое пространство), анаграмма относится к сфере пространственных медиа, т.е. предполагает “письменность” в своей реализации.32
(или каламбур) может — по всем правилам остроумия — разрешиться в самый момент речевого акта (или с небольшой задержкой), что предполагает и семантическое воздействие: порождение новых смысловых связей за счёт эквивалентностей на означаемом уровне может быть достигнуто незамедлительно), так как все смыслообразующие процессы устных жанров обязаны окончательно реализоваться во временнóй среде (т.е. последовательно). Однако в силу своего архаичности (предполагающей семантическое или мифическое пространство), анаграмма относится к сфере пространственных медиа, т.е. предполагает “письменность” в своей реализации.32 Текст 1 образует анаграмматический текст (точнее, фактуру, поверхность текста) — последовательную, медиальную во времени структуру (с соответствующей референцией), тогда как текст 2 функционирует пространственно. Под текучей фактурой (1) “основа” языка (код, инграмма мирового языка, т.е. имя Бога) становится видимой, полупрозрачной, тогда как в случае иллюзорного, измышленного взгляда на фактуру таковая осказывается зеркальной поверхностью для нарцисса: то, что было до того, как текст стал видимым, проецируется на него.
Текст 1 образует анаграмматический текст (точнее, фактуру, поверхность текста) — последовательную, медиальную во времени структуру (с соответствующей референцией), тогда как текст 2 функционирует пространственно. Под текучей фактурой (1) “основа” языка (код, инграмма мирового языка, т.е. имя Бога) становится видимой, полупрозрачной, тогда как в случае иллюзорного, измышленного взгляда на фактуру таковая осказывается зеркальной поверхностью для нарцисса: то, что было до того, как текст стал видимым, проецируется на него.
Если паронимия состоит в “видоизменении” (т.е. парадигматическом склонении или спряжении) гласного, изменение которого всегда порождает новые лексемы, а согласные остаются прежними, — то в случае архаической анаграммы (по крайней мере, у Хлебникова) отношения прямо противоположны: согласные (т.е. собственно значащие звуки, “названия звуков”, см. выше) различаются, но не по своей субстанции (или означающей структуре), а по своей позиции в тексте. Гласные играют подчинённую роль. Существенным в любом случае является перераспределение в анаграмматическом пространстве текста. Если в 1-ом случае вариация гласного звука делает возможной значение комбинации согласного, это в 2-ом случае возникает (новое) сочетание согласных, создающее новое значение самого текста.
Следующий забавный пример паронимического развёртывания (в сочетании со “сдвиговыми” словами или каламбурами) весьма наглядно показывает это различие (множество других примеров можно найти в упомянутом хлебниковском сочинении Якобсона33 ):
):
— Вы богородица?
— Да, я богородица.
— Садитесь, не хотите ли вина?
Может, вы любите какие-нибудь блюда?
О. только спросите и ответьте люблю? да?
Здесь нет прибора.
Нисса, подайте прибор богородице!
— Извините — моя вина — я не знаю, в чём моя вина.
Ах, вы не желаете вина?
Ну, тогда, может быть, вы хотите чаю?
— Я чаю воскресения мертвых.
— Ах, вы не хотите чай.
Ну, тогда тáк посидите.
Я хотела бы вам сказать: за мной идите.
НП: 422
Именная шутка, т.е. паронимическая деривация имён собственных, часто представлена у Хлебникова в голом виде — как в его пародийном тексте «Карамора № 2-ой» (НП: 202). Здесь сам термин “каламбур” становится частью реализации замысла:
О том что есть, мы можем лишь молчать.
На то, что сказано, легла лукавая печать. ‹...›
Вот новая Сафо; внучка какого-то деда.
Она начинала родовое имя с “дэ”, да.
Как Сафо, она, мне мнится, кого-то извела.
Как софа, она и мягка, и широка, но тоже не звала.
Сафо с утра прельщает нас,
Когда заутра всходим на Парнас.
„Куда идёшь? Куда идёшь?
Я — здесь, Сафо, о, молодёжь!”
Софа зовёт прилечь, уснуть,
Когда идти иссякла нудь. ‹...›
Но, знать, пора уж в скуки буре
Цветку завянуть в каламбуре. ‹...›
————————
Примечания 22
22 В то время как в символизме (лирическое) эго представляет аналог (воображаемому) миру (т.е. выказывает к нему своего рода метафорическое отношение), у Хлебникова архаическое эго стоит в отношении к миру “pars pro toto”, образуя (метонимически) его часть (заменяемую):
Мудростью языка давно уже вскрыта световая природа мира. Его “я” совпадает с жизнью света (V: 231). Архаическое Я децентрализовано, но не как в символизме, где оно — олицетворение (герменевтической) точки зрения на мир или, наоборот, центральный перспективный фокус его трёхмерности или фиктивной симуляции: архаическое Я децентрализовано (подобно формализму, хотя и с совершенно другой мотивацией — ср. об этом A.H.-L. 1978: 175 и далее), оно одинаково встраивается (как пазл в картинку) между “вещами” и их “именами” (при этом “я” зачастую взято в кавычки): „Личность представляется Хлебникову как чаша, как
имя — чаша, вместилище названных атрибутом имени протекания и отражения, есть изоляция частного в общем, есть мир и не-мир, “я” и “не-я”, т.е. “иной”, “возможный” (Н. Башмакова 1987: 77 и 181). См. Хлебников, НП: 250:
Я забывал тебя во всяком взоре, |
Я зрил твоё в зазоре, |
Но знал, что я — уже не я, |
И ты моих снопов жнея ‹...› |
Я был угрюм и одинок ‹...› В перспективе Я может обращаться к вербализованному “Я” (или его “имени”) как к двойнику: ‹...›
Но спрашивать не буду. Куда же мы идём, мой “мой”? (IV: 235).
Наряду с дроблением Я на множество “я-имя-вещей” происходит и коллективизация Я как “мы”, как толпы людей:
Это обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности, это не ты и не он, а твёрдое “я” пожара рабочей свободы, это заводской гудок ‹...› (V: 223). И, наоборот, Я “изъято” из сообщества “Мы”:
Мягкую медь меча “я” перерубил железный меч из “Мы” (V: 43). “Люди” или “страна” — тоже собирательные названия, в которые “вписано” индивидуальное имя — и тоже в буквальном смысле: ‹...›
Имя прочтёте моё тёмное, как среди звёзд Нева, |
Среди клюкву смерти [ср. с “клювом” людоедского
Журавля!]
проливших за то, чему имя старинное “родина”. |
А имя моё страшней и тревожней |
На столе пузырька |
С парой костей у слов „осторожней, |
Живые пока!” (III: 16).
Подобную “коллективизацию” Я наблюдаем в «Петербурге» А. Белого: „‹...› будто я — не я, а какие-то “мы” ‹...› А вот память расстроилась ‹...› начало какого-то мозгового расстройства..” (82).
Эта децентрализация Я в конечном счёте также является главной темой „феноменологической эксцентричности присутствия и субъективности” (о Дерриде в этом контексте и Гуссерле ср. Horisch 1979: 33 и далее) В этом смысле Хлебников был бы типичным представителем “деконструктивизма” или его идеальным объектом изучения.
В случае раннего Маяковского Я — здесь ещё раз проявляется его близость к позднему символизму — есть отправная точка (взрывной, освобождающей) экспансии, часто реализуемой как (слишком маленькая) комната или домик, см. «Облако в штанах»: „И чувствую — | “я” для меня малó. | Кто-то из меня вырывается упрямо” (I: 179).
 23
23 Об анаграмматической связи между ‘имя’ и ‘есть’ (в смысле ‘питаться’) см. A.H.-L. 1987: 106: Слово ‘им-я’ связано как с дательным падежом множественного числа ‘они’ — ‘им’, так и с прошедшим временем ‘иметь’ (т.е. ‘им-ел’), со второй “частью”. Слова-имена ‘ел’ встречается прямо или „перевертнем” и в других ключевых словах — например, в имени ‘Х
лебников’. Целая коллекция таких “ел” находится в хлебниковском «Слове об Эль» (III: 70–74), а также в «Зангези» (III: 327). Имена персонажей гоголевской гротескной поэтики также часто характеризуются тем, что они — речь о тематическом уровне — реализуют мотив ‘поедания’ или ‘пищи’ („съестные наименования” — ср. комментарии в М.С Альтман 1982: 107–109).
 24
24 Как правило, персонификацию или материализацию ‘слова’ Хлебников отмечает кавычками, что придаёт им характер цитат (ср. комментарии к “надписям” выше). Здесь интересно сравнение с маркировкой
чужого слова кавычками (или курсивом) в контексте речевой интерференции стилизованной прозы, например у Достоевского (ср. В. Шмид о роли графической сигнализации речевой интерференции, W. Schmid [1973] 1986: 42). Хлебниковское “слово”, взятое в кавычки, не является цитатой (из чужой речи), оно относится к уровню буквально взятых слов, к тому “слову-вещи”, на котором можно ещё и “стоять”: ‹...›
Стоя на палубе слова “надгосударство звезды” |
И не нуждаясь в палке в час этой качки, |
мы спрашиваем: что выше: | ‹...› (III: 21). Слово, взятое в кавычки, часто само является актантом того действия, на которое оно ссылается, т.е. говорит то, что говорит:
В эти дни странной гордостью звучало слово ‘большевичка’, и скоро стало ясно, что сумерки “сегодня” скоро будут прорезаны выстрелами (IV: 109). Иногда к персонажу имени этого “слова” обращаются прямо:
Детуся! Если устали глаза быть широкими, |
Если согласны на имя “браток”, |
Я, синеокий, клянуся ‹...› (III: 149). В случае с Маяковским описываемая здесь разновидность регулярно носит характер цитаты, поскольку “цитируемое” слово явно происходит из чужого (или отчуждённого, дистанцированного) дискурса или отсылает к нему: „‹...› Вошла ты, | резкая, как нате!” (
Маяковский. Облако. I: 178); „‹...› во рту | умерших слов разлагаются трупики, | только два живут, жирея — | “сволочь” | и ещё какое-то, | кажется — “борщ” ‹...›” (I: 182); „‹...› по скалам | будет читать | «Задушевное слово» ‹...›” (1: 119). Нечто подобное есть, хотя и реже, у Хлебникова: ‹...›
Речи с запахом дела, |
Собаке залаявшей брошено: „цыц!” (III: 196).
 25
25 Также по В.Н. Топорову (1987b: 232 и далее): анаграмма изначально — и в первую очередь — текст-головоломка; отличие от загадки, разумеется, в том, что „хотя и в загадочной форме, ответ (отгадка) дан, причём в его стандартной звуковой подаче; исходя из него, необходимо найти звуковую мотивировку ответа в тексте вопроса” (там же, 233). Таким образом, анаграмма изначально была средством „декодирования криптограмматического уровня текста” (193). Необходимо, тем не менее, определить то “анаграмматическое поле” в текстах („зону благоприятия для анаграмм”, 194), которое с наибольшей вероятностью приводит нас к предположению об анаграммах. Именно этим пренебрёг Соссюр в своём поиске анаграмм (Топоров говорит о „бессмысленном поиске анаграмм”). Анаграмма вызывает “дискретное”, неоднородное прочтение текстов („прерывистое чтение”), даже инверсивное („обратное направление чтения”), вследствие чего вышеупомянутая близость к пространственным искусствам становится очевидной (там же, 194): „‹...› верх (квинтэссенция) смысла соотносится с низом формы, с предельно внешними и случайными её элементами (так сказать, “форма формализма”, которая настолько разведена с содержанием, что сама мысль о её семантизации кажется малореальной” (195). Таким образом, семантизируются те языковые элементы, которые “лежат ниже той границы, где обычно начинается сфера содержания”.
 26
26 Задача скальдов и шаманов — т.е. первоначальных поэтов — заключалась в том, чтобы скрыть тайну и заново открыть её в тексте (R. von Ranke-Graves 1985: 62), поскольку все старые саги и рассказы были „объяснениями ритуалов и религиозных теорий, наложенных на исторические темы; это была доктринальная структура, соответствующая еврейским Писаниям и имеющая с ними много общего” (там же, 67). “Разложение” тайного слова (или криптонима) на составные части обычно трактуется как “расчленение”, т.е. культовый акт жертвоприношения (В.Н. Топоров, 1987б: 215; ср. также А.Х.-Л., 1987: 93 и далее). Интересна в этом контексте глубинно-психологическая интерпретация Ж. Деррида (J. Derrida 1979: 7 и далее) феномена “крипты” или “криптограммы” в связи с анализом фрейдовского „человека-волка” в Abraham-Torok 1979: 65 и далее. Аспект “инкорпорации” (как и первичный мотив “поедания слов”) здесь тоже связан с психологическим феноменом “интроекции”: крипта всегда интериоризация, инкорпорация (J. Derrida 1979: 12), для которой интроекция является поименованием (отсюда “криптонимия”, 7) привилегированным средством (там же, 14). Анализ криптонимов, предпринятый Абрахамом и Тороком в самом знаменитом случае Фрейда, является, к сожалению, крайне дилетантским с лингвистической точки зрения и страдает, прежде всего, тем, что авторы не говорят по-русски (собственное признание, там же, 109). Тем не менее, наблюдения о „криптонимическом сдвиге” (Abraham-Torok 1979: 85 и далее) остаются важными: „‹...› Смежность, которая направляет эту процедуру, не относится ни к порядку репрезентации вещей, ни к предметному словарному представлению, а следует за лексикологически единой смежностью разных значений одного и того же слова, т.е. аллосемии, приведенной в репертуаре словаря” (там же, 90). Таким образом, криптонимия — это „замена слова синонимом аллосемы” (там же).
Сам Хлебников сравнивает скрытую анаграмму с воином, спрятанным в троянском коне (следует отметить, что ‘конь’ имеет высокую частотность и значение в мифопоэзии Хлебникова): ‹...›
«Крылышкуя и т.д.» потому прекрасно, что в нём, как в коне Трои, сидит слово ушкуй (разбойник). “Крылышкуя” скрыл ушкуя деревянный конь (V: 194; ср. Б. Лёнквист 1979: 55). Не случайно A. Туфанов использовал эту хлебниковскую находку для своей “заумной поэзии” в качестве названия книги (
А. Туфанов. Ушкуйники. Фрагменты поэмы.
Л. 1927).
 27
27 Слияние Диониса и Христа как “жертвующей жертвы” находится в центре мифопоэзии В. Иванова, да и всего мифопоэтического символизма (ср. А.Х.-Л. 1984).
 28
28 Шутка с именами у З. Фрейда оперирует буквальным восприятием семантики имени и возникающим при этом несовпадении с обиходной точкой зрения на него как на как произвольное поименование. С другой стороны, при толковании сновидений “каламбур имени” служит аналитическим инструментом для обнаружения “подлинных” намерений и движущих сил пациента. Б. Лённквист (1979: 54 и далее) правильно говорит о „загадке и шутке” в связи с хлебниковской игрой омонимами.
 29
29 См. о поэтике “развёртывания” А.Х.-Л. (1978: 128 и далее; 1982: 197–252, специально для разработки имён 216). Соответствующим мотивом для поэтического приёма “развёртывания” является “выращивание” слова из “звуко-семян”:
Слово живёт двойной жизнью. То оно просто растёт как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой иизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени ‹...›
звук становится “именем” и покорно исполняет приказы разума (V: 222).
 30
30 А. Белый 1934: 114–115.
 31
31 Удивительно, что и по сей день даже в литературоведении изложенное здесь различие между анаграммой и паронимией почти не учитывается. Например, В.П. Григорьев (1979: 25 и далее) упорно говорит о „паронимическом взрыве в русской поэзии XX века”: Соссюр, по Григорьеву, (там же, 264) под анаграммой понимал, прежде всего, “анафонию”, что не соответствует действительности.
 32
32 Ж. Деррида (J. Derrida 1972: 30 и далее) сосредоточился именно на этом аспекте “пространственности” в своей реабилитации “письменности”, т.е. “написанного”, в отличие от “устной речи”, столь популярной в наше время. “Структурное чтение” предполагает пространственность текста, т.е. “одновременность книги” (там же, 43): „Книга, подобно “картине в движении”, разворачивается через последовательные фрагменты. Читатель должен обратить вспять эту естественную тенденцию книги ‹...› Только чтение, которое превращает книгу в одновременную сеть взаимных отношений, является полноценным ‹...›” (там же). Налицо стремление именно к “одновременности мифа”, которая противостоит преемственности и линейности эпоса (44). В этом отношении “письмо” даже более архаично, чем устная речь и её жанры (там же, 155; ср. также J. Derrida 1972: 224 о значении письма). „Язык — в письменном образе слова, в знаках, в буквах, граммате. Вот почему грамматика представляет собой существующий язык. С другой стороны, язык присутствует в речевом потоке отнюдь не всегда”. (J. Derrida 1972: 282). В связи с психоанализом Фрейда Деррида (также начиная с Ж. Лакана) сравнивает психику с „письмом (пейзажем)” (J. Derrida 1972: 302 и далее, 316). Критику фоноцентризма Соссюра в лингвистике см. также J. Hörisch 1979: 11 и далее: „Крайний концептуальный реализм и каббалистическая теория божественного имени настаивают исключительно на святости не речи, а письма, его дифференцированной отложенной структуры и неуловимой ретроспективности фундаментальной незавершённости божественной последовательности букв YHWH ‹...›”(12). Поэтому деконструкция в письме или чтении всегда означает парадигматическое отношение к текстовому пространству: Даже принадлежа к тому, над чем думает господствовать голос, письмо участвует в порядке вещей, который, в отличие от устной речи, не знает подлинного владельца (там же, 14).
 33
33 Марина Цветаева в своём знаменитом “имя”-стихотворении дословно взятую (эротическую) “артикуляцию” имени (возлюбленного) раскладывает на „пять букв”, подсказкой „имя” раскрывая, в чём суть дела: „Имя твоё — птица в руке, | Имя твоё льдинка на языке, | ‹...› И имя твоё — пять букв. | ‹...› Серебряный бубенец во рту‹...›” (
М. Цветаева. Разлука. [1916]. С. 43).
Воспроизведено по:
Wiener slawistischer Almanach. 21. 1988. P. 148–159, 204–209.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
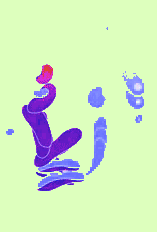
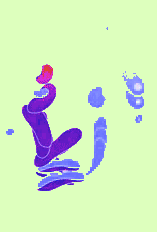
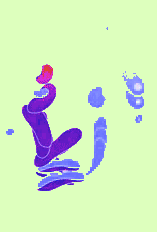
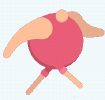
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()