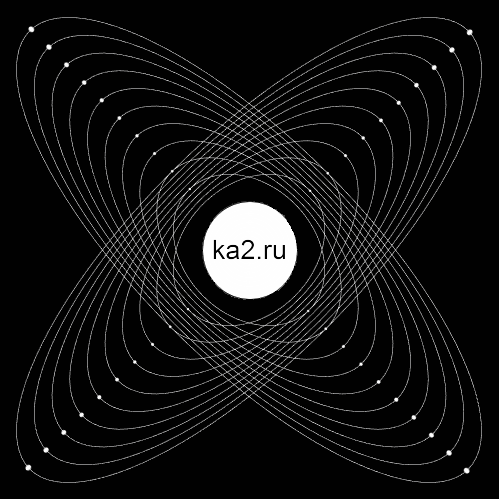Жан-Клод Ланн
Футуристский Путестан: попытка годографии
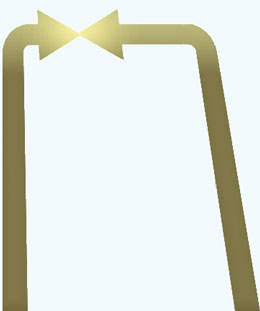
режде всего, я хотел бы пояснить заглавие, которое может показаться загадочным, и эта расшифровка одновременно будет раскрытием предмета моего исследования. В опубликованных рукописях поэт-футурист В. Хлебников дважды использовал неологизм
путестан (понятный в обоих составляющих:
путе — путь и
стан — страна), чтобы обозначить одним словом своего “идиолекта” утопию, которую он стремился создать при помощи “словотворчества”: “страна путей” и — подчёркиваю второй член синтагмы — путей сообщения. Этот термин развит и пояснён в двух его стихотворениях, которые я процитирую ниже. Что касается “годографии” (от
όδεύω — путешествовать, ездить), то она определяет суть моего проекта: дать обзор различных способов, с помощью которых деятели постсимволистского авангарда разработали не только поэтику дороги, но и, что мне кажется более важным, новую систему семантических сетей (сетей умопостигаемости), которые, строго говоря, и составляют “поэзию” словесного произведения.
Вот почему сначала я покажу значимость понятий пути, дороги и путешествия для поэтики футуристов, ибо таковая развивалась и наслаивала свои теоретические наработки вокруг этой совокупности, осмысливая себя в её специфике, а именно в свойствах перемещения в пространстве, которыми путь/дорога/стезя оперирует.
Во-вторых, я предполагаю коснуться поэтики путешествия, скитаний, странничества — темы, которая таинственным образом соединяет подспудную тягу к архаике с программой судьбы, в то же время устанавливая у большинства поэтов-авангардистов (Хлебников, Мандельштам, Цветаева) этику “неприкаянности”.
Наконец, я покажу, что все перемещения в пространстве, включая пространство смысла (“семантический топос”), регулируются ритмом, внутренним законом движения в пространстве и времени: итогом путешествия оказывается в полном смысле этого слова метод, верный способ достичь самого полного понимания окружающей действительности и языка.
Итак, я начну с трёх цитат, взятых из произведений будетлян (футуристов / “гилейцев”).
Вот отрывок из программного стихотворения А. Кручёных, опубликованного в сборнике «Мирсконца» в декабре 1912 г.:
Куют хвачи чёрные мечи
Собираются брыкачи
ратью отборную
тёмный путь
дальний путь ‹...›
1
В письме, адресованном своему соратнику, В. Хлебников истолковал это стихотворение как поэтический устав футуристического движения.
2
Я извлекаю из этой загадочной хартии только два стиха, где упоминается „тёмный путь, дальний путь”. Мне кажется, это действительно превосходное определение (учитывая непонятность стихотворения в целом!) типично футуристского “пути”, который, в идеале, ведёт за пределы опытного знания. Этот „тёмный дальний путь”, памятуя о заведомой неизвестности пункта назначения, тёмен вдвойне: средства, взятые на вооружение “поэтами будущего”, преднамеренно выбраны в соответствии с их способностью предлагать нечто выходящее за пределы бытового языка и ординарных умопостроений.
Вторая цитата касается знаменитого хлебниковского путестана:
Мой череп — путестан, где сложены слова,
Глыбы ума, понятий клади
И весь умерших дум обоз,
Как боги лба и звери сзади,
Полей неведомых извоз ‹...›
3
Я не хотел бы слишком подробно комментировать это стихотворение, вариант которого включён в
Плоскость XIX «Зангези», интересную тем, что здесь упоминаются
людей небесные пути.
4
Невероятно сильная метафора в этом стихотворении — человеческий
череп (череп поэта), вместилище средств производства мощных и плодотворных мыслей, которые будут переносить читателей по
небесным путям.
Ещё одно стихотворение, взятое из черновиков 1919–1921 годов, показывает Путестан воображаемой страной, где разрабатывается словесность и техника будущего. Нелишне отметить попутно, что для Хлебникова новинки современной техники неотделимы от их “неологического” словесного выражения, и эта практика, в свою очередь, неразрывно связана с возрождением наиболее архаичных лексических пластов (ср. “лётный” словарик Хлебникова для обозначения достижений современного в любом смысле искусства, каким является авиация5 ):
):
ПРОДУМА ПУТЕСТАНА
Огневицы окон
Дворца для толп.
Серый пол,
Четыре точки.
Труба самоголоса,
Столы речилища,
За круглым решетом железа
Песнекрики, тенекрылья у плеч,
Алошар игрополя,
Снегополя пляски теней,
Тенебуда у входа,
Руку для теней
Протянувшая к тенеполю.
Книгощётки снегополя,
Железный самоголос
Куёт речеложи отмеренную ярость.
Око путестана
Высоким снегополем
Светит вдали.6
Об этом стихотворении мы ещё поговорим при рассмотрении новых путей футуристической словесности, путей неологии (словотворчества) в дидактическом изложении В. Хлебникова («Наша основа»).
Завершающая цитата — из загадочного прозаического рассказа не менее загадочного писателя-футуриста С. Мясоедова «В дороге», опубликованного в первом выпуске «Садка судей» (апрель 1910). Рассказ этот настолько самобытен, что в письме, датированном апрелем 1911 г., В. Хлебников спрашивал у Е. Гуро: Пишет ли кто-нибудь. Мясоедов? На его блеянской земле положительно есть звёздный налёт, и он мог создать большое и прекрасное. Очень хорошо, что его писания — страна, которая не знает над собой никаких влияний.7
Мне трудно резюмировать это в высшей степени авангардное — т.е. наиболее показательное для того типа прозы, на который ориентировались как эгофутуристы, так и кубофутуристы (гилейцы) — произведение, где ничего не происходит, где главные действующие лица столь же мимолётны, как само действие, где весь интерес переносится с “содержания” на форму высказывания, на повествование как чистый принцип, освобождённый от назойливой массы бытовых подробностей. Всплывают названия, которые странно звучат: Диркяна, Аффиана, царства Келейское и Ноосянское. Рассказчик в течение неопределённого времени колесит по этой экзотике; на станциях обер (старший кондуктор) изо всех сил выкрикивает их замысловатые названия. Наконец, поезд пересекает границу Блейяны (заумное, по Кручёных, слово, где слышен отголосок блеяния овец8 ).
).
С точки зрения мотива “дороги”, давшего название рассказу, последний представляет некоторые на первый взгляд странные особенности, которые группируются в смысловую конфигурацию, оказывающуюся эмблемой футуристической поэтики применительно к прозе. Во-первых, тема путешествия (дороги) тесно — я бы даже сказал неразрывно, по законам тайной внутренней необходимости — связана с повествованием, как если бы путешествие (дорога, движение по ней и т.д.) было вынужденным аллонимом рассказа, и что уравнение “путешествие → повествование” обратимо (путешествие, “воображающее” рассказ). Во-вторых, эта поездка (и теснейшим образом связанный с ней рассказ) есть поездка именно в поезде: важная деталь, и не только потому, что поезд олицетворяет современность (подобно самолёту, кинематографу, автомобилю, телефону и т.д.) — он оказывается ещё и “топосом” авангардистской письменности. Здесь я имею в виду скорее не прихоть, а внутреннюю гомологию — или, лучше сказать, внутренний гоморитм — между “железнодорожным” письмом и самим ритмом локомотива и вагонов, которые он приводит в движение. Мандельштам убедительно показал это взаимопроникновение современной прозы и “железнодорожной” поэтики.9 Это, повторяю, не поэтика поезда или вокзала как таковых, а подчёркивание единосущности, поразительной “гомусии” между нарративным письмом и поездом, как будто железнодорожная локомоция (пространственное перемещение) и “вербимоция”. (перемещение в семантическом пространстве) были двумя репликами одного и того же парадигматического перемещения, или это пространственное перемещение было точным чувственным “образом” фундаментального и парадигматического (в платоновском смысле) путешествия по “небу” идей...
Это, повторяю, не поэтика поезда или вокзала как таковых, а подчёркивание единосущности, поразительной “гомусии” между нарративным письмом и поездом, как будто железнодорожная локомоция (пространственное перемещение) и “вербимоция”. (перемещение в семантическом пространстве) были двумя репликами одного и того же парадигматического перемещения, или это пространственное перемещение было точным чувственным “образом” фундаментального и парадигматического (в платоновском смысле) путешествия по “небу” идей...
В этом отрывке мотив пути обрисован в самых общих чертах, и его стоит процитировать полностью. В какой-то момент поезд останавливается, и старший кондуктор выкрикивает название станции:
Поезд со свистом остановился, обер вышел из него и со всей силой прокричал: Диркянский Джентильев №..., номер я не понял. Я открыл окно, посмотрел вверх и вниз. И там и сям виднелись множества путей и всё уходило в бесконечность. Пути шли параллельно земле и не было возможности подняться или опуститься даже к ближайшему. Обер любезно раскланялся с начальником станции и получил какие-то инструкции. Плохо разбирал я очертания всего бесчисленного ряда путей, и чужд был мне этот не родной Джентильев.
10
Воистину странна эта густая сеть путей, параллельных земле, воздушных путей, недоступных телу, пытающемуся ими воспользоваться. Позже я вернусь к этому столь важному в поэтике футуризма мотиву станции — коммуникационного железнодорожного узла с его путями, стрелками, водокачкой, пакгаузами, семафорами и т.д. Это именно фигура того, что производит повествование, в данном случае повествование Мясоедова, а шире — любое словесное произведение (рассказ, роман, очерк, поэма и т.д.) — на уровне высшей абстракции. Это объединение в сеть, установление связи, инициирование и передача смысла тем двигателем дискурса, которым является воображение, поддерживаемое автономным движением изображаемого, метафоры, которая отслеживает смысл рассказа, его путь и слог. Это начало самосплетающегося, самопроверяемого сочинения, которое лежит в основе футуристической поэтики, когда одни только слова (на самом деле ассоциации, цепочки образов) вытягивают, “дуализируют” дискурс.
Путешествие не имеет ни начала, ни пункта назначения. Эта деталь немаловажна. Отсутствие меток (начало/конец пути) переносится на само повествование, которое не начинается и не заканчивается. Отсутствие это не отменяется достигнутым пунктом назначения, оно увековечивается и продолжается без конца. Вообще говоря, этот рассказ о путешествии — скорее произвольная дедукция из бесконечного рассказа о мире, который и есть та самая “проза Мира”, неопределённый дискурс Мира — т.е., по Мандельштаму, истинная сущность прозы, — аритмичная, аморфная, языковая субстанция Мира.
Последнее — но имеющее первостепенное значение для футуристской поэтики путешествия — замечание: вояж героя рассказа Мясоедова сопровождается не только литанией выдуманных названий (Диркяна, Аффияна, Джентильев, Блейяна и др.), но и любопытным размышлением об иностранных языках и вызываемой ими некоммуникабельности (полная противоположность тому, чем является железная дорога!):
Брат мой всё время сомневался, в тот ли мы попали поезд, и хотел несколько раз слезать; иногда трудно было его удержать от этого, тогда он начинал любезно разговаривать с публикой в вагоне. Он почти совсем не знал диркянского языка, а всё же говорил. Конечно, его не понимали. Впрочем, он и блеянский язык знал далеко не в совершенстве. И странно: я в совершенстве говорю по-блеянски, Лёлечка ещё мала, но научится тоже, обер хорошо знал диркянский язык, хотя практика неверного наречия испортила его язык, но брат мой не владел хорошо ни одним языком, а понемногу зря изъяснялся на всех. Ввиду этого Лёлечка не хотела признать его за дядю и на все мои доводы, что ведь он брат её отца, она, пожалуй, не без некоторого основания отвечала: „Но он не умеет говорить, что же он за дядя”.
11
Независимо от того, появился ли феномен “ксеноглоссии” (иноземной или невнятной речи, “говорения на языках” или “глоссолалии”) и “идиоглоссии” (разговорного просторечия), одновременно с путешествием и рассказом о нём, налицо ещё одно указание на то, что рассказ Мясоедова — поэтика футуризма в действии. “Диегезис” неотделим от диалекта, на котором он выражен. “Диалект” является своего рода фактором и создателем “внеэтичных” или метафизических ландшафтов, а вовсе не пассивным их отражением. Здесь мы выходим на проблему футуристского идиолекта, который вместе с неологией и заумью приглашает нас в очень странное путешествие в „этимологическую ночь”12 языка. Т.е. возвращает к первой цитате — „дальнему и тёмному пути”, по которому следует передовой отряд храбрых будетлян (футуристов).
языка. Т.е. возвращает к первой цитате — „дальнему и тёмному пути”, по которому следует передовой отряд храбрых будетлян (футуристов).
Эти три цитаты разной длины и ценности, как мне кажется, суммируют всю проблематику пути/дороги/путешествия у футуристов. Мотив дороги, по сути, тематизирует и концептуализирует приём, лежащий в основе этой авангардной школы, а именно сдвиг. Этот приём (породивший целый трактат А. Кручёных «Сдвигология русского стиха») вытесняет все ценности традиционного литературного слога и серьёзно расстраивает экономику классического высказывания. Тем самым, сдвиг порождает “нестандартный” дискурс (иронический, пародийный, метафорический, аллегорический и т.д.), причём берёт верх над классикой ещё на “старте”. Сдвиг не опирается ни на что положительное или определённое, и это, благодаря первоначальному жесту, затрудняет — если не делает невозможной — какую-либо серьёзную и однозначную оценку работы, проделанной „потрясателями смыслов”.13 Таким образом, сдвиг влечёт за собой торможение, остановку процесса общения, начатого на языковом пути, будь то изобретение новых слов или воскрешение старых, редких, диалектных. Но прежде чем рассуждать об остром чутье эволюционных путей языка, которым обладали все футуристы (и В. Хлебников, разумеется), а также о неуёмной внутренней энергии на этом спонтанном движении или стихийном порыве, которые приводят большинство поэтов к “нарушению границ” — либо путём опять-таки неологии, либо с помощью скорости, вызванной “sui generis”, чем является образ, — я хотел бы кратко изложить фундаментальный теоретический текст футуристского авангарда (здесь в широком смысле “центробежной” ориентации), который ярко и философски глубоко раскрывает своеобразную “поэтику путешествия”. Речь о манифесте-эссе Б. Пастернака «Чёрный бокал», опубликованном во «Втором сборнике Центрифуги» (апрель 1916). Используя центрифугу и как “поэтический” образ (метафору), и как философскую концепцию, молодой Пастернак одновременно анализирует и “воплощает в жизнь” (словами, образами и движением) тайны „подвижного” (путешествующего, странствующего) письма футуризма, пытаясь уловить его внутреннюю динамику, которая вырывает и уносит вовне суть означаемого, объединяя таковую в движущиеся цепочки, поезда и составы образов, всегда находящиеся в движении, “в пути”.
Таким образом, сдвиг влечёт за собой торможение, остановку процесса общения, начатого на языковом пути, будь то изобретение новых слов или воскрешение старых, редких, диалектных. Но прежде чем рассуждать об остром чутье эволюционных путей языка, которым обладали все футуристы (и В. Хлебников, разумеется), а также о неуёмной внутренней энергии на этом спонтанном движении или стихийном порыве, которые приводят большинство поэтов к “нарушению границ” — либо путём опять-таки неологии, либо с помощью скорости, вызванной “sui generis”, чем является образ, — я хотел бы кратко изложить фундаментальный теоретический текст футуристского авангарда (здесь в широком смысле “центробежной” ориентации), который ярко и философски глубоко раскрывает своеобразную “поэтику путешествия”. Речь о манифесте-эссе Б. Пастернака «Чёрный бокал», опубликованном во «Втором сборнике Центрифуги» (апрель 1916). Используя центрифугу и как “поэтический” образ (метафору), и как философскую концепцию, молодой Пастернак одновременно анализирует и “воплощает в жизнь” (словами, образами и движением) тайны „подвижного” (путешествующего, странствующего) письма футуризма, пытаясь уловить его внутреннюю динамику, которая вырывает и уносит вовне суть означаемого, объединяя таковую в движущиеся цепочки, поезда и составы образов, всегда находящиеся в движении, “в пути”.
Подробный разбор этого текста, изобилующего метафоричностью, которая дискурсивно выполняет теоретико-поэтическую программу самой метафоры, занял бы непомерно много времени. Это несомненный теоретический и поэтический подвиг Пастернака, если учесть, как трудно говорить прямо, без околичностей, о центральной фигуре поэтической речи — метафоре. Вся статья написана под знаком пути (дороги), путешествия, пунктов отправления и назначения, транспорта и т.д.; с непревзойдённым искусством обыгрываются ассоциации или смысловые ряды, связывающие и сообщающие эти понятия между собой.
В «Чёрном бокале» художник (поэт-футурист) обращается к своим наставникам — передвижникам (художники-реалисты, организовывавшие передвижные выставки для распространения своего искусства) и импрессионистам, которых он мимоходом благодарит за то, что они открыли ему „тайну путей сообщения и тайны всяких столкновений”,14 определяя себя как „транспортёра”, „носильщика” и „укладчика”, который „в кратчайший срок” „упаковывает” „переносные смыслы” в своём „сердце лирика”:
определяя себя как „транспортёра”, „носильщика” и „укладчика”, который „в кратчайший срок” „упаковывает” „переносные смыслы” в своём „сердце лирика”:
В творчестве футуриста примерный манёвр досужего импрессионизма впервые становится делом насущной надобности, носильщик нацепляет себе бляху будущего, путешественнику выясняется его собственный маршрут. Более того: нарекая своего преемника футуристом, перевозчик по ремеслу молчаливо посвящает символизм в новосёлы облюбованных веком возможностей.
15
“Скорость”, стремительность „футуристических аббревиатур” (знаменитые “тахилогия” или “тахиграфия”, “стенография”, “скоропись” и т.п.) есть эффект „преобразования временного в вечное при посредстве лимитационного мгновения”. В этой статье, где семантическая насыщенность поистине поражает, с нарочитой поспешностью выводятся формулы, дабы попытаться как можно быстрее раскрыть тайну работы этого “неподвижного двигателя”, дающего первое движение речи поэта, совершающего “по дороге” сам акт говорения, поэтическую речь. Гениальность порыва молодого теоретика-футуриста состоит в том, что метафоре как деянию, созиданию (а не “вещи”!) отводится её законное “место” — „сердце поэта” как вместилища смысла и единственного хозяина движения (транспортировки) этого смысла. Стоит процитировать последний абзац, где виртуозно обыгрываются все возможные значения этимологически родственных терминов:
И скажите же теперь: как обойтись без одиноких упаковщиков, без укладчиков со своеобразным душевным складом, все помыслы которых были постоянно направлены на то, единственно, как должна сложиться жизнь, чтобы перенесло её сердце лирика, это вместилище переносного смысла, со знаком чёрного бокала, и с надписью: «Осторожно. Верх».
16
Подобно Аристотелю, пытавшемуся найти первичный неподвижный двигатель (принцип универсального движения), Пастернак в своём дерзком теоретизировании пытается исследовать инфигуративный принцип образности, неподвижный принцип перемещения семантической “метафоры”. Это нечто большее, чем исследование принципов метафоры и дискурса, которые оперирует образами с философских позиций, внешних по отношению к метафорическому феномену: как поэт, Пастернак переживает тот самый процесс, который он пытается объяснить читателю; этот процесс (или искусство) — таинственный “иконогонический” “генератор образов”. Пастернак ставит образ на службу образу, метафору на службу метафоре, чтобы прямо, без обиняков, раскрыть “производственную деятельность” образов и метафор. Если внимательно рассмотреть главнейшие понятия, очерчивающие “логологическую” проблематику «Чёрного бокала», а потом связать их с прозрениями полемической «Вассермановой реакции», обнаруживается, что метафора (в техническом, литературном смысле) есть начертание на языке перцептивного беспорядка лирически возвышенной души, “взаимовложения” ощущений, приостанавливающего индивидуальность вещей и явлений и сливающего, смешивающего предметы и их названия. Такое всеохватное взаимопроникновение Пастернак называет „смежностью”, причём смежность эта — не случайная смысловая близость, а результат напряжённой работы по сближению “далековатых” предметов, понятий и имён. Иначе говоря, «Чёрный бокал» — об исходном лирическом импульсе, своеобразном броске (или выбросе) субъективности.
Полагаю, в своём пространном отступлении мне удалось не “потерять дорогу” не “сбиться с пути”, который диктует свой закон и задаёт направление моим изысканиям. Этот экскурс в теорию футуристского поэтического дискурса одного из наиболее философски осведомлённых и проницательных художников движения (перемещения) позволяет оценить, до какой степени у таковых тема пути/дороги (в том смысле, какой Пастернак придаёт этому термину) соответствует внутренней моторике речи, возвращаемой в её родную стихию. Этот дискурс, управляемый воображением, пересекает — или, вернее, изобретает, создаёт, пробуждает — новые “территории” в соответствии с ритмом, внутренним законом и мерой движения.
Прежде чем приступить к рассмотрению эттх специфически футуристских “марша” и “маршрута”, я хотел бы вкратце затронуть тему путешествия и дороги в её тематической чистоте. Примечательно, что путешествие по дороге всегда исполнено духовным, этически глубоким смыслом (несомненно, наследием поэтики символизма), который, безусловно, изначально отождествлялся с “антибуржуазным” нежеланием закрепиться на месте, укорениться, с отказом от обывательской оседлости, которые был частью давней традиции. М. Цветаева нашла великолепные и окончательные формулы для прославления этого “призвания дороги” у современных поэтов,17 призвания, полностью выраженного строкой, добавленной поэтессой к её переводу «Пророка» Пушкина: „да будет дорога твоим домом!” Разумеется, речь идёт об этике путешествий, но и — даже с большей степени — о слове, которое описывает перемещение в пространстве, одновременно вписывая это изменение местоположения в то, что я бы назвал “программой судьбы”, без чего рассказ о реальном путешествии превращается в аллегорию. Из рассказа Мясоедова мы получили больше, нежели представление о поездке в вагоне. Думаю, именно у Хлебникова лучше всего воспринимается перформативная (исполнительская) ценность путевого нарратива, в том смысле, что последний выполняет предписание судьбы. Эта замечательная особенность касается не только художественного вымысла («Есира», например), который вторит аллегорическому (символистскому) рассказу о пути души, о посвящении, но и повествований реалистического толка — о подлинных путешествиях, например. Маршрут повторяет фигуру судьбы: плавание по Волге на север (в прозаическом отрывке «Разин. Две Троицы») и путешествие в Персию («Труба Гуль-Муллы») повторяют, имитируют (в режиме инверсии, палиндрома, в буквальном смысле перевёрнутой дороги) походы Разина. Иными словами, путевые рассказы Хлебникова, вторящие преданиям о прославленном бунтаре, кажутся современными репликами архетипической конфигурации судьбы — её “идеи” (в платоновском смысле этого слова), умопостигаемой структуры. Отнюдь неспроста автор путевых (автобиографических) заметок плывёт по великим рекам России или пересекает моря (Чёрное, Белое, Каспий): у Хлебникова река фоносемантически связана с роком; это и текучий путь Гераклита, и словесный образ судьбы, ведущий за пределы жизни, к последней истине. Осмелюсь пойти ещё дальше: путешествие “судьбы” по Волге есть паломничество, т.е. возвращение к источнику, воспетое в знаковых местах (Баку, Кавказ, Урал, Персия, которые уже фиксируют культурную память). П Это путешествие (как и всякое подлинное паломничество, тяга к “святому месту”, месту истины) суть магнит, тянущий к Востоку воскресений, телесных и духовных. Это путешествие Бодлера, смелое, безрассудное (“донжуанское” или “одиссейское”) исследование Запределья, Будетлянии, материка будущего; у Хлебникова, в пожирании пространства не уступающего Рембо, восхождение к архаике есть временнóй анабазис, прослеживающий “метагеографию”, ориентированную на источник, на внутреннюю истину языка и культуры. Ибо футуристское путешествие (ср. всё тот же рассказ Мясоедова или “скандальное” «Путешествие по всему свету» А. Кручёных,18
призвания, полностью выраженного строкой, добавленной поэтессой к её переводу «Пророка» Пушкина: „да будет дорога твоим домом!” Разумеется, речь идёт об этике путешествий, но и — даже с большей степени — о слове, которое описывает перемещение в пространстве, одновременно вписывая это изменение местоположения в то, что я бы назвал “программой судьбы”, без чего рассказ о реальном путешествии превращается в аллегорию. Из рассказа Мясоедова мы получили больше, нежели представление о поездке в вагоне. Думаю, именно у Хлебникова лучше всего воспринимается перформативная (исполнительская) ценность путевого нарратива, в том смысле, что последний выполняет предписание судьбы. Эта замечательная особенность касается не только художественного вымысла («Есира», например), который вторит аллегорическому (символистскому) рассказу о пути души, о посвящении, но и повествований реалистического толка — о подлинных путешествиях, например. Маршрут повторяет фигуру судьбы: плавание по Волге на север (в прозаическом отрывке «Разин. Две Троицы») и путешествие в Персию («Труба Гуль-Муллы») повторяют, имитируют (в режиме инверсии, палиндрома, в буквальном смысле перевёрнутой дороги) походы Разина. Иными словами, путевые рассказы Хлебникова, вторящие преданиям о прославленном бунтаре, кажутся современными репликами архетипической конфигурации судьбы — её “идеи” (в платоновском смысле этого слова), умопостигаемой структуры. Отнюдь неспроста автор путевых (автобиографических) заметок плывёт по великим рекам России или пересекает моря (Чёрное, Белое, Каспий): у Хлебникова река фоносемантически связана с роком; это и текучий путь Гераклита, и словесный образ судьбы, ведущий за пределы жизни, к последней истине. Осмелюсь пойти ещё дальше: путешествие “судьбы” по Волге есть паломничество, т.е. возвращение к источнику, воспетое в знаковых местах (Баку, Кавказ, Урал, Персия, которые уже фиксируют культурную память). П Это путешествие (как и всякое подлинное паломничество, тяга к “святому месту”, месту истины) суть магнит, тянущий к Востоку воскресений, телесных и духовных. Это путешествие Бодлера, смелое, безрассудное (“донжуанское” или “одиссейское”) исследование Запределья, Будетлянии, материка будущего; у Хлебникова, в пожирании пространства не уступающего Рембо, восхождение к архаике есть временнóй анабазис, прослеживающий “метагеографию”, ориентированную на источник, на внутреннюю истину языка и культуры. Ибо футуристское путешествие (ср. всё тот же рассказ Мясоедова или “скандальное” «Путешествие по всему свету» А. Кручёных,18 которое отвергает все рецепты жанра, выдвигая на передний план противоречие между словом и движением) хотя и оказывается путешествием в границах одного и того же “континента” — языка, смелый путешественник-паломник то и дело бестрепетно переходит пределы разумения, чтобы исследовать неведомую страну Заумь, погрузиться, по выражению О. Мандельштама, в “этимологическую ночь”. Это путешествие “sui generis”, которое следует (или, скорее, порождает, устанавливает их) своими собственными путями, путями внутреннего развития языка в его абсолютной самобытности.
которое отвергает все рецепты жанра, выдвигая на передний план противоречие между словом и движением) хотя и оказывается путешествием в границах одного и того же “континента” — языка, смелый путешественник-паломник то и дело бестрепетно переходит пределы разумения, чтобы исследовать неведомую страну Заумь, погрузиться, по выражению О. Мандельштама, в “этимологическую ночь”. Это путешествие “sui generis”, которое следует (или, скорее, порождает, устанавливает их) своими собственными путями, путями внутреннего развития языка в его абсолютной самобытности.
В этом путешествии внутрь языка (звуки и значения) я остановлюсь на двух важных моментах: словотворчестве и зауми. В обоих случаях мы находим дорогу, стезю, пути, организованные в сéти на “станциях”, в “центрах” смысловой связи, с мостами, подземными переходами, “развязками”, — словом, весь аппарат инженерного искусства путейцев языка.
Хлебников дал каноническую модель понимания языка как семантической сети, связующего звена между путями смысла и торными, избитыми дорогами бытового слова. Я процитирую самое начало теоретической статьи «Наша основа»:
Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом. Это потому, что нет счетоводных книг расходования народного разума. И нет путейцев языка. Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества.
Если б оказалось, что законы простых тел азбуки одинаковы для семьи языков, то для всей этой семьи народов можно было бы построить новый мировой язык — поезд с зеркалами слов Нью-Йорк — Москва. Если имеем две соседние долины с стеной гор между ними, путник может или взорвать эту гряду гор, или начать долгий окружной путь.
Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка.
Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаём путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания.19
Этот замечательный текст заслуживает подробного и скрупулёзного анализа, ибо здесь намечено нечто большее, чем программа словотворчества: провозглашается “экономия” речи, дискурса; предлагаются пути развития “tópos noètos”, понятийной территории, чтобы облегчить и ускорить общение. По сути, это не просто создание слов (“logopoièse”), а “sémiopoièse” (создание смыслов): своими “просеками” в ландшафте речи Хлебников и объясняет установление значения (которое, повторяю, есть действие, а не “вещь”), и тотчас применяет этот приём, метафорически (смещение значения) учреждая новую сеть “соответствий” (в техническом смысле этого термина, т.е. согласно лексикону общественного транспорта: развязки, эстакады и т.п.) — семантических коммуникаций, связей, отношений, что является отличительной чертой любого дискурса, но в первую очередь поэтического дискурса, хотя бы и в теории.
В пугающем семантическом круговороте, создаваемом этим текстом (лабиринтом смыслов-направлений), необходимо отметить существенный момент: поэт-проводник заводит нас, читателей, на зыбкую почву зауми. Хлебников объявляет себя в этом тексте путейцем языка, и он действительно намечает, прокладывает пути, но куда? Именно к путешествию вовне, за пределы общедоступной умопостигаемости манит он своей концепцией зауми, предпосылки которой налицо в этом отрывке. Сводя семантические операции к пространственной модели — горам, долинам, пробитым в горах тоннелям и т.д., Хлебников неудержимо идёт по “пути” абстракции — по тому самому, что Кручёных в своём учредительном манифесте назвал „новыми путями слова”.20 Определяя деятельность поэта-речетворца как работу гениального инженера, который строит мосты, взрывает скалы и т.д., чтобы спрямить переход из одной точки в другую (в соответствии с евклидовым принципом кратчайшего пути) во избежание отягощающих речь объездных путей, твёрдо придерживаясь противопоставления прямого пути кружному, окольному (крюку, обходу), Хлебников “абстрагирует” язык от его эмпирической пустой породы, чтобы поднять до уровня геометрической абстракции, превратить процесс осмысления в “кинетическую семантику”. Заумь есть не что иное, как “эйдетическое сведение” значения (как акта, процесса означивания) к серии упорядоченных движений между точками, линиями, плоскостями, поверхностями объёмных тел. Допустимо назвать эту абстрактную, воображаемую семантику (метасемантику) “трансцендентальной схемой чистых значений”. “Перемещения” этих идеальностей (точек, линий и т.п.) всегда совершаются от одной геометрической идеальности к другой (как бы предзаданной), и эти перемещения задаются, направляются, нацеливаются. Дело не в том, чтобы двигаться вперёд, ходить кругами, петлять, прыгать из стороны в сторону, как заяц в басне Лафонтена, а в том, чтобы добраться как можно быстрее, напрямую, от одного пункта к другому, согласно закону экономии движения. Пространственный образ, как мы видим, изменяет смысл процесса семиозиса (означения), сводя его к пространственно-кинетической схеме, и не факт, что этот схематизм и впрямь отображает суть смыслового процесса, который создаёт свои “объекты”, а не находит их в готовом виде или ограничиваться перемещением между ними. Я не буду подвергать сомнению простейшие категории (“Urbegriffe”) трансцендентальной и воображаемой семиологии Хлебникова, тем более критический (метапоэтический) её дискурс: образ, метафору, циркуляцию смысла, семантический путь (траекторию) и, прежде всего, фундаментальные категории направление/косвенность, фигура/прямое направление, “правильное” (кривизна, узел, петля, извилина и т.д.). Я лишь резюмирую общий дух этой металингвистической зауми: (поэтический) язык по своей природе является “кинематографией”, “годографией”, речевой записью “дорог”, а также путей и возрастаний “смысла”. С помощью этой поразительной метасемантики Хлебников исподтишка совершает в высшей степени подрывной акт: он десубстанцирует словесные выражения, “вербализует” “застывшие” категории языка (опять-таки субстантивные имена существительные, возвращая им их первоначальную природу, и глаголы, обозначающие темпоральность, движение, прогресс, перемещение во времени). Лившиц заметил, что у Хлебникова язык был разжижен.21
Определяя деятельность поэта-речетворца как работу гениального инженера, который строит мосты, взрывает скалы и т.д., чтобы спрямить переход из одной точки в другую (в соответствии с евклидовым принципом кратчайшего пути) во избежание отягощающих речь объездных путей, твёрдо придерживаясь противопоставления прямого пути кружному, окольному (крюку, обходу), Хлебников “абстрагирует” язык от его эмпирической пустой породы, чтобы поднять до уровня геометрической абстракции, превратить процесс осмысления в “кинетическую семантику”. Заумь есть не что иное, как “эйдетическое сведение” значения (как акта, процесса означивания) к серии упорядоченных движений между точками, линиями, плоскостями, поверхностями объёмных тел. Допустимо назвать эту абстрактную, воображаемую семантику (метасемантику) “трансцендентальной схемой чистых значений”. “Перемещения” этих идеальностей (точек, линий и т.п.) всегда совершаются от одной геометрической идеальности к другой (как бы предзаданной), и эти перемещения задаются, направляются, нацеливаются. Дело не в том, чтобы двигаться вперёд, ходить кругами, петлять, прыгать из стороны в сторону, как заяц в басне Лафонтена, а в том, чтобы добраться как можно быстрее, напрямую, от одного пункта к другому, согласно закону экономии движения. Пространственный образ, как мы видим, изменяет смысл процесса семиозиса (означения), сводя его к пространственно-кинетической схеме, и не факт, что этот схематизм и впрямь отображает суть смыслового процесса, который создаёт свои “объекты”, а не находит их в готовом виде или ограничиваться перемещением между ними. Я не буду подвергать сомнению простейшие категории (“Urbegriffe”) трансцендентальной и воображаемой семиологии Хлебникова, тем более критический (метапоэтический) её дискурс: образ, метафору, циркуляцию смысла, семантический путь (траекторию) и, прежде всего, фундаментальные категории направление/косвенность, фигура/прямое направление, “правильное” (кривизна, узел, петля, извилина и т.д.). Я лишь резюмирую общий дух этой металингвистической зауми: (поэтический) язык по своей природе является “кинематографией”, “годографией”, речевой записью “дорог”, а также путей и возрастаний “смысла”. С помощью этой поразительной метасемантики Хлебников исподтишка совершает в высшей степени подрывной акт: он десубстанцирует словесные выражения, “вербализует” “застывшие” категории языка (опять-таки субстантивные имена существительные, возвращая им их первоначальную природу, и глаголы, обозначающие темпоральность, движение, прогресс, перемещение во времени). Лившиц заметил, что у Хлебникова язык был разжижен.21 Я бы сказал, что он скорее “темпорализует” себя, но что темпорализация эта далека от разложения, растворения, разжижения, “ликвидации”. Скорее, это перекомпоновка и перестройка в соответствии с базовым законом языковых операций — ритмом, который, несомненно, есть высший “закон” и языка, и пути/дороги/путешествия, цели путешествия — закон homo viator, а не homo locutor, возвращающий нас снова, “по замкнутому кругу”, к ходьбе, “шагам” судьбы, к “предначертанному” путешествию. И мы находим в конце этого пути футуристический путестан в его применении к смыслу, к путешествию, к движению во времени отдельного человека и всего человечества.
Я бы сказал, что он скорее “темпорализует” себя, но что темпорализация эта далека от разложения, растворения, разжижения, “ликвидации”. Скорее, это перекомпоновка и перестройка в соответствии с базовым законом языковых операций — ритмом, который, несомненно, есть высший “закон” и языка, и пути/дороги/путешествия, цели путешествия — закон homo viator, а не homo locutor, возвращающий нас снова, “по замкнутому кругу”, к ходьбе, “шагам” судьбы, к “предначертанному” путешествию. И мы находим в конце этого пути футуристический путестан в его применении к смыслу, к путешествию, к движению во времени отдельного человека и всего человечества.
Неспроста Хлебников с юных лет постоянно — и в своём теоретизировании, и в поэтической практике — связывает воедино язык, города и народы: это неизбежное следствие крайней “сетецентричности” его мышления, острого восприятия существенных связей, единого принципа действия во всей совокупности явлений, которые создают и увековечивают безмерное движение вселенной из единого “Логоса”, закона движения мира: ритма, числа движения “до и после”, количества внутренних пульсаций.
Действительно, Хлебников измеряет, регулирует и ритмизирует всё им изучаемое, движимый страстным желанием отыскать проявления одного и того же же Логоса, один и тот же принцип. Для него языки, города и народы в их историческом развитии — смыслообразующие конструкции, семантические структуры и конфигурации (“идеи”), подчиняющиеся определённому принципу. Этот принцип, по мнению Хлебникова, он нашёл именно в числе и числоречи — уравнении, математической формуле. В своих «Досках судьбы» он представляет “ритмы человечества”, годографию пути человечества, размеченного “ударениями” судьбы, по образцу стихотворения (впомните формулу: Мир как стихотворение. Скорее, это “стихопоэз”, ибо речь идёт действительно о создании упорядоченного ряда, какова общеупотребительная речь). Поскольку поэт есть воистину Бог-Создатель этой поэмы-истории (carmen saeculare, по св. Августину), он знает её предел, точку Ω — тот апокалиптический момент, когда история “выпадет” из реальности, “деактивируется” и перейдёт к другому, более высокому порядку: к порядку Луча-истории, метаистории, где ряд событий, предписанных высшим Разумом-Волей (судьбой) — злой волей, интеллектом, непрозрачным для человеческого разума, — превратится в словесный ряд, написанный “поэтом-драматургом”, в театральную пьесу, сочинённую разумом и доброжелательным волеизъявлением Числобога (истинной фигуры и истинного имени судьбы), этого Бога-поэта или Поэта-бога, который есть простая и абсолютная истина древней судьбы.
Именно в этот Ω-момент футуристическое путешествие в будущее прекратится. Человечество, окончательно примирившееся с собой, высаживается на сушу: пункт назначения достигнут, судьба, после долгого странствия по “океану слов” и океану событий, свершилась. Поэт-Улисс и его спутники как бы вернулись на Итаку, но это иллюзия: за время отлучки всё изменилось — люди, сам Улисс, Итака. И целостная поэма, написанная поэтом-футуристом после окончания своего путешествия, — уже (помимо языка) другая поэма о другой стране: Путестан, чьё око сияет вдали, — вот как называется это единственное в своём роде место реализованной, свершившейся лингвистической утопии, где узы связываются, понятия объединяются в единое целое, в единый принцип высшей внятности; все тропы, дороги, пути прежде разрозненных наречий и разобщённых людей, язык и история, наконец, примиряются в провозглашении “формулы Вселенной”, составляя Единую Книгу — “бессловесное Евангелие” Вселенной: числовое Евангелие.
Я закончу своё краткое изложение футуристского путешествия этим богословским понятием, которое, как мне кажется, превосходно резюмирует значение лингвистических и философских начинаний футуристов — да и всего Авангарда в его различных проявлениях (живопись, музыка, поэзия). Все эти художники чувствовали себя облечёнными высшей миссией, обязанностью найти “место и формулу”. Поэты (даже Хлебников) думали, что могут это сделать посредством слова. «Тринадцатый апостол» — вот как Маяковский назвал свою первую крупную футуристскую поэму («Облако в штанах» — уступка цензуре), и эта поэма была для него благовествованием “нового слова” художественной, религиозной, этической и социальной современности. Хлебников сравнивал себя с великими пророками прошлого — Иисусом, Мани, Заратустрой, Мухаммедом. — и «Доски судьбы» были для него “Евангелием числа” или Кораном числа. Подобно апостолам, эти поэты были великими путешественниками, движимыми духом пророчества, и поэтому, согласно великолепной формулы Цветаевой, „их домом была дорога”, путь к Абсолюту. Я считаю, что к этим вестникам высшего слова, „слова как такового”, можно справедливо применить фразу святого Иоанна, раскрывающую “побудительную” (и конечную) причину их путешествия: „ибо они ради имени Его пошли”.22
————————
Примечания 1
1 Цит. по:
Велимир Хлебников. Собрание произведений. Т. V.
Л. 1933. С. 363.
 2
2 Там же, с. 297–298.
 3
3 Цит. по:
В. Хлебников. Стихотворения, поэмы, драмы, проза,
М. 1986. С. 126.
 4
4 Цит. по:
В. Хлебников. Творения. 1986. С. 496.
 5 Велимир Хлебников
5 Велимир Хлебников. Собрание произведений. Т. V.
Л. 1933. С. 253–255.
 6 Велимир Хлебников
6 Велимир Хлебников. Собрание произведений. Т. V.
Л. 1933. С. 71–72.
 7 Хлебников В
7 Хлебников В. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 361–362.
 8 А. Кручёных
8 А. Кручёных. Декларация о заумном языке // Манифесты и программаы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 179.
 9 О. Мандельштам
9 О. Мандельштам. Египетская марка // Собрание сочинений в 2-х томах.
N.Y.: Inter-Language Literary Associates. 1966. Т. 2. P. 78. “Железнодорожную поэтику” можно проследить на многих других примерах в современной русской прозе:
Крейцеровой сонате и «Анне Карениной» Л. Толстого, «Другим берегам» В. Набокова, «Доктору Живаго» Б. Пастернака.
 10 С. Мясоедов
10 С. Мясоедов. В дороге // Садок судей.
СПб. 1910. С. 79.
 11
11 Там же, с. 80.
 12
12 Выражение Мандельштама применительно к хлебниковской неологии, в его статье «О природе слова». Указ. соч., с. 287.
воспроизведено на www.ka2.ru 13
13 См.:
О. Мандельштам. Разговор о Данте. Указ. соч., с. 424.
 14
14 Второй сборник Центрифуги. Пятое турбоиздание.
М. Третий турбогод. С. 39.
 15
15 Там же, с. 39–40.
 16
16 Там же, с. 44.
 17
17 Первые два абзаца её статьи «Бальмонту» представляют собой блестящую вариацию на тему путешествия поэта. См.:
Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах 1917–1937 гг.
N.Y. 1975. T. 1. P. 171.
 18 А. Кручёных
18 А. Кручёных. Путешествие по всему свету. См. также:
А. Кручёных, В. Хлебников. Мирсконца.
М. 1912.
 19 В. Хлебников
19 В. Хлебников. Наша основа // СП. Т. V. С. 228–229.
 20 А. Кручёных
20 А. Кручёных. Новые пути слова // Манифесты и программаы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 64–72.
 21 Лившиц Б
21 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания.
Л.: Сов. писатель, 1989.
воспроизведено на www.ka2.ru 22
22 Иоанна 3: 7.
Воспроизведено по:
Lanne Jean-Claud. Le “Putectan” futurien: tentative d’hodographie.
Cahiers slaves, n° 10, 2008. Routes et chemins slaves. P. 201–219.
Перевод В. Молотилова
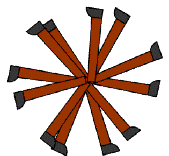
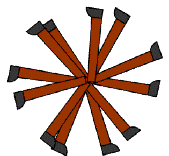
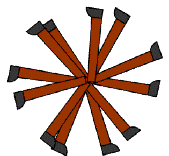
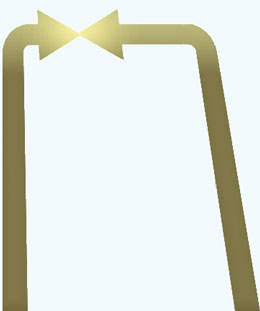 режде всего, я хотел бы пояснить заглавие, которое может показаться загадочным, и эта расшифровка одновременно будет раскрытием предмета моего исследования. В опубликованных рукописях поэт-футурист В. Хлебников дважды использовал неологизм путестан (понятный в обоих составляющих: путе — путь и стан — страна), чтобы обозначить одним словом своего “идиолекта” утопию, которую он стремился создать при помощи “словотворчества”: “страна путей” и — подчёркиваю второй член синтагмы — путей сообщения. Этот термин развит и пояснён в двух его стихотворениях, которые я процитирую ниже. Что касается “годографии” (от όδεύω — путешествовать, ездить), то она определяет суть моего проекта: дать обзор различных способов, с помощью которых деятели постсимволистского авангарда разработали не только поэтику дороги, но и, что мне кажется более важным, новую систему семантических сетей (сетей умопостигаемости), которые, строго говоря, и составляют “поэзию” словесного произведения.
режде всего, я хотел бы пояснить заглавие, которое может показаться загадочным, и эта расшифровка одновременно будет раскрытием предмета моего исследования. В опубликованных рукописях поэт-футурист В. Хлебников дважды использовал неологизм путестан (понятный в обоих составляющих: путе — путь и стан — страна), чтобы обозначить одним словом своего “идиолекта” утопию, которую он стремился создать при помощи “словотворчества”: “страна путей” и — подчёркиваю второй член синтагмы — путей сообщения. Этот термин развит и пояснён в двух его стихотворениях, которые я процитирую ниже. Что касается “годографии” (от όδεύω — путешествовать, ездить), то она определяет суть моего проекта: дать обзор различных способов, с помощью которых деятели постсимволистского авангарда разработали не только поэтику дороги, но и, что мне кажется более важным, новую систему семантических сетей (сетей умопостигаемости), которые, строго говоря, и составляют “поэзию” словесного произведения.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()