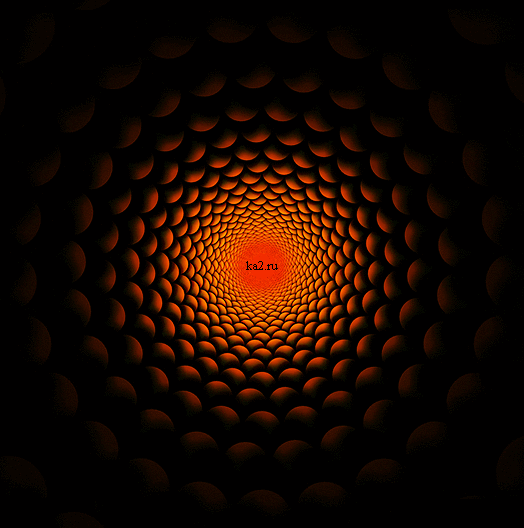Панова Л.Г.
Велимир Хлебников в работе над “чужими” сюжетами:
«Заклятие смехом» и «Мирсконца»
В своих программных заявлениях кубофутуристы (далее — футуристы) игнорировали сюжет и — шире — сюжетное мастерство. Как свои главные достижения и в то же время отличительные признаки они выставляли словотворчество и заумь, сдвиги и случайности, ассоциативную подачу мотивов и кубистическую композицию. Таким образом, ставка была сделана на свежие средства выразительности и новый взгляд на вещи. Вся эта арматура, подаваемая как новаторская, была рассчитана на подрыв общепринятых представлений о литературе, приводивший к литературным скандалам, что также входило в программные установки футуристов.
Один из многочисленных примеров таких установок дает манифест «Поэтические начала» (п. 1914). В нем Николай Бурлюк (при участии Давида Бурлюка) вторично после «Садка судей II»1 подкрепляет теорию “самовитого слова” (восходящую к идее Маринетти „parole in libertà“2
подкрепляет теорию “самовитого слова” (восходящую к идее Маринетти „parole in libertà“2 ) концепцией “слово как миф” (потебнианской в основе), а эталоном такого письма делает Велимира Хлебникова — главного героя настоящей статьи:
) концепцией “слово как миф” (потебнианской в основе), а эталоном такого письма делает Велимира Хлебникова — главного героя настоящей статьи:
Слово связано с жизнью мифа и только миф создатель живого слова. Критерий красоты слова — миф. Как пример истинного словотворчества, я укажу «Мирязь»
3
Хлебникова,
словомиф, напечатанный в недавно вышедшей «Пощечине общественному вкусу».
Русский футуризм 2000: 57–58
По понятиям футуристов, перенятым у Маринетти, естественной средой обитания “самовитого слова” должен был стать разрушенный синтаксис. Кроме того, свобода слова пролегала через игнорирование правил правописания и категории содержательной “ненужности” и “бессмысленности”. Что же касается “разрушение сюжета”, то именно такой лозунг футуристами не был выдвинут
4
— очевидно потому что, что он относится к более высокому, текстовому, уровню, а его футуристические манифесты не замечали, держась оси „слово, остраняющее вещь“. Фактически, в принцип футуристического письма бессюжетность и подрыв чужих сюжетов ввели филологи.
Не поспевавшая за программами художественная практика футуристов была иной — куда менее революционной, т.е. действующей по нормам поэтики своего времени, а не поэтики “будущего”. Потому-то сюжет из нее не только не исчезает, но временами приобретает вполне узнаваемые очертания — например, те, что ему придали символисты, писатели круга символистов или же авторы, входившие в круг чтения символистов. И это не говоря о том, что сюжет вполне может выступать организующим началом всего произведения.
Задавшись вопросом о том, как обстоят дела с сюжетом у Хлебникова — так же, как у других писателей Серебряного века? иначе?, я в другой своей работе рассмотрела с этой точки зрения его повесть «Ка», традиционно считавшуюся загадочно-бессюжетной. Оказалось, что в основе этой повести лежит сюжетная схема «Так говорил Заратустра» Ницше (другие интертексты, из Серебряного века и Ибсена, опускаю), которой, вдобавок, придана жизнетворческая огранка. В результате этой огранки главный герой повести, alter ego автора, становится новым Заратустрой, а вся повесть кончается сценой его триумфа.5 Этот разбор свидетельствует, что Хлебников (а) работает с сюжетами, (б) сознательно или бессознательно заимствуя “чужой” материал и (в) придавая ему ту или иную формовку. В настоящей статье анализ хлебниковских произведений с точки зрения наличия/ отсутствия в них сюжета будет продолжен. В него будет введено новое измерение: (г) сюжетное мастерство.
Этот разбор свидетельствует, что Хлебников (а) работает с сюжетами, (б) сознательно или бессознательно заимствуя “чужой” материал и (в) придавая ему ту или иную формовку. В настоящей статье анализ хлебниковских произведений с точки зрения наличия/ отсутствия в них сюжета будет продолжен. В него будет введено новое измерение: (г) сюжетное мастерство.
1. Футуристический сюжет в традиционном литературоведческом освещении
Авангардоведение, и на этапе своего становления, и в дальнейшем, обделяло футуристический сюжетосложение и — ýже — сюжеты Хлебникова своим вниманием, что естественно связать с его ориентацией на футуристические программы, через призму которых исследовались тексты.6 Отсюда — любопытный герменевтический казус. Формалисты — В.Б. Шкловский, Р.О. Якобсон и Ю.Н. Тынянов, заложившие основу авангардоведения, — хотя и совершили прорыв в описании сюжетосложения (кстати, не без наблюдений за футуристической практикой „остранения“, на что указывает Бенедикт Лившиц в мемуарах «Полутораглазый стрелец», п. 19337
Отсюда — любопытный герменевтический казус. Формалисты — В.Б. Шкловский, Р.О. Якобсон и Ю.Н. Тынянов, заложившие основу авангардоведения, — хотя и совершили прорыв в описании сюжетосложения (кстати, не без наблюдений за футуристической практикой „остранения“, на что указывает Бенедикт Лившиц в мемуарах «Полутораглазый стрелец», п. 19337 ), не заметили, что сюжетосложение было мощным ресурсом футуристического творчества. В самом деле, согласно основополагающей монографии Оге А. Ханзен-Лёве «Русский формализм: методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения» (1978), формальная теория: (а) отделила сюжет от фабулы, или сюжетного материала, которому предстоит быть определенным образом организованным; (б) описала разные типы сюжетов (“развернутую параллель” и “сюжет-загадку”) и (в) предъявила разные случаи остранения сюжета (включая бессюжетность, или монтажную прозу).8
), не заметили, что сюжетосложение было мощным ресурсом футуристического творчества. В самом деле, согласно основополагающей монографии Оге А. Ханзен-Лёве «Русский формализм: методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения» (1978), формальная теория: (а) отделила сюжет от фабулы, или сюжетного материала, которому предстоит быть определенным образом организованным; (б) описала разные типы сюжетов (“развернутую параллель” и “сюжет-загадку”) и (в) предъявила разные случаи остранения сюжета (включая бессюжетность, или монтажную прозу).8 А вот что из этих теоретических находок отразилось в «Новейшей русской поэзии» (1919, п. 1921) раннего Якобсона, где он касается среди прочего сюжетов и бессюжетности Хлебникова:
А вот что из этих теоретических находок отразилось в «Новейшей русской поэзии» (1919, п. 1921) раннего Якобсона, где он касается среди прочего сюжетов и бессюжетности Хлебникова:
‹В› «Журавл‹е›» мальчик видит ‹...› восстание вещей ‹...› Здесь мы имеем ‹...› превращение поэтического тропа в ‹...› сюжетное построение ‹,› ‹...› логически оправдан‹н›о‹е› при помощи патологии. Однако в ‹...› «Маркиз‹е› Дезес» (sic!) нет уже и этой мотивировки. На выставке оживают картины ‹...›, а люди каменеют.
Якобсон 1921: 14–15;
Есть у Хлебникова произведения, написанные по методу свободного нанизывания разнообразных мотивов. Таков «Чертик» ‹...›, «Дети Выдры» ‹...› (Свободно нанизываемые мотивы не вытекают один из другого с логической необходимостью, но сочетаются по принципу формального сходства либо контраста ‹...›) Этот прием освящен многовековой давностью, но для Хлебникова характерна его обнаженность — отсутствие оправдательной проволоки.
Якобсон 1921: 28;
Мы всячески подчеркивали одну типично хлебниковскую черту — обнажение ‹...› сюжетного каркаса.
‹...› Ты подошел, где девица: / „Позвольте представиться!“ / Взял труд поклониться / И намекнул с смешком: „Красавица!“ / Она же, играя печаткой, / Тебя вдруг спросила лукаво: / „О, сударь с красною перчаткой, / О вас дурная очень слава?“ / Я не знахарь, не кудесник. / „Верить можно ли молве?“ / ‹...› / Пошли по тропке двое, / И взята ими лодка. / И вскоре дно морское / Уста целовало красотке.
Сюжет, немало трактовавшийся в мировой литературе, но у Хлебникова сохранивший только схему: герой знакомится с героиней; она гибнет.
Якобсон 1921: 28–29;
В поэме «И и Э» ‹...› мотивы ‹...› крестного пути, подвига, воздаяния ‹...› остаются исключительно необоснованными ‹...›
Прием “ложного узнавания” был канонизован уже в классической поэтике. ‹...› Но [там. — Л.П.] он постоянно снабжался мотивировкой, у Хлебникова этот прием дан в чистом виде.
Якобсон 1921: 29;
Там, где смысловой момент ослаблен, мы замечаем ‹...› эвфоническое сгущение. Ср. ‹...› бессюжетные частушки ‹...›: Мамка, мамка, вздуй оГоНь, / Я попал в Г..Но НоГой. ‹...› У Хлебникова: Путеводной рад слезе, / Не противился стезе (И u Э). Последние два стиха образуют сплошной повтор.
Якобсон 1921: 65
Прежде всего, сюжету Р.О. Якобсон не отводит места в гамме будетлянина. Зато он бегло останавливается на шести произведениях Хлебникова. Для одного отмечается прецедент в существующей традиции, что-то вроде бродячего сюжета. Относительно этого и двух других случаев делается утверждение, что Хлебников прибегает к приему редукции полноценного сюжета до сюжетного каркаса. Еще поднимается вопрос о мотивировке (или, в современной терминологии, натурализации) “странного” сюжета: она имеется в «Журавле» (1909), но отсутствует в «Маркизе Дэзес» (1909–1910). Кроме того, Р.О. Якобсон приводит примеры хлебниковской бессюжетности. Наконец, относительно «И и Э» (1911–1912) сообщается, что бессюжетность, по крайней мере на отдельных участках этого текста, компенсируется эвфонией. Из всех этих вопросов, поставленных Р.О. Якобсоном, я остановлюсь лишь на том, являются ли „сведение полноценного сюжета до сюжетного каркаса“ и бессюжетность приемами — или же ограниченным сюжетным мастерством. Ранняя хлебниковская поэма «И и Э», разбираемая ученым, отвечает этой последней характеристике. Она, как известно, печатается с двумя сюжетными версиями. Поэтическая оставляет много неясного, а приводимая в заключении прозаическая, «Послесловие», как бы либретто, вроде бы расставляет все по своим местам, но функционально оказывается ненужной “подпоркой”.
В силу сложившейся в авангардоведении инерции, идущей от формалистов, современные исследователи крайне редко касаются футуристских сюжетов и их происхождения. Что часто констатируется, это “бессюжетность” и остранение (пародирование...) чужих сюжетов. Цель настоящей работы — переломить такую ситуацию. Для этого я откажусь как от навязанного футуристами “внутреннего” видения себя (а он состоит в том, чтобы воспринимать их произведения как письмо с чистого листа, вне связи с традицией, а вместо этого отслеживать спецэффекты, включая “самовитое слово”), так и от формалистского направления современного авангардоведения (солидарного чтения),9 и дальше буду исходить из того, что футуристический текст разделяет с просто художественными текстами все их конститутивные качества, включая сюжет.
и дальше буду исходить из того, что футуристический текст разделяет с просто художественными текстами все их конститутивные качества, включая сюжет.
Выявление сюжета (или же бессюжетности) у Хлебникова осложнено тем, что его никак нельзя признать мастером формы. Отдельные удачи у него, разумеется, были, но в целом развитие сюжета, сюжетные повороты и особенно развязки, не говоря уже о сознательной работе с чужими сюжетами, находились вне его поля зрения. Причина тому — отсутствие литературной рефлексии, которая является результатом хорошего университетского или самообразования, Хлебниковым, очевидно, недополученного. Именно литературная рефлексия позволяет автору (1) видеть, что он в точности делает, где кончается “свое” и начинается “чужое”; (2) придавать “чужому” свою собственную формовку; (3) отражать свою поэтику в программных манифестах. Эти подводные камни неминуемо приводят исследователя к отказу от слишком сильных формулировок, практикуемых в хлебниковедении. Так, одно дело, когда источник хлебниковского произведения исследователем найден, а авторские намерения в работе с этим источником, хотя бы и гипотетически, восстановлены. Тогда сюжет или же бессюжетность могут квалифицироваться как тот или иной прием. Другое дело, когда выявлен источник, а авторские намерения не просматриваются. Здесь проходят более осторожные утверждения, допускающие как наличие приема, так и неумелый сюжет (или же бессюжетность). Третий — самый запутанный и сложный — случай, когда ни источник, ни авторские намерения не просматриваются. Тут количество версий увеличивается, а возможность дать однозначную дефиницию резко понижается.
С учетом всего сказанного далее будут рассмотрены «Заклятие смехом» (1908–1909) и «Мирсконца» (1912) — две “иконы” футуристического письма, ставших таковыми в том числе благодаря своей мнимой бессюжетности.
2. «Заклятие смехом»: мистерия символистского образца
С легкой руки К.И. Чуковского принято считать, что футуризм родился вместе с «Заклятием смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!10
Это утверждение уже и с хронологической точки зрения представляет натяжку. По времени написания «Заклятие смехом» относится к периоду хлебниковских посещений “башни” Вячеслава Иванова,
11
тем самым на несколько лет опережая протофутуристические сборники и создание группы «Гилея», ознаменовавших рождение футуризма.
Свой футуристический ореол «Заклятие смехом» приобрело, прежде всего, фактом публикации в протофутуристической «Студии импрессионистов» (1910), под редакцией Николая Кульбина,12 а также благодаря нападкам на это стихотворение в стане критиков и подражаниям в стане соратников.13
а также благодаря нападкам на это стихотворение в стане критиков и подражаниям в стане соратников.13 Нельзя не признать, что все эти внешние по отношению к нашему тексту обстоятельства сыграли роль “остраняющего” фона, родственного столь любимой футуристами поэтике алеаторичности, при которой факторы подачи текста, автором никак не контролируемые, вносят в него искомый новый смысл.
Нельзя не признать, что все эти внешние по отношению к нашему тексту обстоятельства сыграли роль “остраняющего” фона, родственного столь любимой футуристами поэтике алеаторичности, при которой факторы подачи текста, автором никак не контролируемые, вносят в него искомый новый смысл.
Канонизация футуристического ореола принадлежит критикам, ученым и соратникам Хлебникова. Начал, как уже отмечалось, К.И. Чуковский. Он был тем редким критиком, которого это стихотворение привело в восторг:
И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!
‹...› Сколько ‹...› тысячелетий поэзия была в плену у разума, ‹...› слово было в рабстве у мысли, и вот явился ‹...› Хлебников и ‹...› мирно ‹...› с улыбочкой ‹...› прогнал от красавицы Поэзии ее пленителя Кащея — Разум.
“О, рассмейся надсмеяльно смех усмейных смехачей!” Ведь слово отныне свободно ‹...› — о, как упивался Хлебников этой новой свободой слова ‹...›, какие создавал он узоры ‹...› из этих вольных, самоцветных слов! ‹...›
Смехунчики еще и тем хороши, что, не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело ‹...› Тогда смехунчики, смешики — как весенние воробушки ‹...› Нет, действительно, без разума легче, да здравствует заумный язык, автономное, свободное слово!
Чуковский 1969: 230–232
По стопам К.И. Чуковского Р.О. Якобсон в «Новейшей русской поэзии» предложил лингвистически отрефлектированный взгляд на поэтические неологизмы Хлебникова:
В тех стихах Хлебникова, где дан простор словотворчеству, осуществляется обычно сопоставление неологизмов с тожественной основной принадлежностью и различными формальными принадлежностями либо обратно с тожественной формальной принадлежностью, но здесь диссоциация происходит не на протяжении языковой системы определенного момента, как мы это видим в языке практическом, а в рамках данного стихотворения, которое как бы образует замкнутую языковую систему. ‹...› Форма слов практического языка легко перестает сознаваться, отмирает, каменеет, между тем как восприятие формы поэтического неологизма, данной in statu nascendi, для нас принудительно.
Якобсон 1921: 42–44
После них Владимир Маяковский посвятил некролог «В.В. Хлебников» (1922) полному и окончательному закреплению “автономности” слова в «Заклятии смехом», а заодно расподоблению поэтики Хлебникова с поэтикой символистов:
Для так называемой новой поэзии (наша новейшая), особенно для символистов, слово — материал для писания стихов... Материал бессознательно ощупывался от случая к случаю. ... Застоявшаяся форма слова почиталась за вечную, ее старались натягивать на вещи, переросшие слово. Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда — углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи. Когда возник, быть может, десяток коренных слов, а новые появлялись как падежи корня (склонение корней по Хлебникову)... ‘Лыс’ то, чем стал ‘лес’; ‘лось’, ‘лис’ — те, кто живут в лесу.
Хлебниковские строки —
Леса лысы.
Леса обезлосили. Леса обезлисили —
не разорвешь — железная цепь. А как само расползается —
Чуждый чарам черный челн
Бальмонт.
‹...› Филологическая работа привела Хлебникова к стихам, развивающим лирическую тему одним словом.
Известнейшее стихотворение «Заклятие смехом», ... излюблено одинаково и поэтами, новаторами и пародистами, критиками... Здесь одним словом дается и смейево, страна смеха, и хитрые смеюнчики, и смехачи — силачи.
Какое словесное убожество по сравнению с ним у Бальмонта, пытавшегося также построить стих на одном слове ‘любить’:
Любите, любите, любите, любите,
Безумно любите, любите любовь
и т.д.
Тавтология. Убожество слова.
Маяковский 1959: 24–25
Хлебниковедение, наследовавшее Р.О. Якобсону и Маяковскому, перевело и автономность слова в «Заклятии смехом», и его футуристический ореол в разряд общих мест, которые неизменно повторяются в связи с Хлебниковым:
К основе смех присоединяются различные словообразовательные средства вне способов, данных в модели языка.
Винокур 1990: 330;
Это опыт поэтического исследования возможностей словотворчества в русском языке путем прибавления различных суффиксов и приставок к корню ‘смех’.
Марков 2000: 13;
Хлебников создает свои неологизмы не произвольно. Внутри каждого слова он видит ядро, корень, несущий зародыш смысла ‹...› «Заклятие смехом» ‹...› — яркая иллюстрация воплощения этих идей на практике. В качестве зародыша или корня выступает морфема СМЕ/х, из которой “вырастает” все стихотворение ‹...› Выбор ‹...› не случаен. ‹...›
Глубочайший смысл смеха как явления связан с его жизнетворной ‹...›, освободительной функцией; у Хлебникова ‹...› слово ‘смех’ дает жизнь новым словам. ‹...›
В данном стихотворении размывается граница между словом и явлением: возможности самого смеха и слова ‘смех’ одинаковы. В связи с этим интересно отметить, что «Заклятие смехом» сделалось едва ли не программной декларацией футуристов — группы, стремившейся ‹...› “создать новую жизнь”.
Леннквист 1999: 85
Посмотреть на «Заклятие смехом» непредвзято позволит интертекстуальная лупа. Под ней у этого стихотворения обнаруживаются символистские контуры. Не случайно Маяковский так настойчиво отделял Хлебникова от Константина Бальмонта!
В сущности, «Заклятие смехом» — не что иное, как поэтическая мистерия символистского образца. Отсюда типовое заглавие: заклятие + распространяющее существительное в Твор. пад., аналогичное заглавию цикла Александра Блока «Заклятие огнем и мраком» (1907). От того же Блока — курс на поэзию заговоров и заклинаний, канонизированный его одноименной статьей (п. 1908).
Для реализации поэзии заклинаний в полном объеме Хлебников перенял из символистской практики и традиционный грамматический рисунок мистерии. Обычно мистерия разыгрывалась как бы на глазах у читателя, при помощи императивов (ср. рассмейтесь, засмейтесь) в комбинации с обращением к участникам — людям и предметам (ср. смехачи), а также грамматикой, выражающей смысл “здесь и сейчас” — в частности, настоящего актуально-длительного (у Хлебникова оно замещено номинативным рядом со смешиками и смеюнчиками, то ли названий самого мистического действа, то ли его результата). Этими средствами передавалось протекание мистерии, а заодно — управление ее участниками кем-то свыше по заданному плану. Композиционно же такие стихотворения строились на повторах — чаще всего, кольцевом (этот тип как раз и представлен в «Заклятии смехом»: начальное двустишие повторено в финале), что иконически передает дискурсивные особенности заговоров и заклинаний, а именно повторы.14
Приведу образцы того поэтического топоса, к которому по праву относится «Заклятие смехом». Это:
• «Песня офитов» (1878) Владимира Соловьева, грамматически решенная в императивах и настоящем актуально-длительном, а композиционно — в виде кольца:
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем. ‹...›
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея. ‹...›
Пойте про ярые грозы
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.;
• «Хоры мистерий» (п. 1903) Иванова, с грамматикой императивов и обращений, а также композиционными повторами, прошивающими весь текст:
Хвалите, лилии небес,
Затворный пойте вертоград!
Храните, лилии оград,
Замкнутый вертоград чудес! ‹...›
Благовестители чудес,
Несите лилии в перстах,
Несите Имя на устах
Сладчайшее лилeй небес! ‹...›
Музык сладчайшее небес
Благоухание Души,
Что Розой зыблется в тиши
Неотцветающих чудес!
(III «Хваление духов-благовестителей»);
• «Заклинание» Валерия Брюсова (1907), грамматически оформленное в императивах, обращениях и настоящем актуально-длительным, композиционно же представляющее собой кольцо и локальные повторы:
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Лживую куклу, в цепи золотой,
Лживую куклу пронзаю иглой,
Лживую куклу, в цепи золотой
Лик восковой, обращенный ко мне,
Лик восковой оплывает в огне,
Лик восковой, обращенный ко мне!
Сердце твое, не кумир восковой,
Сердце твое я пронзаю иглой,
Сердце твое, не кумир восковой! ‹...›
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!;
• «Заклинание стихий» Бальмонта (сб. «Птицы в воздухе», 1908), с обращениями и императивами:
Царь-Огонь, Царевич-Ветер, и Вода-Царица,
Сестры-Звезды, Солнце, Месяц, Девушка-Зарница,
Лес Зеленый, Камень Синий, Цветик Голубой,
Мир Красивый, Мир Созвездный, весь мой дух с тобой.
Жги, Огонь. Вода, обрызгай. Ветер, дунь морозом.
Солнце, Месяц, Звезды, дайте разыграться грозам.
Чтобы Девушка-Зарница, с грезой голубой,
Вспыхнув Молнией, явилась для меня судьбой.
• и, наконец, «Кружитесь, кружитесь...» Михаила Кузмина (не символиста, но писавшего в близкой символистам поэтике), из цикла «Александрийские песни» (1904–1908), грамматически выдержанное в императивах и настоящем актуально-длительном, а композиционно — в виде спирали (кольцо повторов плюс аналогичный повтор посередине):15
Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки!
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются. ‹...›
Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки!
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются.
Мы знаем,
что все — превратно,
что уходит от нас безвозвратно.
Мы знаем,
что все — тленно
и лишь изменчивость неизменна.
Мы знаем,
что милое тело
дано для того, чтоб потом истлело. ‹...›
Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки
звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются.
Скопировав из этого топоса его сюжетную матрицу — мистерию, разыгранную так, чтобы непосвященный (обычный читатель) видел лишь набор действий, а посвященный (автор и ближайший круг читателей) понимали обрядовый смысл этих действий — Хлебников заодно перенял и свойственную этому топосу коммуникативную стратегию утаивания. А переняв — модифицировал, возложив ее на неологизмы, впрочем, с добавлением однокоренных им слов нормативного русского языка (плюс о, что, которые опускаю). Семантика сотканного неологистическим способом текста оказывается и понятной (всякий читатель скажет, что в «Заклятии смехом» речь идет о смехе и его воздействии), и затемненной (разобраться, что же в точности происходит, затруднительно). Таким образом, Хлебников удерживает представленное у Соловьева, Вяч. Иванова и мн. др. авторов поэтических мистерий мерцание между понятностью vs. затемненностью. Более того, непонятные неологизмы, перемежаемые понятными словами, еще и имитируют странный язык заговоров и заклинаний, что можно связать с их натурализацией.
Еще один сдвиг в «Заклятии смехом» происходит по линии содержания: средством заклятий становится смех. В то же время, он никак не подрывает символистского топоса, ибо «Заклятие смехом» не смешно16 и уж тем более не пародийно. Его стилистическая окраска, если не торжественная, то приподнятая (чего стоит семикратно повторенная формула обращения с о!), что опять-таки возвращает нас к символистскому топосу. Соответственно, произведенный Хлебниковым содержательный сдвиг был осторожным, а не революционно-радикальным.
и уж тем более не пародийно. Его стилистическая окраска, если не торжественная, то приподнятая (чего стоит семикратно повторенная формула обращения с о!), что опять-таки возвращает нас к символистскому топосу. Соответственно, произведенный Хлебниковым содержательный сдвиг был осторожным, а не революционно-радикальным.
Сдвиг был произведен и в области фонетической унификации текста, с плавным перетеканием в словообразовательную. Как известно, фонетическая унификация символистами широко использовалась. Чтобы показать генетическое родство «Заклятия смехом» и с такой практикой символистов, я воспользуюсь теми цитатами из Бальмонта, которыми Маяковский оттенял “словоновшества” Хлебникова. Бальмонт, как предписывал ему символизм, экспериментировал со словесными и звуковыми повторами. Его «Челн томленья» (сб. «Под северным небом», 1894) строится так — начальным В скреплены слова первых двух строк: Вечер. Взморье. Вздохи ветра./ Величавый возглас волн; начальным Б — 3-я: Близко буря. В берег бьется; начальным Ч — строки с 4-ой по 6-ю: Чуждый чарам черный челн. // Чуждый чистым чарам счастья, / Челн томленья, челн [тревог]; и т.д. В другом его стихотворении, «Хвалите» (сб. «Птицы в воздухе. Строки напевные», 1908), две начальные строки, Хвалите, хвалите, хвалите, хвалите,/ Безумно любите, хвалите любовь, повторены, хотя и не дословно, в конце, Хвалите же вечность, любите, хвалите, / Хвалите, хвалите, хвалите любовь. «Хвалите» предвещает «Заклятие смехом» уже своими контактным корневым повтором любите любовь, аналога смеются смехами (в обоих случаях получается figura etymologica), а также составлением строки из повторяющейся словоформы (Хвалите, хвалите, хвалите, хвалите). Хлебников, с одной стороны, максимально опрощает текст, пользуясь одним лишь корнем, с другой же максимально разнообразит его, пропуская его через большое количество словообразовательных моделей.
Опрощение в «Заклятии смехом» произошло и благодаря свободному стиху. Но тут Хлебников себя показывает не новатором, а учеником Кузмина, который уже успел применить верлибр для мистериального топоса (случай «Кружитесь, кружитесь...», см. выше). Это, кстати, наглядное свидетельство того, Кузмин был “мэтром” юного Хлебникова на ивановской “башне” на деле, а не на словах.
Восстановление символистского фона «Заклятия смехом» отменяет ряд сделанных ранее сильных утверждений:
• разум в нем наличествует;
• его содержание не вырастает из слова ‘смех’, но привносится из мистериального топоса поэзии Серебряного века;
• “самовитое” слово только кажется таковым; на самом же деле оно подчинено художественному заданию — утаивать мистерию; наконец,
• его нельзя читать в какой угодно эмоциональной окрасе, ибо окраска — приподнятая — прописана ему мистериальным топосом.
Подведем итоги. Футуристический фон, на котором “Заклятие времени” традиционно прочитывалось, — типичная обманка (такая ретушь своих связей с традицией для футуристов вообще была характерна). В истории литературы оно должно интерпретироваться как мостик, переброшенный от символизма к футуризму. Первый его создал, второй же писал с него установочные манифесты, в результате которых эксперименты со словом вошли в плоть и кровь футуристического письма.
3. «Мирсконца»:
поверх «Рассказа о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле»
Михаила Кузмина
Пьеса «Мирсконца» принесла Хлебникову лавры создателя истинно футуристического зрения. Она вызвала бурные восторги не только у соратников писателя, но и у исследователей — в частности, Р.О. Якобсона, сформулировавшего примененный в этой пьесе сюжетный ход так:
У Хлебникова наблюдаем реализацию
временнóго сдвига, притом обнаженного, т.е. немотивированного. ‹...› Ср.
кинематографическую фильму, обратно пущенную. Но здесь построение осложнено тем, что в прошлое, как пережитое, отнесены и реальное прошлое, и реальное будущее. (С одной стороны —
Давно ли мы, а там они ‹...›, с другой —
Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных, тогда он вырос ‹...›) Часто в литературе подобная проекция будущего в прошлое мотивируется предсказанием, вещим сном и т.п.
Якобсон 1921: 24, 2717
Формулировка Р.О. Якобсона, вне всякого сомнения, отвечает бытовым деталям «Мирасконца» — эпизодам из жизни мужа и жены (вариант: двух влюбленных), Оли и Поли, прокручиваемой в обратном порядке, от гроба до рождения. Эти детали — добавлю я уже от себя — образуют еще и законченный сюжет помолодения, от состояния трупа — к состоянию новорожденного, ср.
Старая усадьба.
‹Поля› ‹...› Послушай, ты не красишь своих волос?
‹Оля› Зачем? А ты?
‹Поля› Совсем нет, а помнится мне, они были седыми, а теперь точно стали черными.
‹Оля› ‹...› Ведь ты стал черноусым, тебе точно 40 лет сбросили, а щеки как в сказках: молоко и кровь. А глаза — глаза чисто огонь, право! (гл. II);
Лодка, река. Он вольноопределяющийся.
‹Поля› Мы только нежные друзья и робкие искатели соседств себе… и шепчет нам полдень: „О, дети!“ Мы, мы — свежесть полночи. (гл. III);
С связкой книг проходит Оля, и навстречу идет Поля ‹...›
‹Оля› Греческий? ‹...›
‹Оля› Сколько?
‹Поля› Кол ‹...› (гл. IV);
Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчаливые и важные, проезжают в детских колясках. (гл. V).
На следующую, интертекстуальную, стадию осмысления «Мирсконца» вывела Барбара Лённквист. Открыв обсуждение этой пьесы полемикой с Р.О. Якобсоном относительно мотивированности/ немотивированности обратного хода времени, она рассмотрела «Мирсконца» как пародию на «Жизнь Человека» символиста Леонида Андреева (1906, 1908, поставлена петербургским Драматическим театром Веры Комиссаржевской в 1907 году). Кроме того, согласно Б. Лённквист, в нем происходит подрыв языковых клише, характерных для разным возрастных категорий, что превращает его в [прото]абсурдистскую пьесу о языке. Ср.
‹...› Интерпретация [Р.О. Якобсона. — Л.Г.] удовлетворяла эстетике раннего формализма и, очевидно, служила заявленной полемической цели. Однако если рассматривать «Мирсконца» в контексте прочих пьес Хлебникова и общей театральной ситуации 1912 — 1913 гг., то обратная хронология видится как прием, в первую очередь, пародийный. Перед нами разворачивается карикатура на «Жизнь человека» ‹...› Пародийная нота звучит уже в самих именах героев, Поля и Оля, чье фонетическое сходство вызывает ассоциации с традицией комических парных имен (фольклорные Фома и Ерема, гоголевские Бобчинский и Добчинский ‹...›); более того, когда в первой сцене Поля и Оля обсуждают похороны, они напоминают бурлескную пару старик и старуха из репертуара народного театра. Судя по всему, “воскресение” Поли также связано с фольклорными пародиями на похоронный ритуал, в которых мертвец оживает...
В «Мирсконца» Хлебников не только обыгрывает клише повседневной речи, но также использует подчеркнуто разговорный синтаксис. Крученых это интуитивно осознавал, публикуя пьесу ‹...› без каких-либо знаков препинания ‹...› Когда в конце двадцатых годов «Мирсконца» переиздали, отсутствие пунктуации было воспринято как типичный футуристский эпатаж, и в длинном монологе Поли в первой сцене (Нет ты меня успокой ‹...›) были расставлены знаки препинания ‹...› Зачем Хлебникову понадобилось передавать разговорный язык столь натуралистично? Полагаю, нарочитая разговорность монолога — это иронический выпад в адрес традиции “жизнеподобия” а-ля Станиславский. Кажется, что Хлебников с усмешкой говорит: вы хотите, чтобы на сцене все было, как в настоящей жизни? Вот и послушайте, как говорят люди на самом деле!
Во второй сцене объектом пародии являются светские беседы на модные темы ‹...› Банальность ‹...› выявляется смешением реплик, относящихся к дарвинизму, с пустыми любезностями. ‹...›
Научная теория укладывается в прокрустово ложе речевого этикета ‹...›
Третью сцену составляет короткий монолог. Вольноопределяющийся Поля катает на лодке свою юную возлюбленную Олю. Монолог Поли нарочито “литературен” ‹...› это куртуазная велеречивость в стиле символизма, доведенного до предела банальности ‹...› Сцена очевидно пародирует известную литературную традицию стихотворений “на лодке”.
Четвертая сцена построена вокруг детского омонимического каламбура со словом ‘кол’. Возвращаясь с экзамена, Поля отвечает на вопрос Оли „сколько?“:
Кол, но я, как Муций и Сцевола, переплыл море двоек и, как Манлий, обрек себя в жертву колам, направив их в свою грудь.
Дополнительная ирония в том, что Поля, видимо, и не подозревает о существовании двойной формы множественного числа ‘колы’ / ‘колья’ (двоечник!).
В пятой сцене диалог прекращен, и Поля с Олей молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.
«Мирсконца» — ‹...› пьеса об эволюции языка. ‹...› Отправной точкой служит бессвязная старческая болтовня, мешанина речевых фрагментов из предыдущих этапов жизни ‹...›; затем — модные банальности среднего возраста, манерная, многословная “литературщина” юности, школьные каламбуры и, наконец, младенческая бессловесность. В фокусе драмы — язык как этикет и общественная условность. ‹...›
Данной пьесой Хлебников предвосхитил театр абсурда.
Леннквист 1999: 105–110
Положение о том, что обратный ход времени — прием, призванный пародировать «Жизнь человека», может быть опровергнут тем, что у Андреева один герой, Человек, у Хлебникова же их два — [семейная] пара (при этом я не отрицаю, что эта прогремевшая в свое время драма была на слуху у Хлебникова во время сочинения «Мирасконца»). Опровергает это положение Б. Лённквист и еще один, до сих пор неучтенный,18 источник хлебниковской пьесы. Она позаимствовала — то ли сознательно, то ли бессознательно — сюжет обратного хода времени, переживаемого семейной парой, из «Рассказа о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле» (1910, п. 1913) Михаила Кузмина, восходящего к почтенной восточной литературной традиции — легенде об Искандере (Александре Македонском восточного эпоса и лирики, а также Талмуда).
источник хлебниковской пьесы. Она позаимствовала — то ли сознательно, то ли бессознательно — сюжет обратного хода времени, переживаемого семейной парой, из «Рассказа о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле» (1910, п. 1913) Михаила Кузмина, восходящего к почтенной восточной литературной традиции — легенде об Искандере (Александре Македонском восточного эпоса и лирики, а также Талмуда).
Общими у Хлебникова с Кузминым оказываются:
• сюжет помолодения, который в «Рассказе...» разворачивается следующим образом:
Пожилые Ксанф и Кала находят источник, воскрешающий мертвых и омолаживающий живых. Они пьют его волшебную воду, возвращаются в лагерь и там, на глазах у Александра Великого, начинают молодеть. Александр, желая показать войску, что смертным, не от богов рожденным, бессмертия не видать, приказывает их утопить. Вскоре после исполнения этого приказа из воды выныривают тритон и наяда с лицами Ксанфа и Каллы. Они дразнят Александра своим бессмертием и предвещают ему скорую смерть в Вавилоне. Александр пробует найти источник, но тщетно;
• поэтапное молодение и, в частности, с акцентом на внешних изменениях лица и тела, ср.
„Что узники?“ — Молодеют, был всегдашний ответ, и с каждым разом все бледнее и суровее делался царский лик. А заточенные старики ‹...› все яснее и яснее глядели помолодевшими глазами, щеки их делались все глаже и нежнее, само тело стало более гибким и стройным, и когда Калла пела фессалийские песни, ее голос звучал как прежде, лет пятьдесят тому назад, когда она еще девочкой бегала по горным долинам, собирая красные маки. В своей клетке супруги смеялись, шутили, играли в камушки ‹...› Самим поцелуям вернулась давнишняя свежесть, словно при первых признаньях робкой любви;
‹...› Впереди блеснуло плоское сверкающее море ‹...› Александр собрал солдат и велел привести ‹...› Ксанфа и Каллу. Они прибежали как школьники, смеясь и подбрасывая мяч.
Кузмин, III: 100–101;
• кузминская метафора “школьники” и школьный эпизод в «Миресконца»; дескриптивное кузминское „признанья робкой любви“ и соответствующая сцена с робкими признаниями у Хлебникова;
• наконец, сходство имен в парах КсАнф — КАлла и пОЛЯ — ОЛЯ.
Дополнительная улика кузминского влияния — первоначальное заглавие пьесы Хлебникова, «Оля и Поля», упростившее более сложную структуру заглавия Кузмина до двух ключевых имен. По настоянию Алексея Крученых оно было изменено на Мирсконца — легко прочитываемый неологизм с нетривиальным смысловым потенциалом, ср. мемуары «О Велимире Хлебникове» (1932–1934, 1964):
Спор возник у нас из-за названия его пьесы «Оля и Поля».
— Это «Задушевное слово», а не футуризм, — возмущался я и предложил ему более меткое и соответствующее пьеске — «Мирсконца», которым был озаглавлен также наш сборник 1912 г.
Крученых 2000: 131
Таким образом, крученыховское неологистическое название оказалось той самой обманкой, которая придала пьесе «Оля и Поля» искомый революционно-футуристический смысл.
Славу Хлебникова как революционера слова и автора нового зрения Крученых упрочил еще и тем, что, как показал Джералд Янечек, написал свой “мирсконца” — «старые щипцы заката...» (напечатано в сборнике «Пощечина общественному вкусу», М., [1912] янв. 1913).19 Рассчитанный на перестановку эпизодов, трактующих о жизни, смерти и романа с „рыжей полей“ (опять Хлебников!) некоего офицера, этот стихотворный текст окончательно растиражировал обратную подачу времени.
Рассчитанный на перестановку эпизодов, трактующих о жизни, смерти и романа с „рыжей полей“ (опять Хлебников!) некоего офицера, этот стихотворный текст окончательно растиражировал обратную подачу времени.
Подведем первые итоги. В пьесе Хлебникова время в обратном направлении было пущено не им, а Кузминым и восточной традицией. Творческое же участие Хлебникова в этом проекте свелось к демократизирующему сдвигу — переносу старого сюжета в современность, освобождению его от экзотических (античных) деталей и приданию ему бытового характера. (Окончательной вульгаризации обратное время подверглось в стихотворении Крученыха, но рамки настоящей статьи не позволяют на нем остановиться.)
Вернемся теперь к вопросу о сюжете «Мирасконца», включая мотивированность / немотивированность обратного времени и пародийность. Представляется, что теперь с уверенностью можно реконструировать сюжет этой пьесы:
герой и героиня, образующие [супружескую] пару, молодеют, проходя все жизненные этапы в обратном направлении.
Все же остальные утверждения, о ее приемах, сделанные ранее, оказываются слишком сильными. Дело в том, что «Мирсконца» — это даже не случай не графоманства как приема,
20
а случай чистого графоманства, вызванного отсутствием литературной рефлексии. Она — как это явствует из манифеста Крученыха и Хлебникова «Слово как таковое. О
художественных произведениях» (1913) — представляла собой авторский контроль над своим произведением, которое футуристы предпочли заменить принципом алеторичности:
Любят трудиться бездарности и ученики. (Трудолюбивый медведь Брюсов, пять раз переписывавший и полировавший свои романы Толстой, Гоголь, Тургенев), это же относится и к читателю. Речетворцы должны бы писать на своих книгах:
прочитав, разорви! Русский футуризм 2000: 49]21
Доведение же футуристического текста до гениального возлагалось на читателя, с которым авангард заключал особый договор.
22
Соответственно, атрибуция интертекстуальной матрицы «Мирасконца» — а это, помимо «Рассказа о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле», «Жизни Человека» Андреева, еще и «Женитьба» Н.В. Гоголя (1833–1841, п. 1845; оттуда мотив бегства виновника торжества с торжественной церемонии, а также отдельные обороты) — не может автоматически гарантировать, что Хлебников подрывает традицию. Гарантом подрыва были бы четко прописанные авторские намерения, которые, однако, не просматриваются. В самом деле, если это пародия, то кто именно осмеивается — Андреев? Кузмин? Гоголь? все вместе? Здесь допустима и противоположная интерпретация, от ограниченного сюжетного мастерства. Не исключено, что Хлебников незаметно для себя переработал творческое наследие предшественников в жанре „задушевного слова“ (а так окрестил «Мирсконца» Крученых, по названию еженедельного иллюстрированного журнала для детей младшего возраста), что было компенсировано, как мы помним, новым авангардным заглавием.
Те же две герменевтические версии возникают и по поводу языковых клише, использованных в «Миресконца». Они могут служить пародийным целям (впрочем, такие авторские интенции вроде бы не прописаны), но могут быть и просто строительным материалом, позаимствованным из литературы и речевого узуса, которому художественная полировка не была придана.
Не имеет однозначного решения и вопрос о натурализации обратного течения времени. Сюжетная конструкция «Мирасконца» не держится на точно выверенном инженерном расчете, который включал бы в себя и мотивировку обратного течения времени.
Таким образом, футуристическим в «Миресконца» стоит считать во-первых, ее заголовок-неологизм, а во-вторых, тот перформанс “нового зрения”, который Хлебников умело разыграл с помощью литературной традиции.
4. К классификации футуристских сюжетов
О том, осознавал ли Хлебников, что в «Заклятии смехом» и «Миресконца» — чужая сюжетная матрица, можно лишь гадать. Судя по тому, что в «Миресконца» он работал с кузминским сюжетом об Александре Великом, а в стихотворении «Могилы вольности — Каргебиль и Гуниб…» (другое название — «Вам», 1909), обращенном к Кузмину, поставил Александра Великого (Искандра) в связь с Кузминым, намекнув тем самым на газель последнего «Каких достоин ты похвал, Искандер!..» (1908; ц. «Венок весен»), мог осознавать. Так или иначе, чистый случай сознательного заимствования сюжета — это хлебниковская «Снежимочка» (1908), о чем свидетельствует ее подзаголовок, Рождественская сказка. Подражание Островскому,23 в первой публикации снятый.24
в первой публикации снятый.24 (В переписывании Островского упражнялся на только Хлебников, но и его неавангардные современники — Алексей Ремизов, автор рассказа «Снегурушка» (сб. «Посолонь», 1907),25
(В переписывании Островского упражнялся на только Хлебников, но и его неавангардные современники — Алексей Ремизов, автор рассказа «Снегурушка» (сб. «Посолонь», 1907),25 и Федор Сологуб, автор другого рассказа, «Снегурочка» (1908); так что и в этом будетлянин шел в ногу со своим временем.)
и Федор Сологуб, автор другого рассказа, «Снегурочка» (1908); так что и в этом будетлянин шел в ногу со своим временем.)
«Снежимочка» представляет для нас интерес тем, что в ней использован тот же арсенал апроприирующих средств, который был выявлен в «Заклятии смехом» и «Миресконца»: упрощение классического сюжета через его осовременивание и остранение повествования за счет неологизмов. Таким образом, «Заклятие смехом», «Мирсконца» и «Снежимочка» позволяют выделить единый подкласс хлебниковского и — шире — футуристического сюжетосложения.
Дальнейшая классификация футуристических сюжетов могла бы оперировать следующими параметрами: источники (и их повторяемость у одного автора и разных авторов), приемы, степень разработанности сюжета и сюжетное мастерство. Такого рода исследования обещают обновить наши представления о родоначальниках Первого русского авангарда, дав более сложную картину нежели та, что существует сейчас.
————————
Примечания 1
1 См. [Русский футуризм 2000: 42].
 2
2 Слова на свободе (
ит.).
 3
3 «Песнь Мирязя» (1908, 1912).
 4
4 См. футуристические манифесты в [Русский футуризм 2000: 33–69], без каких бы то ни было высказываний о сюжете.
 5
5 См. [Панова 2006 b].
 6
6 Этот вопрос поставлен и рассмотрен в [Панова 2010].
 7
7 „Шкловский прочел ‹...› доклад: «Место футуризма в истории языка». Он говорил о словообразе и его окаменении, ‹...› о смерти вещей и об остранении как способе их воскрешения. На этом он основывал теорию сдвига ‹...› Во всем этом для гилейцев было мало нового. Каждый из нас только тем и занимался, что “воскрешал вещи”, сдвигая омертвевшие языковые пласты, причем пытался достигнуть этого не одним лишь „остранением эпитета“, но и более сложными способами: взрывом синтаксической структуры, коренною ломкой традиционной композиции и т.д. Разве теперь, когда отшумели опоязовские бури в стакане воды, уже не стоило бы, положа руку но сердце, признаться, что пресловутая формула “искусство — совокупность стилистических приемов” заключена in nuce в определении поэзии, данном вступительной статьей к «Дохлой Луне»?“ [Лившиц 1978: 134]. См. также [Ханзен-Лёве 2001].
 8
8 [Ханзен-Лёве 2001: 230–263]. О. Ханзен-Лёве также обратил внимание на то, что у формалистов термин “бессюжетность” обозначал сразу два явления: (1) „сумму приемов, деформирующих устоявшуюся, конвенционализированную, автоматизированную систему сюжета“, и (2) „самостоятельный бессюжетный жанр“, существующий в двух разновидностях: (2а) как остранение литературного прецедента; (2б) без такового [Ханзен-Лёве 2001: 245].
 9
9 Подробный анализ “солидарного чтения” см. в [Панова 2010].
 10
10 Здесь и далее цитаты из Хлебникова — по [Хлебников 1986].
 11
11 О периоде 1908–1910 в биографии Хлебникова подробнее см. главу «На “Башне” у Вячеслава Великолепного» в хлебниковской биографии С.В. Старкиной [Старкина 2005: 63–113].
 12
12 См. об этой публикации «Заклятии смехом» и его журнальном окружении — преимущественно символистского характера, в [Марков 2000: 12–13]. Репринт этой публикации, а также автограф «Заклятия смехом» приводятся в [Старкина 2005: 108–109].
 13
13 „В журналах и газетах это стихотворение жестоко осмеивали, особенно после того как Маяковский принялся то и дело читать его на своих публичных выступлениях; нашлись, однако, критики, пришедшие от него в восторг. ‹...› Корней Чуковский ‹...›, процитировав стихотворение in toto, воскликнул: „Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!“ По мнению Чуковского, футуризм в России начался с «Заклятия смехом». Любопытно, что их тысячи хлебниковских неологизмов в разговорный русский язык вошло всего одно слово — ‘смехач’: так в 20-е годы назывался советский сатирический журнал“ [Марков 2000: 13–14]. Список автопродолжений в виде
заклятий (двойным течением речи, могуществом, множественным числом) см. в [Дуганов 1990: 95]. Добавлением к списку Р.В. Дуганова можно считать «В. Хлебникову» (1944) Николая Глазкова:
Мне не хватает на харчи,
Но чтоб в глупца не превратиться,
Скажу: „Засмейтесь, смехачи!“
Как „Все-таки она вертится!“  14
14 Подробнее о грамматике и композиции поэтической мистерии см. [Панова 2006 a, I: 419; 503–504].
 15
15 Подробнее о мистериальности «Кружитесь, кружитесь...» см. [Панова 2006 a, I: 418].
 16
16 На это обстоятельство мое внимание обратил А.К. Жолковский (устно).
 17
17 См. также [Пунин 2000: 165].
 18
18 Если не считать беглого наблюдения в [Панова 2006 а: 642].
 19
19 [Янечек 1996].
 20
20 Об этом явлении см. [Жолковский 1986].
 21
21 Впрочем, даже и алеаторичность познается в сравнении. На фоне «старых щипцов заката...» «Мирсконца» все-таки находится в области, хотя и авангардного, но искусства.
 22
22 См. [Панова 2010].
 23
23 А именно в «Снегурочке. Весенней сказке» (1873).
 24
24 См., например, комментарии В.П. Григорьева и А.Е. Парниса в [Хлебников 1986: 688].
 25
25 Отмечено в комментариях Е.Р. Арензона и Р.В. Дуганова в [Хлебников 2000, IV: 369].
————————
Литература Винокур Г.О. Маяковский — новатор языка // Винокур Г.О. О языке художественной литературы. Сост. Т.Г. Винокур. М.: Высшая школа, 1990 [1943]. С. 317–407.
Жолковский А.К. Графоманство как прием. Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие // Velimir Chlebnikov (1885–1922): Myth and Reality. Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov. Ed. by Willem G. Weststeijn. Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. VIII. Amsterdam: Rodopi, 1986: 573–590 [перепеч. в: Жолковский А. К. Блуждающие сны. М.: Восточная литература, 1994, с. 54-68].
электронная версия указанной работы на ka2.ru Крученых А.Е. О Велимире Хлебникове // Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911–1998). Сост. Вяч.Вс. Иванова, З.С. Паперного, А.Е. Парниса. М.: Языки русской культуры, 2000: 128–146.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Леннквист Барбара. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб.: Академический проект, 1999.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Лившиц Бенедикт. Полутораглазый стрелец. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1978.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Марков В.Ф. История русского футуризма. Пер. с англ. В. Кучерявкина, Б. Останина. СПб.: Алетейя, 2000.
Маяковский В.В. В.В. Хлебников // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. Т. 12. М.: Художественная литература, 1959: 23–28.
Панова Л.Г. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. В 2-х тт. М.: Водолей Publishers, Прогресс-Плеяда, 2006 (a).
Панова Л.Г. «Ка» Велимира Хлебникова: сюжет как жизнетворчество. // Материалы международной научной конференции «Художественный текст как динамическая система», посвященной 80-летию В.П. Григорьева (Москва, ИРЯ РАН, 19–22 мая 2005 г.). М.: Азбуковник, 2006 (b): 535–551.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Панова Л.Г. Наука об авангарде: между солидарным и несолидарным чтением // Поэтика и эстетика слова: Сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева. Сост. З.Ю. Петровой, Н.А. Фатеевой, Л.Л. Шестаковой. М.: УРСС, 2010. с. 119–133.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Пунин Н.Н. ‹Хлебников и государство времени› // Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911–1998). Сост. Вяч.Вс. Иванова, З.С. Паперного, А.Е. Парниса. М.: Языки русской культуры, 2000: 157–174.
Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. Сост. В.Н. Терёхиной, А.П. Зименкова. М.: РАН, Наследие, 2000.
Старкина София. Велимир Хлебников: Король времени. СПб.: Вита Нова, 2005 [переизд.: Старкина София. Велимир Хлебников. М.: Молодая гвардия, 2007 (ЖЗЛ)].
Ханзен-Леве О. Русский формализм: методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. Пер. С.А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001.
Хлебников Велимир. Творения. Общ. ред. и вст. ст. М.Я. Поляковой. Сост., подг. текста и комм. В.П. Григорьев и А.Е. Парнис. М.: Советский писатель, 1987.
Хлебников Велимир. Собрание сочинений в 6 томах. Под общ. ред. Р.В. Дуганова. М.: Наследие, 2000–2005.
Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Виктор Хлебников. Прага, 1921 [перепеч. в: Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911–1998). Сост. Вяч.Вс. Иванова, З.С. Паперного, А.Е. Парниса. М.: Языки русской культуры, 2000: 20–77].
электронная версия указанной работы на ka2.ru Янечек Дж. «Мирсконца» у Хлебникова и у Крученых // Язык как творчество. Сборник статей к 70-летию В.П. Григорьева. М., 1996. С. 80–87.
электронная версия указанной работы на ka2.ru
Воспроизведено по авторской электронной версии.
Опубликовано в: Метаморфозы русской литературы. Сб. памяти Миливое Йовановича
Сост. К. Ичин. Белград, 2010. C. 221–239
Изображение заимствовано:
Paul Manship (b. 1885 in St. Paul, Minnesota; d. 1966 in New York).
Flight of Europa. 1925.
Gilded bronze on marble base.
56.2×78.8×19.8 cm.
Smithsonian American Art Museum (1st Floor, North Wing).


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()