

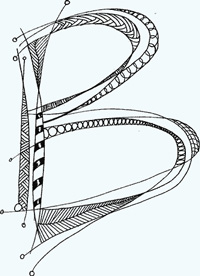 опрос о цветовой доминанте поэтического мира Хлебникова, чьё „слово смело пошло за живописью”, до сих пор не стал ещё предметом специального исследования, если не считать скромной дипломной работы автора этих строк, написанной в начале 1990-х под руководством Р.В. Дуганова и И.О. Шайтанова. Таким особенным, маркированным относительно других цветом я полагал синий, в чём Дуганов меня поддержал, оговорив при этом, что сама символика синего цвета у Хлебникова почти бесконечно многозначна и в этом смысле никогда не будет точно интерпретирована. В том, что это любимый цвет поэта, соглашался и В.П. Григорьев, для которого “синий” и “голубой” входят в круг „интуитивно определяемых слов-образов, ключевых для идиостиля Хлебникова”.1
опрос о цветовой доминанте поэтического мира Хлебникова, чьё „слово смело пошло за живописью”, до сих пор не стал ещё предметом специального исследования, если не считать скромной дипломной работы автора этих строк, написанной в начале 1990-х под руководством Р.В. Дуганова и И.О. Шайтанова. Таким особенным, маркированным относительно других цветом я полагал синий, в чём Дуганов меня поддержал, оговорив при этом, что сама символика синего цвета у Хлебникова почти бесконечно многозначна и в этом смысле никогда не будет точно интерпретирована. В том, что это любимый цвет поэта, соглашался и В.П. Григорьев, для которого “синий” и “голубой” входят в круг „интуитивно определяемых слов-образов, ключевых для идиостиля Хлебникова”.1Синий (голубой) цвет у Хлебникова непредставим вне романтической традиции, без имён Новалиса, Жуковского, Метерлинка, Вл. Соловьёва. Именно в контексте романтизма рассматривает его Барбара Лённквист, дополняя свой вывод тем, что
Дополнение удачное, но недостаточное. Ведь, определив поэтичный цвет, мы должны определить и непоэтичный. И тогда мы увидим, что синему настойчиво оппонирует серый цвет.
В итоговой сверхповести Хлебникова «Зангези» их контраст задан уже в первом монологе героя, представляющего себя в образе залетевшей в комнату бабочки:
В обыденной жизни серый цвет доминирует над легко обесцвеченным голубым. По ходу драмы настроение Зангези, однако, меняется. Земная жизнь теперь видится ему в радужных тонах, и числа отходят на второй план:
Уверенности герою придаёт революционно обновившееся время, которое, по Хлебникову, управляет событиями.3![]()
Похожий императив появляется и в поэме 1922 г. «Синие оковы», с намёком на „Я сразу смазал карту будня, / Плеснувши краску из стакана” раннего Маяковского из его «А вы могли бы?»:
Веселье здесь неслучайно: Хлебников этимологизирует корень слова ‘радуга’, как в паронимичной метафоре “радуга радостей” («Из будущего», 1922). „Полотно обычных будней” подсказывает уже знакомую семантику скучного, может быть, серый холст.
Наблюдения над синим и серым цветами привели нас к другой, гораздо более широкой оппозиции. Тут следует говорить уже не о доминанте какого-либо цвета, а об общей установке Хлебникова на цветовую насыщенность. Серый цвет здесь важен: он необходимая точка отсчёта, нулевой цвет. “Бесцветный” серый4![]()
![]()
В “норме” сумрак (или полусумрак) у Хлебникова сер. Он невыразителен, безлик, неопределёнен, усреднён. Он ни свет, ни тьма. Несколько значительных поэм и стихотворений Хлебникова имеют сумеречную экспозицию. Таковы «Настоящее» и «Синие оковы». Такова «Ночь перед Советами», где сумрак становится навязчивым лейтмотивом:
Раскат серого цвета очень последователен: мешок повторится в четвёртой главке поэмы, в портрете мстительной старухи: „Лицо её серо, точно мешок”. Вещественная (локальная) окраска переходит в эмоциональную, образуя синонимический ряд: серый, усталый, скучный, жуткий, зловещий, неясный.
Скучный и жуткий воздух передаёт не что иное, как атмосферу времени,7![]()
![]()
![]()
![]()
Амбивалентность свободы и её приятие — актуальная тема Хлебникова пореволюционных лет. Резка характеристика современности в сверхповести «Азы из узы»:
Невеста здесь, очевидно, свобода, пламя же означает революционное красное знамя. С него начинается «Праздник труда» (1920): „Алое плавало, алое / На копьях у толпы ‹...›”. И далее: „То подымаясь, то падая, / Труд проходит, беззаботен”. Описание шествия при этом удивительно идентично началу стихотворения в прозе В. Кандинского «Видеть» из… «Пощёчины общественному вкусу»:
Кандинский заканчивает неясным предчувствием:
Мутное Кандинского — тот же серый сумрак Хлебникова. Просто у Хлебникова синий заменён красным — выбор не столько Хлебникова, сколько “прояснившегося” времени. „Рать алая! твоя игра! Нечисты масти / У вымирающего белого”, — говорит Ленин в поэме «Ночь в окопе» (1920). Выигрышность построенного на крови положения ставится в поэме под сомнение, на что указывает авторское обращение к столице новой власти — Москве:
В «Воззвании Председателей земного шара» (весна 1917 г.) знамя свободы предполагало голубую окраску: „Перерезанное красной молнией / Голубое знамя безволода”. Вариантом были анархистские „чёрные знамёна безволода” и — в «Трубе марсиан» — „чёрные паруса времени”.
Хлебников отдал дань красному цвету сполна. “Праздник труда” продолжил «Кавэ-кузнец» (1921):
Будничная предыстория — только фон огненной языческой мистерии: „клещи ‹...› Сквозь сумрак проблистав, ‹...› Змеёй из серы вынырнув удушливого чада, / Купают в красном пламени заплаканное чадо”. Доминирующий красный цвет передан в разнообразии оттенков: красный, багровый, железной кровью мытый, малиновый.
В агитационной поэзии Советов, в «Окнах РОСТА», где какое-то время печатался поэт, красный цвет быстро становится штампом. Но Хлебников им не ограничивается. Зангези пробует у него описать „ваш праздник труда” с помощью „песен звукописи, где звук то голубой, то синий, то чёрный, то красный”. Серый освежён синим: „Мипиопи — блеск очей серых войск” (звук ‘м’, по Хлебникову, тёмно-синего цвета).
Одно из черновых заглавий песен звукописи — „радужная речь”. Стóит ли, однако, считать её лишь видом звукописи, как это делает В.П. Григорьев?11![]()
Несмотря на всё более ощущаемый Хлебниковым трагизм собственного положения, произведения последних лет его жизни стремятся внушить читателю ощущение праздничной основы бытия, и во многом благодаря богатству и интенсивности цветового языка. Празднично яркая радуга есть наглядное проявление единства и полноты жизни, а её гиперболическое умножение — проявление настоящей „жажды множественности бытия”, о которой в обстановке убийственной Гражданской войны писал Хлебников Вс. Мейерхольду.12![]()
Соратники Хлебникова любили изображать радугу и в стихах, и в живописи: новаторское искусство несло жизнеутверждающую программу. Вместо радуги мог изображаться радужнопёрый павлин (картины Гончаровой, Каменского и др.). Отряд мифологических жар-птиц появился у Хлебникова еще в 1907 г. («Жар-бог! Жар-бог!»):
Для проповедника “неукротимого энергетизма жизни” Д. Бурлюка радуга созвучна слову и музыке:
Музыкально охарактеризована радуга в поэме Маяковского «150 000 000»:
“Обобществлённая” авторская речь сопровождается у Маяковского барабанным маршем — то же самое будет делать шествующий в город Зангези. В эстетике футуризма радуга говорит не только о богатой фантазии художника-творца; она символизирует мост в райское будущее, чаемый град всеобщей гармонии. Ср. соответствующий пассаж в «Детях Выдры»:
Откуда же берётся печаль? Увы, цветовая гамма ощущений, если мы действительно хотим брать её во всей полноте, включает в себя не только положительные эмоции. В этом Хлебников отличен от Бурлюка, преждевременно заявляющего, что
Не найти у Хлебникова и восторженного отношения к техническому прогрессу. Недаром в тех же «Детях Выдры» часть действия происходит на «Титанике», который „Окраскою серою скромен / И строгий в строеньи своём, / Как остров во мраке огромен, / Рассек голубой водоём.”„И грозная бьётся гора / Сверкающей радугой пыли”, — говорится затем, но радуга оказывается миражом. „Кормчего труды” держит роковое число, и пароход гибнет.
Хлебников объективен, как должен быть объективным естественник и математик. В статье «Свояси» он говорит об известных физике чёрных лучах спектра; в «Нашей основе» уверяет, что „‹...› ещё немного — и мы построим уравнение отвлечённых задач нравственности, исходя из того, что начало “греха” лежит на чёрном и горячем конце света, а начало “добра” — на светлом и холодном”. «Смех и Горе» (заключительная плоскость «Зангези») оказываются вечными спутниками человечества.
В «Единой книге» (1921) среди величественных Ганга, Замбези, Миссисипи и Волги найдётся место непримечательной „Темзе, где серая скука”. Да и Волга, как показывает стихотворение «Нижний» (1918), дорогá поэту в разных обликах:
Здесь уже нет ситуации выбора. В общей цветовой картине мира все цвета равны и эстетически ценны — в том числе простой серый цвет. Хлебников умел пользоваться ахроматическим цветорядом. От иронического автопортрета в «Жути лесной» (1914):
Вот почти беспрецедентный пример тонкой игры на оттенках серого из повести «Ка»:
Значит, серый цвет способен давать “зрительную радость”.15![]()
Пример из «Ка» может показаться некорректным, поскольку к серому примешивается оттенок красного. Загадочная ткань имеет свойства испепеляющего самого себя Феникса, но её огонь — огонь жизни. В этом — весь Хлебников: он поэт метаморфозы. „В сознании этого художника белые и чёрные цвета то ведут настоящие бои между собой, то исчезают совсем, уступая место чистому размеру”, — отзыв Хлебникова о Малевиче из заметки «Голова вселенной» (1919) применим к нему самому. Белый и чёрный — крайние цвета; со- и противопоставляться могут очень близкие цвета и оттенки. Как синий и зелёный (доминантный цвет неба и доминантный цвет земли) в финале «Синих оков»:
Эстетику Велимира Хлебникова определяет гераклитовский принцип постоянного изменения, бесконечной борьбы (игры) стихий. Расфокусированная неопределённость, разговор полунамёками придаёт вещи поэтическую таинственность. В рассказе «Малиновая шашка» (1921) одна из участниц дачной вечеринки („старшая сестра”) описывается так:
Выше о глазах красавицы говорилось иначе: „золотисто-голубые в чёрную точку глаза блестели…”. Двойной эпитет заставляет вспомнить французский пуантилизм, аналогию с которым Хлебников проводил в своих ранних словотворческих опытах.16![]()
Подобным же образом в портрете своего двоюродного брата («Коля был красивый мальчик…», 1912–1913) Хлебников подчёркивает невозможность точно описать его облик, выделить какую-то одну определяющую черту:
Изменчивость отнюдь не всегда предполагает многоцветный размах (чего стоит один карнавальный «Поэт»!) — так, Хлебников ценит „жемчужно-серые глаза” и „северные сдержанные движения” близкой ему знакомой («Три Веры», 1915–1916).
В последнем случае можно говорить о своеобразном минимализме Хлебникова, отдыхе от радужной пестроты мира.17![]()
Сочетание таинственности с изящной простотой формы было для Хлебникова критерием высокой оценки поэтического произведения — в частности, стихов малолетней Милицы («Песни 13 вёсен», 1913). В «Ка» на „камне с написанной на нём веткой простых серо-зелёных листьев” у него можно прочесть экономное в средствах японское хокку, учтён им и жанр танка («Чао. 13 танка», 1915).
Поэт мог гордо называть себя синеоким («Детуся! Если устали глаза быть широкими…», 1921) и в то же время по-детски непосредственно впечатляться „большими серыми глазами” Лермонтова («На родине красивой смерти — Машуке…», 1921). Степень сложности и доминанту образа каждый раз определяют задачи «данной постановки» («Малиновая шашка»), «устав», по которому пишется произведение («Введение» к «Зангези»).
Хлебникову изначально чужда ситуация выбора из двух. Вот сценка в пивной из раннего «Чёртика»:
Таким остроумным способом персонажи выражают свободное волеизъявление. И скоро к выпивающей компании присоединяется Французская свобода, у которой завяли крашеные перья… В поэме «Медлум и Лейли» (1910) идеал свободы изложен уже более серьёзно:
Повествователь даёт Богу выбор — в противоположность Спинозе, который „подчинил само божество законам необходимости” («Еня Воейков», 1903–1904).
Не исходил ли Хлебников из “гегелевской” триады тезис/антитезис/синтез? Посмотрим на рассуждение из статьи Хлебникова «О времени» (1907):
Подобный ход мысли много позже, в «Досках судьбы», получит формулировку объединяющего (снимающего) крайности “поперечного мышления”, высокого взгляда на вещи.
Так два цвета, смешавшись в сознании, дают ощущение третьего. Как самостоятельные единицы они при этом исчезают. Говоря условно — пуантилизм переходит в супрематизм (от лат. supremus — наивысший).
Поэтому более точным будет говорить не о цветовой доминанте, а о (свето)цветовом интеграле у Хлебникова. Он меняется (дифференцируется) в зависимости от выбранного поэтом-художником угла зрения в воображаемой световоздушной среде. К словесным реализациям этого интеграла прежде всего следует отнести парадоксальный неслиянно-нераздельный „белый сумрак” и такой же „чёрный блеск”.18![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 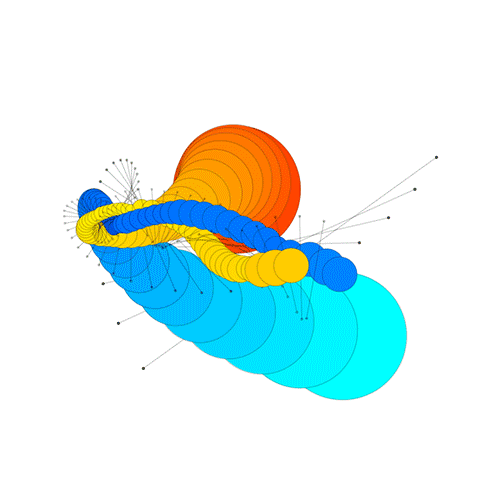 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||