

Очевидно, природа здесь совсем не то, что называют окружающей средой. Она столько же вне человека, сколько и внутри его. И человек, открывая глаза в природу, сам открывается в таком нераздельном единстве с нею, что сколько бы мы ни вчитывались в это стихотворение, сколько бы мы ни вглядывались в его насквозь прозрачный мир, мы никак не можем решить, где же здесь кончается человек и начинается природа, и кто же здесь на кого смотрит: человек ли удивленно и благодарно узнает себя в природе, природа ли радостно и любовно видит себя в человеке. И в то же время мы отчетливо понимаем, что вот это полное слияние с миром, как будто утреннее пробуждение сознания, и есть поэзия. „Все во мне и я во всем“, — по слову Тютчева, который, конечно, из всей классической поэзии ближе всего Хлебникову.
Близость их такова, что многие стихи Хлебникова кажутся живым откликом и прямым и необходимым его продолжением. Ведь если природа предстает нам одушевленной и очеловеченной, мы вправе видеть в ней не только какие-то безымянные существа, не только какие-то призрачные мифологические образы, но и живые человеческие лица, и даже реальные исторические личности:
Ведь если у природы есть свой язык, то не делами ли великих воителей, пророков, художников говорит она нам свое слово, и не эти ли глаголы — чингисханитъ, заратустрить, моцартитъ — суть ужасные, величественные и прекрасные глаголы природы? Поэт же выступает только переводчиком “неземных голосов” на человеческий язык своего времени и своей земли, как, скажем, в поэме «Хаджи-Тархан»:
Посредством слова поэта природа раскрывается нам в своем человеческом, личном, историческом содержании. Но вместе с тем мы видим и обратное движение художественной мысли, которое было еще более важно для Хлебникова и которое составляет самую суть его поэтики. Вот как рисует он образ казачьего атамана в поэме «Уструг Разина»:
Может показаться, что в этих почти фольклорных загадках скрывается какой-то второй смысл: смерть таится в пороховнице, сделанной из рога безобидной коровы, или скрывается под видом мирного пахаря, а волк прячется в овечьей шкуре. На самом деле смысл здесь как раз совсем не скрыт, а, напротив, посредством всех этих уподоблений, метафор, метонимий и катахрез, раскрывается с полной очевидностью. Сквозь образы казачьей вольницы проступают и обнаруживаются природные, стихийные, нечеловеческие начала, и бунт Стеньки Разина оказывается не просто историческим событием, а неотвратимым явлением природы. И ему грозно откликается современность:
Поэтому великие потрясения своего века, свидетелем и участником которых он был, поэт хотел увидеть в их глубинной изначальной сущности и понять их в самых общих природных закономерностях, добираясь прямо до геркулесовых столбов пространства и времени.
Такой нечеловеческой игрой чудовищных мертвых пространств вселенной виделась ему мировая война:
Именно это бездушие и безнадежность мертвой природы звало человека к восстанию на весь миропорядок. Я шептал проклятья холодным треугольникам и дугам, пирующим над людьми, поднявшим ковши с пенной брагой, обмакивавшим в мед седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с той же глухой угрозой. Именно в природе видел он неизбежность революции:
И как раз потому, что он был прежде всего поэтом природы, он стал поэтом революции.
Хотя, казалось бы, по складу характера и ума, по воспитанию Хлебников был призван совсем к иному поприщу, к тому, что в его времена еще носило благородное и простое название: исследователь природы. Детские годы, проведенные в Калмыкии, на Волыни, в лесах и степях Заволжья, где, по его замечательному определению, — я жил, природа, вместе с нею, влияние отца, привившего ему интерес к научным наблюдениям, первые навыки работы натуралиста, участие в экспедициях в Дагестан и на Урал, усердные занятия на физико-математическом факультете Казанского университета, куда он поступил в 1903 году, несколько многообещающих научных публикаций, — все это как будто определяло его судьбу.
Однако в 1908 году, вопреки надеждам отца и к сожалению своих профессоров, Хлебников оставляет университетскую науку и отправляется в Петербург, чтобы выбрать сомнительное поприще поэзии. Почему? Ответов тут может быть много, и все они в свою меру будут справедливыми. Но самый простой ответ нам давно известен: поэзию не выбирают — она сама находит человека. Тем более, что именно это подразумевается в хлебниковском: я жил, природа, вместе с нею, — то есть сам был природой. А потому, конечно, ни просто жить вместе с нею, ни только исследовать ее законы ему было недостаточно. Вспомним пушкинское: „Зачем крутится ветр в овраге...?“
В конце жизни, изведав всю горькую свободу поэтической судьбы, Хлебников писал, обращаясь к юной художнице Юлии Самородовой, своей последней любви:
Что ждало его в Петербурге? Очень скоро Хлебников вошел в литературный круг символистов, центром которого был Вячеслав Иванов. Хлебников посещает его знаменитую “башню” на Таврической и “Академию стиха” при только что возникшем журнале «Аполлон», называет себя учеником Михаила Кузмина, дорожит мнением Ремизова, знакомится почти со всеми молодыми литераторами Петербурга. В письмах к родным он с гордостью сообщает о том, что его здесь переименовали в Велимира (славянское имя, приблизительно соответствующее по значению Виктору), что он дважды выступал с чтением своих стихов, и что у него находят строки гениальные. Но его ожидало жестокое разочарование. Ни в одном из символистских изданий не появилось ни строчки Хлебникова. Да и странно было бы представить на изысканных страницах «Аполлона» его «Кузнечика» или «Заклятие смехом», или, скажем, такие строки из «Искушения грешника»: ‹...› и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хохочущий беззаботно, и было младенцекаменное ложе, по которому струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землей сомнениекрылая ласточка и пел влагокликий соловей на колковзором шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши ‹...› Здесь можно было даже находить проблески гениальности, но в столичной атмосфере высокоталантливых стилизаций и высококультурной “игры в бисер” все это было чуждо, да и попросту не нужно. Слишком много было тут поэзии и слишком много природы. А что уж говорить о его поэмах и драмах вроде «Журавля», «Чертика» или «Маркизы Дэзес», с их странной смесью иронии и трагизма, смутных предчувствий и апокалиптических пророчеств:
И сейчас в этих причудливых видениях, в этих настойчиво повторяющихся мотивах “восстания природы” многое кажется нам излишним и непонятным. Но их подлинное юношеское волнение и восторг перед могучей, трагической и праздничной первоосновой бытия, которая как бы клокочет и вырывается из-под поверхности благополучного быта начала века, конечно, не могут оставить нас равнодушными. И хотя Хлебников вроде бы истово следовал “заветам символизма”, вещи его говорили сами за себя. Все это было слишком всерьез и слишком требовательно, а потому его поэзия оказывалась вне литературы.
К 1910 году, когда произошел его тихий, но решительный разрыв с символизмом, Хлебников был поэтом с собственной вполне сложившейся философией и эстетикой, с самостоятельно разработанной поэтикой и, главное, с задачами, которые он ставил перед собой, такой огромности, что они и не могли быть разрешены в пределах литературы. Пределы были иные. Хлебников был убежден, что свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлеченного, а вот этого именно.
Первой задачей новой поэзии Хлебников считал возрождение народного творческого духа языка, понимая язык не как застывшую и непреложную данность, а как живое природное явление. И к решению этой задачи он приступал с навыками естественно-научного эксперимента, создавая, по выражению Маяковского, „целую периодическую систему слова“. Вот как описывает Б. Лившиц в книге «Полутораглазый стрелец» свое первое знакомство со словотворческими опытами Хлебникова:
Так это воспринималось современником. Да и теперь, когда мы научились гораздо лучше понимать смысл хлебниковской работы, рукописи его производят такое же ошеломляющее впечатление. Мы можем во всех подробностях видеть, как поэзия, словно цветок из земли, прямо вырастала из языка, или, вернее, язык сам становился поэзией.
Уже одного этого было бы достаточно для возникновения целой поэтической школы. Но Хлебникова мало привлекала собственно литературная борьба, равно как и роль вождя и метра какого-либо направления. И если все-таки он фактически таковым стал, когда в начале десятых годов вокруг него собрались молодые художники и поэты, позднее получившие газетное прозвище футуристов, то отнюдь не благодаря каким-то организационным усилиям или учительному авторитету, а исключительно в силу своей художественной мысли, далеко опережавшей современность. Он не искал себе учеников, но они сами — Каменский, братья Бурлюки, Маяковский, Крученых, тот же Лившиц, а затем и многие другие — находили в Хлебникове то выражение нового мироощущения, какое им представлялось прорывом к искусству будущего. Не только для широкой публики, для которой в годы громокипящих литературных выступлений футуристов представляли главным образом скандально известные имена Игоря Северянина, Давида Бурлюка или Крученых, но часто и для самих участников движения Хлебников оставался в тени. „Его тихая гениальность, — много лет спустя признавался Маяковский, — тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом“. Тем не менее именно творчество Хлебникова представляло, так сказать, ту невидимую ось вращения, вокруг которой шумело новое искусство. Ситуацию эту хорошо рисует один эпизод (на диспуте «О современной литературе» в 1913 г.) из воспоминаний Крученых: „Особенно запомнилось мне, как читал Маяковский стихи Хлебникова. Бронебойно грохотали мятежные:
Эти строчки из поэмы Хлебникова «Революция» были напечатаны в «Союзе молодежи» по цензурным условиям под названием «Война — смерть». Кажется, никогда, ни до, ни после, публика не слыхала от Маяковского таких громовых раскатов баса и таких необычных слов!“ Сам же Хлебников при этом отсутствовал. Сейчас, когда все это стало уже далекой историей, мы можем взять в руки, скажем, знаменитый сборник «Пощечина общественному вкусу», вызывавший в свое время столько возмущений, и спокойно перелистать его страницы. Мы увидим, что сборник чуть ли не наполовину заполнен произведениями Хлебникова, и среди них давно уже ставшие классикой «Кузнечик», «Бобэоби», «Кому сказатеньки...», «Гонимый — кем, почем я знаю?.. », поэма «И и Э», в которой Юрий Тынянов проницательно находил “преображенного” Пушкина:
Многие ли задумывались над тем, что означает название сборника? А ведь эта «Пощечина» была просто-напросто повторением той самой пощечины, которую пушкинский Руслан дает голове брата Черномора, добывая волшебный меч. И, как насмешливо вспоминал потом Хлебников, — совы летели из усов и бровей старой головы и садились прямо на столбцы передовиков (газет — Р.Д.). Но самое замечательное мы найдем на последней странице сборника. Там, без всяких объяснений, напечатана была загадочная таблица с датами падения великих государств, причем за последней датой — 1917 — стоял Некто.
Тут не было никакой мистики. Это грозное предсказание было результатом многолетних исследований природы времени, его законов, обещание найти которые Хлебников дал еще в 1905 году. В своей книге «Учитель и ученик», изданной в 1912 году, он писал: ‹...› я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность. И приходил к выводу: ‹...› не следует ли ждать в 1917 году падения государства? Сказать печатно, о каком государстве идет речь, было, разумеется, немыслимо, но из сохранившихся черновых записей, где Хлебников определенно говорит о великом узле, развязанном мной, событий 1917–1919 годов, ясно, что речь шла о России. Позже, в 1919 году, он называл это предсказание, подтверждавшее открытые им законы времени, блестящим успехом, но, добавлял он с какой-то полувопросительной интонацией, — конечно, этого мало, чтобы обратить на них внимание ученого мира. И продолжал до конца жизни искать числовое выражение всеобщих мировых закономерностей, в частности законов истории, которые он называл «Досками судьбы» (отрывки из них были напечатаны в 1922 г.).
Друзья Хлебникова, и в первую голову Маяковский, видели в этом прежде всего поэзию, какое-то пророческое искусство будущего. Да Хлебников и сам называл себя художником числа вечной головы вселенной. Тем убедительней казалось его предсказание, соединявшее поэзию и действительность. Настолько, что Маяковский в поэме «Облако в штанах» даже опережал его на год: „‹...› в терновом венце революций грядет шестнадцатый год“.
И я, — вспоминал Хлебников в рассказе «Перед войной», — добрыми глазами смотрел на друга, когда он читал: „Я тебя раскрою отсюда до Аляски“, а его могучий голос страшными объятиями крушил детские хребты понятий, еще не хотевших умирать. Все происходившее тогда в искусстве, в новой живописи и новой поэзии, представлялось им подтверждением их ожиданий:
Строки эти звучат особенно страшно в сопоставлении с теми, что писал он в апреле 1916 года, призванный в царскую армию:
Вряд ли мы даже можем себе представить, каким было то чувство освобожденья от цепей, когда наконец наступил 1917 год. Это было, — рассказывал Хлебников, — сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном полку ‹...› я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? я сам не знаю.
С этого лета начинались самые трудные и, может быть, лучшие годы жизни поэта, годы тяжких испытаний, которые он прошел вместе со всей страной, и годы самых значительных его творческих достижений. Иногда говорят о какой-то отрешенной философской созерцательности поэзии Хлебникова, далекой будто бы от злободневной действительности. Это не верно. Напротив, мало кто из современников видел революцию и гражданскую войну так, как видел их Хлебников, в их важнейших поворотных событиях. И когда говорят о каких-то его бесцельных и необъяснимых странствиях, о каких-то его внезапных отлетах в пространство, забывают, что всякий раз он оказывался там, где происходило что-нибудь знаменательное. Может быть, он и сам не всегда отдавал себе в этом отчет, но мы сейчас должны понимать, как он, всю жизнь изучавший законы времени по книгам, хотел своими глазами видеть, как ежедневно совершается история, видеть ее обнаженный механизм.
В октябре 1917 года он был в Петрограде, и это описано в его воспоминаниях «Октябрь на Неве», поэме «Ночной обыск». В ноябре 1917 года он был свидетелем боев в Москве, и это описано в его поэме «Сестры-молнии». В 1918 году он видел установление Советской власти на Волге, в Астрахани, и это описано в его воспоминаниях «Никто не будет отрицать того...» и в поэме «Ночь перед Советами». В 1919–1920 годах он пережил все превратности гражданской войны на Украине, поход Деникина на Москву и его разгром, и это описано в его рассказе «Малиновая шашка» и поэмах «Каменная баба», «Полужелезная изба...» и «Ночь в окопе». В 1920–1921 годах он был на Кавказе и в Персии, куда его особенно влекли начинавшиеся освободительные движения на Востоке, и это описано в поэмах «Труба Гуль-муллы» и «Азы из узы». И все это помимо таких его поэм, как «Война в мышеловке», «Берег невольников», «Горячее поле», «Настоящее», «Ладомир», где речь идет о революции в ее целом. Причем все эти годы он постоянно работал в различных газетах, в бакинском и пятигорском отделениях РОСТА, в Политпросвете Волжско-Каспийского флота.
В конце 1921 года, с началом нэпа, он возвратился в Москву, и об этой новой Москве начал писать большую поэму. Поэма осталась незаконченной. Весной 1922 года, уже тяжело больной, он отправляется вместе с художником Петром Митуричем в Новгородскую губернию. Там в деревне Санталово 28 июня 1922 года, на 37 году жизни, Хлебников умер.
Его последней записью была запись подлинного крестьянского разговора. Все его произведения последних лет полны точных примет времени. События, даты, лица записаны в них, можно сказать, с фактографической тщательностью, так что могут служить историческим первоисточником. Но самое, может быть, поразительное в них — невероятное богатство народного языка. Ведь это были годы, когда вся Россия, как никогда, обратилась в какую-то стихию первородного слова. И поэт в этом взрыве глухонемых пластов языка находил реальное воплощение и подтверждение своих ранних словотворческих опытов. Он замечал, как в октябрьские дни странной гордостью звучало слово большевичка, ему нравилось, как Петроград — совсем в духе его поэтики — переименовывался в Ветроград, его восхищало характернейшее слово, и даже не слово, а всеобъемлющий клич эпохи — даёшь!, и, как отмечают историки языка, именно Хлебников впервые ввел его в литературу.
Как же тут говорить об отрешенности его поэтического слова? Однако основания для такого взгляда на поэзию Хлебникова все-таки есть. Нужно только правильно это понять. Поэзия ведь всегда говорит нам не о фактах, но о смысле фактов. А тем более поэт такого эпического склада, каким был Хлебников, с его постоянным стремлением всюду видеть не просто вещи, людей, события, но именно природу этих вещей, людей, событий, и всегда находить их всеобщие связи и закономерные отношения. Поэтому поэтическое слово Хлебникова совершенно конкретно и непосредственно и в то же время тяготеет к предельной обобщенности и отрешенности символа.
В поэме «Ночь перед Советами» действие происходит в рождественскую ночь 1917 года в Астрахани в доме Хлебниковых. В образах действующих лиц, прежде всего в образах бабы и барыни, написанных с суровым и беспощадным реализмом и с откровенным портретным сходством (точно так, как и на рисунке замечательной художницы Веры Хлебниковой, младшей сестры поэта), мы узнаем мать поэта — Екатерину Николаевну и их домашнюю прислугу Прасковью. Но это всего лишь исходная ситуация. Сюжет поэмы строится таким образом, что за их человеческой враждой мы видим непримиримый социальный конфликт, за которым, в свою очередь, открывается глубочайшая антиномия истории и природы. И вот за образами барыни и бабы встают два могучих образа — Собакевны и Прачки, два образа природы. И если в образе Собакевны воплощена милостивая, вселюбящая, страдающая, рождающая и кормящая природа-мать, то в образе Прачки — разрушающая, безжалостная, стихийная и в то же время очищающая и обновляющая природа космических потрясений и переворотов. Этот образ, который мы встречаем и в других поэмах Хлебникова, становится обобщающим образом революции — прачки мировой истории. Но понять его глубину и мощь можно только в двуединстве с образом Собакевны. Тогда в Прачке, сквозь образ Собакевны, мы увидим воплощение возмездия за извращенную и попранную природу, а в Собакевне, сквозь образ Прачки, — окончательное торжество очищенной и обновленной природы, как бы возвращенной к изначальной гармонии мира.
Часто подобную природную символику Хлебникова толкуют как призывы к историческому возврату назад, к прошлому человечества. На самом деле всякий, кто внимательно прочитает Хлебникова, сможет убедиться, что вся его поэзия как раз говорит о будущем и о движении вперед. Но он был убежден, что никакое развитие невозможно без возвращения, которое однако мыслилось им не как движение вспять, а как возвращение человека и человечества к самому себе, к своей изначальной природе. И лучше всего об этом говорит его поэма «Ладомир»:
Только открывая глаза на природу, человек открывает глаза на себя и на свою историю, и на революцию. Таким открытием и была эта поэма. Читая ее, невольно задаешь себе вопрос: а что же в конце концов такое Ладомир? Одни представляют его какой-то поэтической страной, другие — новым, созданным поэтической фантазией, божеством. Что же, может быть и страна, может быть и божество, может быть и многое другое, потому что смысловое богатство его кажется неисчерпаемым. Если же все-таки попытаться как-то его определить, следуя хлебниковскому строю мысли, то, вероятно, можно было бы сказать, что Ладомир это и есть такое слияние (человека и человечества) с природой, когда человек становится всеобъемлющим, как природа, а природа выступает как единая вселенская личность.
И наконец, чтобы вернуться к непосредственной природе поэта, перечитаем несколько строк из воспоминаний писателя Д. Петровского о его первом посещении Хлебникова:
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 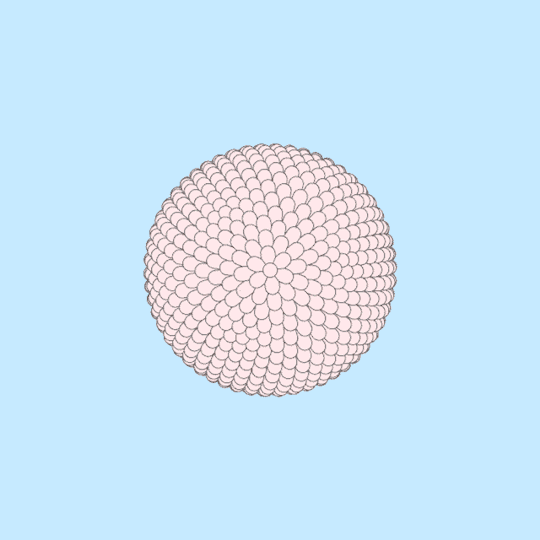 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||