

Фокусом места и времени, срединной “точкой” локуса и истории западно-восточных пересечений в хлебниковском философско-эстетическом мире всегда была Россия — страна Запада по отношению к Востоку и страна Востока по отношению к Западу. Какую бы тему ни затрагивал Хлебников, к каким бы историческим или современным фигурам и коллизиям, символическим топонимам, сюжетам мифологии и классической поэзии он ни обращался — от фантасмагорических образов древнеорочонских преданий до подлинных кровавых картин империалистической мясорубки 1914 года, от Александра Македонского до Председателя Земного шара, от Рейна до Ганга, — размышления о судьбах России, как бы самой высшей силой поставленной в пространственно-временной центр западно-восточных сдвижений или противостояний, постоянно находились и в центре концептуальных философско-художествепных исканий Велимира Хлебникова.
Осмысленное им по-своему движение истории человечества (числовой код к которой поэт выводил с удивительной настойчивостью, во многом преуспев на этом сложном и полном противоречий пути) обусловило вектор и направление его мысли, главной концепции бытия в его художественном мире. В творениях 1890–1910 годов — в философски значительном «Вам», в лирико-драматическом «Смугла, черна дочь Храма...», в исторически новаторском «Кубке печенежском», в глобально-масштабном триптихе сверхповестей и поэм («Медлум и Лейли», «Дети Выдры», «Хаджи-Тархан») созревала и прояснялась магистральная идея Хлебникова — органическая и неизбежная закономерность существования и выживания человечества лишь на путях сдвижения и сближения разнонациональных личностей и общностей, их неумолимого и детерминированного самим Временем (равно как и освященного высшими установлениями Природы и Духа) движения друг к другу и будущего единства.
Вокруг этой идеи и формируются и располагаются основные проблемы хлебниковского творчества 1909–1916 гг.: жизнь и смерть, война и мир, человек и природа и т.п. Емкий и отнюдь не только пространственный бином “Запад — Восток” в художественном сознании Хлебникова — это не одна из перечисленных (или подобных им) глобальных проблем, а именно та кардинальная, доминантная онтологическая и историческая Проблема, которая как бы вбирает в себя все остальные, позволяя эстетически выразить все личное и внеличное, частное и общее, любой малый душевный жест и необъятную вселенскую идею. Ибо вся жизнь человечества, его философии, религии, мифологии, художественные открытия, социальные сдвиги мира в понимании Хлебникова есть выражение одновременно национального и общечеловеческого, в равной мере обусловленных сущностью самой природы Духа, вложенного высшей силой в сознание людей.
Октябрь по существу не внес серьезных коррективов в хлебниковскую концепцию мироустройства, ибо в его понимании был лишь подтверждением правильности этой концепции, исповедуемой им весьма давно. Напомним, что именно Хлебников еще в пору создания «Детей Выдры» с абсолютной точностью предсказал год революционного взрыва в России — за пять лет до Октября.
Вместе с тем нельзя было бы утверждать, что перемены в общественном строе родины не сказались на развитии главной духовно-художественной проблемы, волнующей Хлебникова. Наоборот, лозунги справедливости и равенства, интернационального единства и братства людей, провозглашенные революцией, не просто соотносились с философией хлебниковского творчества, но и предельно концентрированно выражали ее. Сделавшись основой глубоких социальных преобразований в истории и России, и мира, они обрели плоть осуществляемого, а не просто декларируемого деяния, поддержанного непосредственно государством. На наш взгляд, именно эти гуманистические идеи и лозунги революции остро детерминировали необыкновенный прилив творческого вдохновения Хлебникова в 1917–1922 гг., особенно ощутимо соприкасаясь с той частью его поэтического наследия, которая затрагивала вопросы всемирного единства человечества, Запада и Востока, пробужденных к духовному развитию и преображению. Такой аспект проблемы становится превалирующим, рождая и множество лирических откликов, и большинство эпических опытов Хлебникова в это плодотворное пятилетие. Достаточно напомнить, что теме западно-восточного единства посвящены масштабные сверхповести «Азы из Узы» и «Зангези», поэмы «Ладомир» и «Труба Гуль-муллы», целые циклы ориентальных произведений (“бакинский”, “иранский”, “кавказский”), многочисленные строфы крупных творений этой поры — «Ночи в окопе», «Переворота в Владивостоке», «Шествия осеней Пятигорска» и многих иных вещей.
В ходе нашего дальнейшего исследования мы попытаемся показать различие в принципиальных позициях Хлебникова и “практиков” революции по отношению к непосредственным способам российского и мирового переустройства. Поэт, искренне приветствовавший идеи Октября, как увидим, решительно отвергал насильственный характер революции, кровавые коллизии братоубийственной “классовой борьбы”. Он не только принимал, но и разделял демократические, интернациональные декларации новой власти, полагая их по сути и собственной программой поэтических пророчеств и свершений, тем более, что они были близки ему, в частности, и в силу их связи (в его сознании) с великими учениями восточных философов и мудрецов, проповедовавших социальную справедливость и человеческое братство как единственный Путь к Истине. Но, как и они, Хлебников не признавал насилия как возможного способа достижения высокой цели, и это весьма существенно отразилось на его пооктябрьском ориентальном творчестве.
С концепциями Заратуштры, Маздака, Мирзы Баба и других вероучителей и пророков Востока Хлебников был знаком и до Октября. Однако именно в 1917–1921 гг., занесенный не столько судьбою, сколько давними своими желаниями на Кавказ, в Закавказье и Иран, он не только вновь обратился к их учениям о мировом человеческом жизнеустройстве, но и ступил на землю их родной Азии, увидел ее проницательным взором художника, сердцем прочувствовал и пережил реальное знакомство с подлинным, сущим, истинным Востоком, его величественной природой, разнообразными племенами и народами, дехканами и рыбаками, кардашами и ханами, их миром, бытом и бытием. Это дыхание живого Востока внесло особые свойства и детерминаты в эволюцию художественного сознания Хлебникова рассматриваемой нами поры его жизни и творчества — периода краткого, но значительного по глобальным замыслам и духовно-эстетическим открытиям русского поэта.
По совокупности всех сжато отмеченных выше причин тема исследования, обозначенная в его заголовке, получает не только хронологически или биографически обоснованное, но и обусловленное многими общими социально-историческими обстоятельствами развитие. Проследить его вектор и параметры в ориентальной поэзии Хлебникова 1917–1922 гг. — одна из главных наших задач.
В книге «Словотворчество и смежные проблемы языка поэта» В.П. Григорьев точно отметил: „Хлебниковский неологизм, по установке, — это и знак, и образ”.3![]()
Если говорить о заголовке поэмы Хлебникова «Азы из Узы», то формула В. Григорьева дает направление раздумьям в обоих аспектах: необходимы поиски, во-первых, знакового осмысления неологизмов азы и узы (принимая за аксиому, что ‘из’ — обыкновенный предлог); во-вторых, — их образного звучания.
Эти поиски, как известно, ведутся давно, но единого и окончательного толкования заголовка, при всем том, что исследователи сходятся в некоторых бесспорных деталях, все же, на наш взгляд, пока нет. Между тем научная точность здесь необходима, особенно если учесть, какое огромное значение придавал Хлебников названиям своих произведений.
Думается, сразу же нужно высказать по меньшей мере сомнение в верности одного из толкований заголовка поэмы, принадлежавшего Н. Степанову: „Ее заглавие, видимо, иносказательно означает первые проблески, первые буквы — “азы́” свободы, вырывающиеся из “уз” оков, в которые заключены порабощенные и страдающие от многовековой тирании своих правителей народы Азии”.4![]()
![]()
Ключ к пониманию знакового смысла этого неологизма Хлебникова вслед за А. Парнисом, впервые обратившим внимание на связь поэмы «Азы из Узы» со стихотворением «Испаганский верблюд»,6![]()
![]()
![]()
В примечании к стихотворению Хлебников пишет:
А. Парнис отметил: „В.А. Гофман (Язык литературы. Л., 1936. С. 232) обратил внимание, что призрак Аза дается по способу “омонимического сближения” в смежной строке со словом Азия”.9![]()
Прежде чем цитировать текст А. Парниса, относящийся непосредственно к названию поэмы «Азы из Узы», обратим внимание на то, что исследователь не пытается внести смысловую упорядоченность в кажущийся путанным комментарий Хлебникова, где, с одной стороны, сказано об Азии, как стране, уже построившей свободную личность, а с другой — это утверждение как будто снимается придаточным предложением: чего она до сих пор не сделала. Ниже это “противоречие” будет объяснено. Пока же отметим: именно по той причине, что А. Парнис уходит от разъяснения конкретно-исторического смысла хлебниковского комментария, привязанного к точным хронотопическим координатам (и детерминатам), в его расшифровке названия поэмы «Азы из Узы» возникают несуразности. Вспомним, что “освобожденная (свободная) личность”, т.е. хлебниковское “Я”, и то “Я”, которое воплощает Азию-материк, не построившую еще свободную личность, по А. Парнису (в приведенной выше цитате) — “два полюса”, т.е. явления контрастные, противостоящие друг другу. Когда же исследователь стремится расшифровать название поэмы Хлебникова, неологизм аз, относящийся к Азии, из образа несвободы преображается в образ свободы: „Загадочные Азы и узы — это слова-антиподы, и в заглавии поэмы первая часть должна получить такое толкование: “Аз — образ свободы, восходящий к Азии и противопоставленный по смыслу и звучанию (консонанс) узам — образу несвободы”.11![]()
Итак, с одной стороны — АЗ как несвободное “Я”, полярное понятию “освобожденной личности”; с другой — АЗ как “образ свободы, восходящий к Азии” и противостоящий уже только узам. Искусственная запутанность здесь возникает не случайно. Суть в том, что исследователь пытается совместить в рамках одной знаковой и образной системы, какую преставляет название поэмы, неологистические формулы Хлебникова, относящиеся не только к разным произведедениям, но и к различному времени и месту их написания.
Поэма «Азы из Узы» создавалась в основном в течение весны и лета 1920 года,12![]()
Опираться в расшифровке названия (а значит и смысла) харьковской поэмы 1920 года на комментарий к стихотворению о верблюде нельзя: год, пролегший между этими произведениями, не мог не просто расширить, но и по сути перевернуть представления Хлебникова об Азии.
Комментарий к стихотворению 1921 года был написан, во-первых, непосредственно в революционной Азии, в Иране, где восставший народ пытался сбросить иго феодальных ханов;
во-вторых, фактическим участником событий, неофициальным сотрудником Политотдела Каспийского флота — отряда моряков под руководством Ф.Ф. Раскольникова, прибывшего в Гилян для оказания интернациональной помощи “красным кардашам” в установлении здесь народной власти;
в-третьих, этот комментарий (как и стихотворение, именуемое после уточнений «С утробой медною верблюд...») датирован 5 июня 1921 года, т.е. тем временем, когда уже были написаны и опубликованы в газете «Красный Иран» и приложении к ней «Новруз труда» и «Кавэ-кузнец» — гимны новому Востоку (См.: 671).
Этот Хлебников мог поверить в Азию, как в страну, построившую свободную личность, чего она до сих пор (теперь понятно, что значит до сих пор: очевидно, до революции в Гиляне. — П.Т.) не сделала. Этот Хлебников написал в своем стихотворении о верблюде строки, аналога которым мы не найдем в поэме «Азы из Узы»:
Подобного мотива революционного действия в поэме 1920 года нет — есть лишь мотив утопического стремления к освобождению Азии. Но не только Азии. Неточен Р. Дуганов, когда пишет, что „Поэма «Азы из Узы» ‹...› представляет собой нечто вроде мифопоэтической панорамы Азии“:13![]()
![]()
Далее наши расхождения с Р. Дугановым касаются лишь осмысления частных проблем; в основном его мысль о том, что в заголовке поэмы утверждается идея освобождения мира и человеческого духа, близка мне. Но и частности здесь весьма важны, поэтому разговор о заголовке поэмы еще не окончен.
Во-первых, развивая свою идею, Р. Дуганов так же как и А. Парнис, не обходится без частично использованной формулы комментария к «Испаганскому верблюду» („В частности, аз — по Хлебникову — освобожденное я, самостоятельная личность, свободная от уз духовного рабства”).15![]()
Во-вторых, Р. Дуганов полагает, что „в основе поэмы лежит миф о Прометее и его жене Азии. Путем актуализации всей истории развития прометеевского мифа от Гесиода и Эсхила до Шелли и Вячеслава Иванова и поэтической интеграции на этой основе некоторых образов западных и восточных мифологий современные события представлены в поэме как осуществление древнего мифа об освобождении закованного богоборца.
Здесь кое-что вызывает сомнения и возражения. Нигде в «Азах из Уз» нет и намека на то, что позволило бы с такой категоричностью утверждать: „В основе поэмы лежит миф о Прометее и его жене Азии”. Не говоря уже о том, что огромная мифологическая и литературная “прометеиана” включает в себя различные толкования древного образа, сама связь имен у Р. Дуганова (повторяющего систему корреляции имен Прометея и Азии у С. Мирского17![]()
![]()
В этом плане можно вернуться к разговору о знаковом смысле названия поэмы, опираясь и на суждения Р. Дуганова о масштабности неологизма Аз. На наш взгляд, он еще не был никем прочитан в максимально точном и простом его значении, адекватном конкретному философско-художественному контексту поэмы и сознанию Хлебникова в 1920 году. А именно: Азы — это сомножество “азов”, бесчисленность “я”, т.е. человечество, рвущееся из уз рабства к свободе, равной свободе Природы, никому не подчиненной и никем не принуждаемой. Ключом к расшифровке названия и концепции поэмы становятся не строки хлебниковского комментария 1921 года и не миф о Прометее, а логика художественного движения поэмы, идея, заключенная в концовке одной из ее частей: Мы будем сообща // Искать пути свободней (471). Этот сложный и пока еще вполне утопический для Хлебникова мифопоэтический поиск и составляет духовно-художественное содержание поэмы «Азы из Узы», намеченный уже в семантике самого названия.
Чтобы прийти к такому заключению, необходимо опираться прежде всего:
на текст поэмы Хлебникова, причем не на одну лишь ее азиатскую тему, а на всю эстетически-целостную систему произведения;
на анализ, прикрепленный к точно выверенному времени создания этого текста и не опережающий конкретно-исторических фактов и событий в жизни художника (и соответствующих сдвигов в его мышлении);
на представления о круге произведений, близких по духу и времени их появления к поэме «Азы из Узы», а также на ряд сопутствующих записей, писем и документов этой и предшествующей поры, когда формировался замысел поэмы.
В этом плане и важен разговор о расшифровке названия «Азы из Узы» — его верного восприятия и понимания именно на том концептуально-временном уровне, какой определял структуру художественного сознания Хлебникова в 20-м, а не в 21-м году, когда знаковый смысл некоторых его неологистических формул получит новое социально-эстетическое наполнение.
Вот почему спор о заголовке поэмы «Азы из Узы», казалось бы, “частный” и малозначащий, столь необходим: он как бы проясняет “предварительные итоги” исследования уже в начальной стадии — в разгадке хлебниковского неологизма, который всегда был установкой самого поэта (вспомним точное высказывание В. Григорьева), — своеобразным знаковым и образным ключом к тексту, требующим максимально точного прочтения и осмысления.
Хлебников сознавал пространство в его разомкнутости: не случайно в последней главе поэмы «Азы из Узы» — мифопоэтическом «Заклинании множественным числом» — Земля предстает как часть множества — беспредельной системы миров: Вперед, шары земные! (471). И Азия Хлебникова — это не просто точно очерченный континент, а Вселенной смутная душа (471).
Но при всей глобальности “вселенновосприятия” Хлебников видел человечество в его конкретно-пространственной прикрепленности к легко обозримому земному шару, волосатому реками, с росчерками пера морей, степями, где курганы, как волны на волне — вполне замкнутому, малому (в системе вселенной) пространству, где единство всех при внутренней свободе каждого — альтернатива и концепция бытия.
Эта магистральная идея Хлебникова была развернута им еще в дооктябрьских поэмах и сверхповестях (особенно в «Медлуме и Лейли» и «Детях Выдры») и развита в ряде художественных опытов и деклараций 1915–1920 гг.
«Азы из Узы» входят в их число и, очевидно, вряд ли могут быть осмыслены и поняты вне «Письма двум японцам» и «Предложений» (1916), «Воззвания Председателей Земного шара» (1917), «Есира» (1918–1919) и некоторых архивных документов, уже обративших на себя внимание исследователей, но еще не введенных в научный оборот — здесь особенно важны «Азосоюз» и «Индо-русский союз», написанные Хлебниковым в Астрахани в 1918 г.19![]()
Содержание этих и подобных им произведений составляет значительный пласт семантико-понятийного и художественного контекста хлебниковского творчества предоктябрьских и первых октябрьских лет и концентрирует в себе смысл и нерв движения поэта к вершинам “харьковского периода” — поэмам «Азы из Узы» и «Ладомир». Поэтому знакомство с важнейшими идеями предшествующих или сопутствующих им произведений — сущностно необходимое условие верного осмысления названных крупных эпических творений Хлебникова с их доминантной мыслью, выраженной наиболее точно в строке «Ладомира»: Единый смертных разговор (283). К этой идее Хлебников шел последовательно и целеустремленно. Особенностью ее художественного и публицистического выражения в его творчестве следует признать то внимание к широкому пространственно-временному миру Востока, которое объясняется специфическим видением и осмыслением Азии как некоего “материка” или “духовного острова”, способного стать источником “брожения” и импульсом концепции взаимодействия племен, континентов, народов на пути к свободному от уз миру, к единому смертных разговору.
Поскольку образ Азии — один из центральных и в поэме «Азы из Узы», следует прежде всего подробнее разобраться в том значении, какое Хлебников вкладывал в это перманентно возникающее в его творениях понятие, и скорректировать его с глобальной концепцией единства-свободы — доминантой мировоззрения художника в 1917–1920 гг. Это тем более важно, что в дальнейшем, в ходе конкретного знакомства с реальной Азией, знаковый смысл образа, связанного с этим словом, значительно изменится и наполнится иным, новым содержанием.
Еще в 1913 г. в заметках «О расширении пределов русской словесности» Хлебников писал: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым (НП, 342). Понятие “материк” художник уже тогда связывал с осмыслением мира в его нерасчлененности, а восприятие Азии — в особых общедуховных связях России с народами и государствами Востока, отделенными от нее морями и океанами, но близкими ей внутреннему (хотя пока и социально размытому у Хлебникова) самоощущению единства целей и исторических предназначений. В «Письме двум японцам» поэт подчеркивал:
Уже здесь самоопределение личности “Я” ставится в связь с ощущением ее единства с внеличными, но пока отделенными от “другого” мира социумами. Азия мыслится как некий “материк”, объединенный общей концепцией духовности (“Азия” — (клочок письмен) и обладающий особой судьбой и возможностями: У Азии своя воля (604). При этом в «Письме...» нет мысли о союзе именно России и Японии: Возьмемся за руки, возьмем двух-трех индусов, даяков ‹...› Мы могли бы собраться в Токио. Ведь мы современный Египет, поскольку можно говорить о переселении душ, а вы часто звучите как Греция древних (605).
В написанных примерно тогда же «Предложениях» (во многих своих пунктах вполне фантастических и утопических, но полных предощущения грядущих и исторически необходимых перемен) знаковый и образный потенциал понятия “Азия” уточняется в том же направлении, в каком оно будет двигаться в первые пооктябрьские годы. В воображении Хлебникова, полного любви к Земле, миру, человечеству, его будущему, Азия здесь — некий не очерченный конкретными границами островной мир, еще не созданный, но требующий особого “статуса” и осознания (5, 161).
Именно в «Предложениях» особенно концентрированно развиты некоторые важные образы и структуры, вошедшие затем в художественную ткань поэмы «Азы из Узы»: фигуры иранской поэтессы и мученицы за веру и свободу Гуриэт Эль Айн, китайских ученых Хи и Хо, также принявших мученический венец за поиски научной истины; здесь вслед за стихотворением 1916 года «О если б Азия сушила волосами...» появляется излюбленный хлебниковский образ единства мира, возникающий из символики соотнесения названий великих рек. В стихотворении: Ныне я, скромный пастух // Косу плету из Рейна и Ганга и Хоанхо (103); в «Предложениях»: Человек на Миссисипи не плачет ли, если радостен человек на Волге? Используя здесь важнейшие (в будущих эпических творениях) способы выражения национально-человеческого через географо-топонимические знаковые эмблемы (удаленные друг от друга и даже противостоящие друг другу реки как бы концентрируются на малом воображаемом глобусе, смыкаются в нашем сознании в парадоксально далекие-близкие тождества), Хлебников все же завершает свое воззвание к миру и будущему предложением обратить Азию в единый духовный остров с условно намеченной единой морской границей, уходящей за пределы Земли (второе море над нами — небо) (5, 161).
Развитие этих полуфантастических тезисов в декларациях 1918 года «Азосоюз» и «Индо-русский союз» может несколько прояснить движение Хлебникова к идее “единой Азии” и единого мира и к пониманию их корреляции в системе земного шара и “земных шаров”, столь важному для осмысления поэм «Азы из Узы» и «Ладомир». Пространные выписки из названных деклараций поэтому здесь необходимы, тем более что документы эти не вошли ни в одно из крупных хлебниковских собраний, включая пятитомник (1928–1933), «Неизданные произведения» (1940) и «Творения» (1986), хотя в двух последних книгах есть упоминания о них (НП, 465), (696).
При всей утопичности и полете безудержной фантазии Хлебникова в «Индо-русском союзе», подлинник которого, как со всей серьезностью сказано в пункте десятом, начертан на листьях лотоса и хранится в Чаталгае, а хранителем его назначено Каспийское море,20![]()
Но уже пункт четвертый декларации «Индо-русский союз» звучит в ином, вовсе не утопически-инфантильном, а, наоборот, остро социальном и вполне выражающем жесткий дух времени ключе:
Следующий пункт декларации проясняет отношение этого тезиса к проблеме Азии:
Перечень народов (государств), составляющих материк Ассу, не оставляет сомнения в той точной расшифровке знакового смысла хлебниковского неологизма, которая подкрепляется содержанием последующих пунктов декларации «Индо-русский союз». В частности, чуть ниже отмечается: Из пепла великой войны родилась единая Азия.23![]()
Именуемая то материком, то островом (уделы Азии соединяются в остров24![]()
Этот пункт декларации, к которому мы еще вернемся, особенно значителен для исследователя поэмы «Азы из Узы», объясняя некоторые важные образные структуры эпического творения Хлебникова, связанные именно с концепцией единства трех миров и их пересечений с иными мирами.
Но главная тема «Индо-русского союза», позволяющая раскрыть путь к будущим художественно-философским открытиям в поэмах «Азы из Узы» и «Ладомир», — это тема русской революции, давшей импульс освобождению Азии, а через нее, по Хлебникову, — и всего мира. Единство — средство к освобождению, свобода — путь к единству — такова кардинальная линия хлебниковских рассуждений в его декларациях, дающая ключ к пониманию смысла его “харьковских” поэм:
Речь здесь отнюдь не о мировой революции — для Хлебникова важен путь внутреннего пробуждения духа, нравственного освобождения разнонациональных духовных энергий народов мира, каждый из которых по-своему движется к тому единству звезды, которая обозначает для Хлебникова высоту человечности человечества, шедшего к этой идее столетия и уже выразившего ее в творениях лучших умов планеты. Эта мысль закреплена тезисом декларации Хлебникова: Мы бросились в путь веков и собрали подписи Будды, Конфуция и Толстого.27![]()
![]()
Небольшая декларация «Азосоюз» подкрепляет главные положения «Индо-русского союза» тезисами и заявлениями, движущимися примерно в том же направлении. Одним из основных принципов, вокруг которых могли бы объединяться народы Азии, объявлен политический Лучизм как основа мировоззрения народа Азии.29![]()
В обеих декларациях Хлебникова не может не привлечь настороженного внимания тот внешне безусловный и целенаправленный “востокоцентрнзм” их автора, который словно пронизывает оба текста, насыщенных призывами к единству материка Ассу, образами острова Азии, и дополнительно закрепляется в нашем сознании единственным специальным упоминанием о Европе в соответствующем контексте: В этом величественном чертеже Азии мы видим место Европы как спутника, вращающегося вокруг главного светила — Азии.31![]()
Конечно, понимание заявлений Хлебникова как осознанного востокоцентризма, при всем “азиатском” “островизме” его деклараций, было бы неплодотворным. Суть в том, что в 1916–1918 гг. в его сознании идет сложный, зачастую абстрактно-умозрительный поиск путей осуществления идеи единства людей и народов Земли, и Октябрь вносит а этот поиск свои сущностные коррективы.
Сдвижение акцентов в сторону Азии (наблюдаемое впоследствии и в контексте “харьковских” поэм) — следствие глубокой уверенности Хлебникова в том, что не только идея свободы, вне которой он не мыслил себе будущего мира — единства племен планеты — но прежде всего сама практика этого процесса освобождения человечества явно перемещается на Восток, в орбиту которого им, как мы видели, помимо собственно азиатских стран, включена и Россия — как ее древние духовные ценности, символизируемые фигурами Христа и Толстого, так и ее сегодняшняя борьба против государств-буржуев, отождествляемых Хлебниковым именно с империалистической Европой (Мы знаем, что колокол русской свободы не заденет уха европейца,32![]()
Для исследователя важна здесь не национальная (это лишь внешний контур), а социальная направленность мышления Хлебникова этой поры, его не всегда точное в частностях, но сущностно верное в глобальном плане осмысление общественных сдвигов на политической карте мира вследствие Октября и после Октября. По сути утопии и фантазии Хлебникова опирались на реальный расклад сил в сотрясаемом революцией мире, где именно остров Азия, возглавляемый Россией, излучал мощную энергию триединой мечты поэта (и человечества) — равенства, братства, свободы. И Хлебникову, как и многим в ту пору, казалось, что именно наиболее угнетенные государства-пролетарии (недаром он избрал для самовыражения политический язык сиюминутных лозунгов эпохи), т.е. весь материк Ассу, остров Азия, немедленно и в первую очередь откликается на революционный взрыв народов России, чтобы затем перекинуть “мировой пожар” на всю планету.
При всем понимании “средостенного”, промежуточного положения России между Западом и Востоком, особенно рельефно выраженном в эти годы в «Свояси», в воспоминаниях о «Детях Выдры», где Волга была провозглашена рекой индоруссов, а Персия рассматривалась как угол русской и македонский прямых,33![]()
Характерно, что именно в эту пору Хлебников социально расширяет понятие “Азия” включая в него, помимо России, и иные “угнетенные” страны славянского мира. По воспоминаниям В. Земацки (поляка по происхождению) , служившего вместе с Хлебниковым в армии в 1917 г., на его вопрос о будущем Польши поэт ответил: „Польше суждено стать звеном Соединенных Станов Азии” и “прокомментировал” это следующим четверостишием в адрес В. Земацки:
Сочетая в причудливом движении фантазии синие глаза польских женщин, воспетые еще Пушкиным («Будрыс и его сыновья») и мертвые просторы Сибири, очевидно, символизирующие дикую, азиатскую Русь, Хлебников сопрягает здесь эти нестыкующиеся понятия, как бы иллюстрируя свое суждение о Польше как одном из звеньев славянско-азиатского Востока — «Соединенных Станов Азии».
Вместе с тем Запад, Европа, отнюдь не ощущается Хлебниковым как некий символ врага. Это пока лишь “спутник” в общей борьбе за будущее единение народов земного шара, ибо духовная сила Азии, по его мнению, сегодня, в начале “восточного” революционного взрыва, и человечнее, и мощнее: за ней стоят века дикого угнетения, нравственно великие идеи Христа и Будды, Конфуция и Толстого; включение в этот ряд “миров” Магомета, очевидно, отражает и одну из реальностей восточного разноплеменного множества, и, может быть, боговдохновеннность, пророческую подоснову хлебниковскпх прорицаний, хотя исламская религия вряд ли могла символизировать идею единства.
Из всего этого сложного и многогранного сдвижения идей и положений, взаимодействия частных и общих позиций гражданского и художественного сознания Хлебникова вытекала прежде всего та кардинальная программа, которая уже цитировалась выше и могла бы быть названной доминантой его деклараций: Наш путь к единству звезды через единство Азии и через свободу материка к свободе земного шара.
Уже отмечалось, что в декларации «Индо-русскнй союз» специальный пункт посвящен месту создания хлебниковских воззваний (В Астрахани, соединяющей три мира ‹...›). Более ясно выразил идею “астраханского” “окна” на Восток — центра русско-азийской духовности, опирающейся на исторические реальности, — очерк Хлебникова «Открытие Народного университета» (ноябрь 1918). В «Мыслях по поводу» этого события поэт отмечал: Думалось, что у устья Волги встречаются великие волны России, Китая и Индии и что здесь будет построен Храм изучения человеческих пород и законов наследственности, чтобы создать скрещиванием племен новую породу людей — насельников Азии, а проследование индусской литературы будет напоминать, что Астрахань — окно в Индию (НП, 351). Фантастическая “генетика” Хлебникова не заслоняет здесь все той же идеи исторической связи Руси и Азии, простирающейся и в прошлое, и в будущее; но не только ради этого приведено здесь суждение автора «Мыслей по поводу». Для нас гораздо важнее, что мысль о будущем сразу же обращает взор Хлебникова не к узким границам острова Азии, а к беспредельности всей планеты, чей образ возникает непосредственно во фразе, следующей за приведенной выше, — Думалось о том времени, когда единая для всего земного шара школа-газета будет разносить по радио одни и те же чтения, ‹...› составленные собранием лучших умов человечества, верховным советом Воинов Разума (НП, 351).
Таким образом, восприятие Хлебниковым мира в его прорицаемом, прозреваемом единстве ничуть не разрушено той кажущейся “автономностью” острова Азии, материка Ассу, которая декларировалась в астраханских манифестах 1918 года, но мыслилась лишь как начало духовного освобождения и всечеловеческой общности людей Земли, разнонациональных культур и миров.
Одним из первых произведений 1917 года, где развернута тема единства рода человеческого, было «Воззвание Председателей земного шара», условно именуемое поэмой (в одном из рукописных вариантов; см. 707). «Воззвание...», в плане нашего исследования, привлекает не только перекличкой общей идеи всечеловечества с концепцией поэмы «Азы из Узы»; поиск путей к всепланетной общности ведется здесь в том условно-мифологическом ключе, который позволяет обнаружить философско-художественныс связи манифеста Хлебникова и его будущей поэмы. Как и в «Единой книге», в «Воззвании...» устанавливается некая зависимость “авторов”, именующихся Мы, от явлений, стоящих якобы над историческо-детерминированным ходом событий, внеположных им и выступающих как Мировая Природа.
Председатели земного шара не правители и не вожди, они — лишь исполнители воли высших сил, символизируемых в образе Солнца: Оно вложило в нас эти красивые мысли, эти слова и дало эти гневные взоры; ‹...› мы исполним солнечный шепот (609). Идея «Воззвания...» (конец всех войн, создание надгосударства звезды и единого Правительства земного шара) ощутимо перекликается с возгласом из поэмы «Азы из Узы» Война окончена — война мечам, с призывом Вперед, шары земные! Но для нас важно здесь и иное — то, что условно-мифологическая структура «Воззвания...» выражена в традиционной форме восточного пророчества и встающей за незримыми Председателями фигуре пророка, лишь передающего с помощью грозной трубы (609) — образе вполне кораническом, — некий голос свыше. Если вспомнить, что “харьковская” поэма воспринимается тоже как некое прорицание будущего единения наций и племен Запада и Востока, что тема Азии и ее пророков, борцов за веру, основателей новых религий — одна из главных в «Азах...», то станет ясно: связь между этими произведениями не случайна и знаменует некую общую особенность хлебниковского философско-художественного мышления всего исследуемого нами периода, начинающегося с 1917 и кончающегося 1922 годом.35![]()
Не захватывая в свою орбиту всех бесчисленных сфер проблематики и поэтики хлебниковского творчества 1917–1922 гг., этот пласт художественного сознания поэта выступает как одна из констайт его наиболее глобальных, концептуальных масштабных творений не во внешнем, количественном проявлении, а в самом структурном движении художественного текста, в роли его духовных, социально-исторических опор.
Так, в столь, кажется, “невосточном” «Воззвании Председателей земного шара», определяющем общие пути человечества к будущему, знаменательно связывая библейско-кораническне эпохи и символы с временем и эмблематикой революции, с первых же стихов возникает и звучит образ грозной трубы пророков; так же органично вплетается в “современный” политический контекст фигура хайямовского гончара, сквозь руки и вечно вертящийся круг которого проходит человеческий прах — глина и “материал”, прошлое, сохраненное в вещном и духовном мире настоящего, — для будущего: Мы — обжигателн сырых глин человечества // В кувшины времени ‹...› (609); столь же символично введение в Правительство земного шара, рядом с фигурами западного мира, современников поэта — Сун-ят сена и Тагора, деятелей социального и философского движения, духовных единомышленников Хлебникова; образ Тагора, как увидим, вновь появится через некоторое время в поэме «Азы из Узы». И здесь, и там это — новый глашатай и пророк мира и единства людей на Земле, один из “сопредседателей” земного шара, прозревающий Время.
Таким образом, социальная утопия Хлебникова, вызванная февральскими событиями 1917 года, т.е. восходящая к самим истокам его революционного мироощущения грядущих перемен в истории планеты не просто не минует в его сознании реального философско-художественного круга фигур и образов восточного Пантеона, но и воплощается во многом именно через имена, эмблемы, традиционные символы и образы этого мира. Даже когда Хлебников обращается, казалось бы, к расхожим метаморфическим стереотипам, он предпочитает ориентально окрашенную ассоциативную образность и несколько витиеватую “восточно-романтическую” стилевую манеру там, где стремится выразить особенно важную для себя идею, — например, в завершающем, финальном двустишии «Воззвания Председателей земного шара»:
На этой же линии лежит и внутреннее движение доминантных идей и структур поэмы «Азы из Узы», вобравшей в себя множество разноплановых и многоаспектных поворотов хлебниковской концепции западно-восточного ладомира, пространственно-временных и объектно-субъектных пересечений, в раскрытии единства которых “азиатская” семантическая и формальная струя играет значительно большую роль, чем какая-либо иная линия смысла и поэтики.
Формально поэма «Азы из Узы» состоит из восьми отдельных частей, или глав, — именно в таком виде она предстает перед читателем в последнем выверенном исследователями варианте (466–471).
Некоторые из отделенных друг от друга горизонтальными черточками кусков поэмы имеют заголовки (под которыми появлялись в качестве самостоятельных произведений и «Единая книга», и «Азия»), весьма важные для понимания этих ключевых частей эпического творения Хлебникова. В других названия не обозначены, и такие, чаще всего небольшие главки, действительно, играют роль неких “вспомогательных” фрагментов текста (впрочем, весьма существенных для осмысления общей идеи поэмы). Это — «Я, волосатый реками...», «Туда, туда, где Изанаги...», «Это было в месяц Ай...»; особенно значителен и глубок фрагмент, также публиковавшийся Хлебниковым в качестве оригинального произведения, но не имеющий заголовка: «О, Азия! Себя тобою мучу...» Помимо названных здесь, в поэму входят части «Современность» и «Заклинание множественным числом», так же как другие, озаглавленные Хлебниковым и несущие в себе особый опорный смысл, отраженный в самих названиях.
Расположение частей в поэме кажется абсолютно произвольным, неупорядоченным; в этом смысле способ соединения глав заставляет вспомнить точное наблюдение Р. Якобсона:
К такой свободе расположения частей и главок поэмы внутри ее композиционной структуры следует добавить и свободу перебросов различных се кусков из одного творения Хлебникова в другое. Так, «Азия» в одном из вариантов входила в поэму «Царапина по небу» (1920); «Туда, туда, где Изанаги...» — в «Ладомир» (1920–1922); фрагмент «Я, волосатый реками...» включался в «Зангези» (1920–1922), так же как и часть текста «Заклинания множественным числом». Если к этому присовокупить публикации некоторых главок в виде самостоятельных произведений, о чем уже упоминалось выше, то станет ясно, что столь необыкновенно текучий состав поэмы «Азы из Узы», несвязанность ее частей, отсутствие „оправдательной проволоки”, которая скрепляла бы их, стремление поэта избежать точно “пригнанных” текстов — все это должно было бы убедить читателя в правоте Маяковского, уверенно утверждавшего: „У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей — фикция. Видимость законченности — чаще всего дело рук его друзей ‹...› Хлебникова надо брать в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу”.38![]()
Природа целостности поэмы «Азы из Узы» восходит не к особенностям именно этого произведения Хлебникова, а к своеобразию его художественного мышления в целом, эпичного в своей сущностной структуре. Поэтому прав О. Брик, когда пишет, что „Хлебников ни в какой мере, ни в самомалейшей, не был лириком”;39![]()
![]()
![]()
Р. Дуганов пишет о том, что “формально” поэму, „смонтированную из отдельных лирических партий”, можно квалифицировать „и как лирическую, и как эпическую, и как смешанную лиро-эпическую”.42![]()
К поэме «Азы из Узы» все это относится в полной мере. При всем субъектном наполнении хлебниковского “я” в центре творения находится „судьба человеческая, судьба народная”, причем взятая не в национальном, а в общелюдском аспекте — как судьба мира в целом. Единство человечества, его движение от разобщенности к целостности через слияние разнонациональных категорий пространства и времени, сдвижение социально-исторических ценностей, общий смысл душевных помыслов, жертв, принесенных различными народами в борьбе за свободу духа, — все это конечно, огромная эпическая тема. Она не могла бы быть художественно осуществлена Хлебниковым в автономных рамках только «Азии», или «Единой книги», или в структурах лирического вида,44![]()
Попробуем подтвердить этот тезис попыткой анализа двух главок поэмы, внешне гораздо менее “глобальных” по содержательному уровню, чем «Я, волосатый реками...», где, как уже отмечалось, границы субъектного образа (“я”) расширены до пределов земного шара, но где эта трансформация подтверждена всем открытым национально-топонимическим масштабом, метафорическим и гиперболическим ассоциативным строением, фантастическим сочетанием “всенаходимости” по отношению к Земле (полета над ней, ее восприятия во всей огромности) — и “внутринаходимости” (ощущения бытия и дыхания самой Земли, единой, цельной, неразделимой):
Здесь, несмотря на введение привычного субъектного образа (“я”), мы всецело постигаем концепцию единства не просто личного и внеличного, но и общий, уловленный Р. Дугановым объектный смысл главы-отрывка, полностью совпадающий на всех уровнях текста с концептуальным движением предшествующей «Единой книги».
Гораздо сложнее уловить этот объектный смысл в шестой главке поэмы, на первый взгляд, абсолютно выпадающей из общей ее эволюции и композиционной структуры:
Абсолютная несопрягаемость приведенных главок кажется бесспорной, а мысль о целостности поэмы при дискретном их сопоставлении — далекой от истины. Однако целостность одного произведения Хлебникова невозможно уловить вне общего взгляда на цельный мир художника, в котором нет ни частностей, ни случайных “вставок” в законченные, им самим сцементированные вещи, пусть даже отдельные их тексты были когда-то автономными стихотворениями. С этой точки зрения и следует попытаться рассмотреть приведенный отрывок поэмы «Азы из Узы».
Прежде всего нужно напомнить, что сочетание месяц Ай встречается и в других произведениях Хлебникова, — правда, более позднего, “иранского” и “пятигорского” периодов; но здесь, в поэме «Азы из Узы», в понятие Ай не вложен еще тот “восточный” смысл, какой мы наблюдаем, скажем, в «Новрузе труда» (1921), где ‘Ай’ — название первого месяца года в иранском календаре. Наоборот, судя по совпадениям со стихотворениями «Зачем в гляделках незабудки...» (1921) и «Русь зеленая в месяце Ай...» (1921), Хлебников в поэме имеет в виду вовсе не восточный, а древнеславянский календарь, в котором Ай было названием месяца мая. В том чисто русском значении, в каком это слово использовано в приведенной главке (по древнему русскому календарю, используемому Хлебпиковым в названных стихах, ай — май, “грозник” — июль, “серпень” — август, “реун” — сентябрь, “зазимье” — октябрь, “зимник” — декабрь),45![]()
Бессюжетное „излияние” (по слову Н. Берковского) Хлебникова мгновенно переносит нас из “рабыни” Азии, рвущейся из “уз”, в стихию языческой, веселой, детски-наивной Руси — в ту часть острова Азия, где высота (образ неба), очищение (образ дождя), первозданность, “детскость” представлений о мире (образ мальчика) выступают не столько как контраст, сколько как своеобразный “гарант” того внутренне раскрепощенного язычески-раскованного мышления, какое и позволяет именно Руси, сохранившей и в “рабстве” “сердце свободное”,46![]()
![]()
Для нас важно, что эта непреоборимость течения времени, его свободное движение выражены в особой древней форме, национальная ритуально-обрядовая эмблематика которой подчеркнута не только архаичными названиями месяцев по славянскому языческому календарю, но и самой жанровой формой “колядкового” заклинания, с повторами и припевками, полными той значительной “бессмысленности”, которая есть знак абсолютной внутренней свободы безоглядного, радостного народнопоэтического самовыражения. И чтобы не было сомнений в жанровой природе фрагмента, Хлебников дополнительно закрепляет ее лексически: Заклинаю и зову.
Таким образом, фрагмент (глава) поэмы «Азы из Узы» с условным названием «Русь» не только не выпадает из общего композиционно-художественного строя произведения, но и играет в нем весьма значительную роль, намекая на тот “выход” “угнетенных народов” из мира зависимости и скованности, который можмо назвать путем возврата к изначальным, первозданным основам свободного единства всех в лоне Природы, уже “опробованным” древней Русью. Нет, Хлебников не зовет здесь к язычеству, как когда-то в «Виле и Лешем» и подобных произведениях, — такое понимание было бы прямолинейным и неверным. “Языческая” форма фрагмента — лишь условное выражение той же идеи внутренней независимости, которая может охватывать любые сферы бытия — вплоть до “бессмысленных” заклинаний; важно, чтобы все это было одновременно “своим” и частью “общего” — как Русь, как Азия, как течение Дуная и Амура, как древнерусское заклинание и моление японки небу...
Другой отрывок, на первый взгляд не вписывающийся в проблемно-концептуальный мир поэмы, заданный «Единой книгой» и «Азией», — это «Пение второе» из завершающей, восьмой главы «Заклинание множественным числом». Поверхностное чтение вообще не дает возможности как-либо связать этот отрывок с общим содержательным уровнем всего произведения, а тем более увидеть в нем важную в композиционном отношении финальную часть, заключительный аккорд поэмы «Азы из Узы». Отметим попутно, что Хлебников никогда не стремился к “заключительным аккордам”: его творения всегда кажутся как бы оборванными на полуслове, на спокойной и, кажется, случайной ноте, которая, однако, всегда несет в себе достаточно внутренних перекличек с предшествующими опорными главами или кусками текста. Так происходит и здесь; приведем фрагмент «Пения второго», посвященного сугубо личным отношениям персонажей (по сведениям А. Парниса, прототипом героини, по-видимому, была В.Д. Демьяновская, „которой в то время был увлечен и сам поэт”48![]()
Содержание этого фрагмента поэмы было бы, видимо, весьма сложно постигнуть без знания текста стихотворения Хлебникова «Председатель чеки», недавно опубликованного А. Парнисом с комментариями, проясняющими реальную подоплеку описываемого и впрямую связывающими цитированный выше фрагмент с отдельными тематическими и биографическими пластами новонайденного автографа. Особенно важен для осмысления концовки поэмы «Азы из Узы» монолог героя «Председателя чеки»:
Нерон и Христос, предельная жестокость и запредельная доброта... Это сочетание в одной душе и в одном сердце двух душ и двух сердец кажется противоестественным, а понятия, стоящие за именами-символами, — несопрягаемыми. Но бытие — и мир личности, и мир вообще, — как понимает их Хлебников, устроены иначе. Здесь все — в том числе и контрастное, противоположное, различное, несопрягаемое — сосуществует, переплетается и живет в пределах единого — и эта главная идея всей поэмы «Азы из Узы» неожиданно получает столь эмблематичную “историческую” подоснову в “случайной” черно-белой фигуре председателя чеки с сердцем Нерона и Христа, склеенным из двух, казалось бы, несовместимых “половинок”.
К числу подобных концептуально важных перекличек «Председателя чеки» с текстом финального отрывка поэмы «Азы из Узы» относятся и строки стихотворения, касающиеся и личной, любовной темы: Вдруг подымалось одеяло на полу, // И из него смотрела то черная, то голубая голова ‹...› И тогда он — голубой и черная — она, на день и ночь // И на две суток половины оба походили — единое кольцо.50![]()
Конечно, нарисованный в хлебниковском финале, эпизод — это всего лишь мир двоих — непохожих, разных, что подчеркнуто и традиционным образом контраста (“день — ночь”), и разноплановой цветовой гаммой (голубой-черный), и непосредственно числовым “кодом” (Две пары глаз — ночная и дневная, // Две половины суток); но в то же время; это мир единый, целостный, даже очерченный некой условной линией — окружностью “острова любви”; не таким ли “островом любви” разных, но близких по самому роду своему человеческому представителей “гомо сапиенс” является в представлении Хлебникова и весь летящий во вселенной земной шар? Не случайно как вариант стиха из поэмы «Азы из Узы», звучит строка из «Председателя чеки», весьма точно выражающая высказанное выше предположение о раздвоенном единстве мира: И на две суток половины оба походили, единое кольцо.51![]()
Этот образ “единого кольца” и весь смысл фрагмента возвращают внимательного читателя Хлебникова к его ранней поэме «Медлум и Лейли», где любовь двоих также символизировала вечное единство противоположностей, которое лежит в основании не только мира чувств, но и мира вообще — пусть разделенного, но “обреченного” быть целостным и общим, ибо он объединен тем кругом, которым очерчены пределы шара — “земных шаров”, так высоко и “внелично” возникающих непосредственно перед процитированным отрывком — в «Пении первом» того же «Заклинания множественным числом»:
Возвращение к идее «Медлума и Лейли», где “контрастное единство” героев обретало всепланетную западно-восточную концептуальность; перекличка “единого кольца” с “кругом небосклона”, по которому движутся западная и восточная звезды — Лейли и Медлум, — это попытка точного прочтения поэмы «Азы из Узы» в общем русле хлебниковского движения к мысли о всечеловеческом единстве как главной в его творчестве 10-х годов XX в. Пока мы стремились показать, что к этой мысли как к исходной точке художественного мышления поэта восходит любая, даже самая “личностная” или личная часть поэмы «Азы из Узы», на первый взгляд не связанная с ее “внеличными”, глобальными главами; что композиция поэмы активно утверждает эту мысль и что каждый “атом” текста так или иначе пересекается с ее общей концепцией.
В этом плане вполне закономерно и упоминание о «Египетских ночах» Пушкина, введенных в отрывок с помощью органично вписывающегося в контекст финала (и всей поэмы) оксюморона холодное вино. Образ вина, которое одновременно горячит и, судя по эпитету, охлаждает, как нельзя лучше передает парадоксальность идеи раздвоенного единства. Вместе с тем мы помним, что эта идея заключена и в самих «Египетских ночах» — во всей разветвленной структуре художественных контрастов пушкинского шедевра, воплощающих в себе и противоречивое соединение западного и восточного миров в рамках целостного произведения, где на русском языке передана импровизация итальянца о египетской царице (чей образ давно привлекал к себе и Хлебникова).52![]()
Наиболее философски-масштабными частями поэмы «Азы из Узы», как уже отмечалось, являются «Единая книга», «Азия» и «Современность». Логика композиции, утверждающей концепцию Хлебникова именно в их “перетекании”, диктует и рассмотрение этих частей в последовательном анализе.
«Единая книга», — эпический зачин поэмы — это и видение, и пророчество, и нерв хлебниковской идеи единства человечества, взятого в его онтологической сути — как частицы вечной и мудрой Природы. Люди, народы, как и реки, горные цепи, орлы, киты, груди морей, — это только страницы великой и вечной книги, беспредельной и нескончаемой в пространстве и времени, никем не созданной и свободной.
Почему именно Природа выступает в этой главе поэмы как идеал поэта? Потому что Природа представляет собой некий образец — возникшее из разнообразия единство множеств, существующих не по чьей-то воле, а по своим внутренним законам, никем не писанным и лишь условно “собранным” границами земного шара в метафорическую книгу. Книга у Хлебникова — это лишь одна из приблизительных ассоциаций Природы с явлением духа, понятным людям всех стран и народов, ибо она соотносится с наиболее сущими представлениями о предметном “носителе” установлений и законов, религий и символов духа. Но именно эти духовные законы, собранные в книгах различных племен и рас и призванные утвердить свой национально-мифологический мир и статус как единственный, и разделяют человечество. И потому, по Хлебникову, Веды и Коран, Евангелие и своды установлений монгольской мифологии — все это должно исчезнуть, конечно, символически, что подчеркнуто художественно воссозданным в зачине поэмы актом добровольного самосожжения великих национальных эмблем:
Так же, как существуют прототипы характеров, очевидно, можно обнаружить явные или скрытые “прототипы” сюжетных коллизий. Так, запечатленный в «Единой книге» обряд самосожжения разнонациональных символов вер может восходить к реальной ситуации, возникшей в жизни Хлебникова 6 января 1918 г. (дата указана самим поэтом). Во время революционных событий в Астрахани, где он тогда был, случилось то, о чем сам Хлебников рассказывает в отрывке «Никто не будет отрицать...»:
Сличая приведенную запись с «Единой книгой», мы можем предположить, что именно этот случай стал фактологической основой смоделированной Хлебниковым коллизии, с тем различием, что в соответствии с замыслом поэмы «Азы из Узы» инициатива сожжения символов веры разных народов здесь переходит от автора к самим “героям”. Во всяком случае именно «Искушение святого Антония», с его потоком мифологических образов Запада и Востока, явственно воспринимается (особенно при сопоставлении отрывка с текстом поэмы) как внутренний подсознательный плацдарм размышлений Хлебникова о верах и их носителях; в пору создания «Единой книги» эти размышления могли легко пересечься с воспоминанием о сожжении страниц философской драмы Флобера, дав мощный импульс одной из наиболее впечатляющих и концептуально важных картин поэмы Хлебникова.
Вернемся теперь непосредственно к цитированной сцене самосожжения великих книг.
Абстрактную и фантастическую картину Хлебников стремится представить как реальную и достоверную с помощью приема “заземления” (обращение к вещным воспоминаниям, детства, обыденным деталям степного калмыцкого быта, использование “низкой” лексики); но в то же время обратим внимание на оксюморонный эпитет благовонный, сопровождающий столь низменное понятие, как кизяк, к которому применено столь же намеренно высокое и несколько архаичное определение прах степей. Итак, с одной стороны — простейшие и словно внеóбразные, сущие реалии: кизяк, костер, калмычки, дым, с другой — невероятность эмблематических образов, их внезапная персонификация, сверхассоциативность художественного ряда, их представляющего (Белые вдовы ‹...› страницы большие — моря // Что трепещут крылами бабочки синей ‹...›). Реальность деталей снимает ирреальность общей картины, в которой небо обретает землю, мифическая “игра” — естественность и человечность, мечта — живую плоть истины. Создание подобного фантастически-реального действа, впечатления одновременно достоверности и условности, предметности и абстрактности, ощущения Земли и Неба здесь нужно Хлебникову для того, чтобы дать читателю почувствовать невозможность изображенного столь же остро, как его возможность и необходимость, а представленную парадоксальную картину увидеть не только как полет воображения, но прежде всего как осознанную концепцию земной жизни в целом — в ее сущей разъединенности и в ее подчиненности Природе, воплощенной в образе единой книги.
Выше решался вопрос о том, почему идеалом художника в задающей тон экспозиционной части поэмы становится Природа. Теперь попытаемся ответить на другой вопрос: почему символом единства избрана Книга?
Если листать книгу, то боковой обрез страницы образует полусферу. Если продолжить это движение вниз (скажем, держа книгу на весу), угол страницы образует полную окружность; не на это ли намекает концовка главы:
Графически это можно изобразить в виде круга, земного шара, где каждая страница автономна и независима, но все они связаны, скреплены одним стержнем. Другими словами, Книга, по Хлебникову, — модель мира, вещественно-идеальный образ мира, уже существующего в ипостаси самой Природы .и лишь получающего в воображении поэта иное, может быть, более понятное человеческому разуму ассоциативно-предметное воплощение.
Образ книги избран Хлебниковым и по другой причине: она столь же определенно символизирует единство, сколь ясно напоминает и о разделенности этого единства: не случайно в экспозиции названы не просто книги, а эмблематические своды различных вер, религий, представлений о жизни духа — различные не только по существу своему, но и по тому национальному кругу охвата, который всегда выступал как признак именно разделенности и несхожести людей мира, а не их единства: древнеиндийские Веды, мусульманский Коран, христианское Евангелие, ойрато-калмыцкие (монгольские) писания.
Именно поэтому с первых же строк художник избирает фантастическое действо добровольного самоуничтожения как необходимое условие преодоления “парадокса книги”, чей образ означает одновременно и сцепление, и автономность — единство различного, которое можно привести к безусловному единению лишь путем возвышения над приоритетами национально-единственного ряда и осмысления необходимости общедуховного слияния в человечество, органично-единое как сама Природа. Отсюда и мотив самоустранения национальных источников межплеменных раздоров и различий, причем источников наиболее древних, где кроются как бы корни, начала тех религиозных догм, которые, став национальными символами, и ныне мешают единению разных народов.
Противопоставление этим “священным” книгам именно образа свободной Природы косвенно выявляет их метафизическую несвободу, подчиненность сковывающей идее веры, ограничивающей возможности человеческого духа отвержением иных вер. Именно эту роль Вед, Библии или Корана, а не их духовно-художественный потенциал имеет в виду Хлебников в «Единой книге». Наоборот, все, что касается этой стороны общечеловеческого бытия и что всегда тем глубже, чем национально ярче и определеннее, есть именно тот фактор, который в наибольшей степени связывает людей планеты; не случайно проблеме духовной связи разнонациональных культур посвящена целая главка поэмы, следующая за «Азией» (Туда, туда, где Изанаги // Читала «Моногатори» Перуну, ‹...› Где Амур целует Маа-Эму, // А Тиэн беседует с Индрой, // Где Юнона с Цинтекауатлем // Смотрят Корреджио // И восхищены Мурильо, ‹...› // И Хокусаем восхищена // Астарта — туда, туда). Японская мифология здесь соседствует с греческой, китайская — с эстонской, греческая — с индейской, скандинавская — с зулусской. Пересечение духовных миров и искусств разных пространств и эпох, жизни духа различных древних и современных народов призвано показать, что в сознании художника образ Природы и национальные образы мира, острее всего выраженные в мифологии и искусстве, существуют в своей главной, свободной ипостаси, когда ничто не претендует на главенство и никто не связывает никого приверженностью к своему, восхищаясь Красотой, Гармонией, Духом с той же простотой независимости, с какой большие моря трепещут крылами бабочки синей.
В этом плане концепцию Хлебникова можно было бы назвать словом, еще недавно имевшим четко выраженный смысл, но сегодня обретающим иное общечеловеческое наполнение. Космополитическая сущность «Единой книги» несомненна. Это есть прежде всего восприятие мира как бесчисленного множества человеческих душ, разных, но равных в своем миропонимании и праве на свободу национального самоощущения, религии, привычек, нравов и чувств. Это раскрыто в великолепном по силе убежденности и тонкой аналитической разнонациональной образности отрывке из «Единой книги», где каждая нация или регион представлены великой рекой (ассоциация, повторяющаяся во многих произведениях Хлебникова, в том числе и дооктябрьских):
Обратим внимание на то, как непоследовательно и беспорядочно мечется взор художника по пространствам планеты: из России он перелетает в Египет, оттуда — в Китай, затем — в Соединенные Штаты. Отсюда — вновь на другой континент, в Индию, а потом — переброс в восточноевропейскую страну; оттуда — опять на африканский континент, но уже в Черную Африку. И вновь — в Азию, но уже иную: языческую, идолопоклонническую, чтобы из нее “перелететь” в холодную, чопорную Англию. Внутрикомпозиционный принцип отрывка напоминает то же “нанизывание”, что и строй всей поэмы, однако здесь он имеет дополнительное содержательное значение: перебросы художника осуществляются с тем безразличием к национальной или расовой “иерархии”, которое гораздо ближе к понятию равенства национально-региональных символов в сознании Хлебникова, чем к их равнодушному или тем более тенденциозному восприятию.
Главное слово, которое в каждом стихе либо названо, либо подразумевается в неопределенно-личной форме сказуемых, — люди; в пределах цитированного отрывка оно впрямую упомянуто четырежды, а в косвенной форме (‘янки’, ‘молятся’, ‘поют’, ‘носят’, ‘окутали’, ‘стоят’, ‘секут’, ‘ставят’) — еще 8 раз. И даже в последнем стихе (И Темза, где серая скука ‹...›) передано прежде всего человеческое ощущение, скрытое в метафорическом эпитете и личностном восприятии повествующего. Таким образом, слово это столь многократно повторено в отрывке, что являет собой как бы живое “наполнение” реестра географических названий, которое делает «Единую книгу» истинным обращением к роду человеческому. Он представлен поэтом не только безгранично широко топонимически, не только исторически точно и этнографически достоверно. Главное — он раскрыт с той поэтической проникновенностью в национальный характер каждого из упомянутых (вернее, стоящих за образом-символом реки) народов, которая доступна лишь таланту большого художника.
Образы-эмблемы разнонационального и почти традиционного ряда воплощены — каждый — одним тонким мазком. Это либо гигантская фигура национального героя (Разин), либо образы народной веры: поклонение солнцу, язычество; это идеи определенного вероучения, проявляющиеся в особой, национально “угаданной” ассоциативности (темные люди — деревья ума — метафора, связанная с пантеистическими представлениями индийцев); это, наконец, передача внутренних особенностей или внешнего своеобразия той или иной нации через “визуальное”, цветовое письмо: Желтый Нил (повторение Лермонтова), белые рубахи болгар, черные лица негров, серые туманы над великой рекой англичан, звездный флаг американцев... И весь этот разноцветный, многоликий и разноплеменный поток у Хлебникова сцеплен не только семикратной анафорой ‘и’, или девятикратным обращением к великим рекам, или десятикратным повтором союза ‘где’, но прежде всего — идеей воплощенной в заголовке экспозиции поэмы: единая книга.
Если существует, пусть в воображении художника, некая единая книга, символизирующая неразделенность, связь, жизненно необходимое взаимодействие всего сущего на земле (не только “физического”, “природного”, но и духовного), то кто же “автор” этой единой книги? На первый взгляд, вопрос прост, и ответ ясен:
Если привычно ассоциировать начало последнего стиха (имя мое) с именем самого поэта, то получится, что автором «Единой книги» (не главы поэмы, а ее объекта) является сам Хлебников, что может показаться вполне приемлемым предположением, особенно при воспоминании о “присвоенном” им себе звании Председателя земного шара. Однако при внимательном чтении «Единой книги» эта гипотеза рассыпается вмиг.
Что такое “я” Хлебникова в экспозиционной главе, да и во всякой поэме «Азы из Узы»? Анализируя отрывок «Я, волосатый реками...», Р. Дуганов писал: „Перед нами тождество личного и внеличного, личное я совершенно растворено во внеличном и одновременно внеличное полностью воплощено в личном”.53![]()
![]()
Это наблюдение полностью относится и к «Единой книге», хотя поначалу кажется, что экспозиция ее (Я видел, что черные Веды ‹...›) передает лишь воображение самого поэта, полет фантазии его личного “я”.
Постигнуть внеличный смысл “я” в «Единой книге» и обнаружить подлинного автора-творца помогает сличение некоторых цветовых металогических фигур, одна из которых (Имя мое — письмена голубые) ясно соотносится с соответствующими оттенками иных эпитетов и метафор, чье смысловое значение не оставляет сомнения в их принадлежности к более масштабным явлениям, чем личное “я” художника. Первую из таких фигур мы можем выделить в стихе Реки великие синим потоком, вторую (в отрывке Я, волосатый реками) — в строке И — вихор своевольный — порогами синеет Днепр.55![]()
Корреляция цветовых тропов и тех семантических “кодов”, которые заключены в определяемых ими образах рек, позволяет постигнуть тот факт, что письмена голубые и есть эти самые великие реки, образующие на обложке надпись творца. Поэтому-то имя мое произносит не поэт или его “лирический герой”, а сам творец. Кто же он?
В сложном мире Хлебникова, который мыслил категориями всечеловеческого бытия и синкретичного лироэпического сознания, способного запечатлеть глобальность и множественность бытия, “творец” (или “автор”) единой книги, т.е. того же бытия, — понятие весьма неоднозначное. Можно сказать, что в “я” Хлебникова заключен образ Земного Шара; можно согласиться и с мнением того же Р. Дуганова, что поэма «Азы из Узы» написана „от имени Прометея, символизирующего здесь единое свободное человечество”;56![]()
Не случайно его поэма захватывает в свою орбиту столь масштабные образы пространства и времени, будучи обращенной к различным континентам и разным эпохам истории — от Западной Европы до Дальнего Востока и от мифологического времени до современности и прорицания грядущего.
Выход в сферу времени с особенной силой ощутим в главе «Азия», где тема единства обретает форму выстраданного столетиями пророчества, слагающегося из пересечения больших и малых событий, имен, дат и образующего сложный мир Востока, постигнутый Хлебниковым как составляющая той высшей силы, которая и заключена в имени творца и в “я” его поэмы.
Композиционное единство первой и третьей глав поэмы «Азы из Узы» («Единая книга» и «Азия») опирается на развитие в них доминантного образа книги, которая предстает в «Азии» в виде древней, пожелтевшей от времени летописи бытия народов Востока: Ты поворачиваешь страницы книги той ‹...›, читаешь желтизну страниц ‹...›, народов развернула свиток ‹...›.
Обращение “ты” здесь — это обращение к образу Азии, которая в главе, названной ее “именем”, есть одновременно “герой” и “сюжет”, пространство и время, люди и события, субъект и объект действия, сама книга бытия и ее читатель. Своеобразный “синтаксис” времени, созданный Хлебниковым, возвращает нас к осмыслению глобальности явлений, связанных с материком Азия, к хлебниковскому ощущению России (и всего происходящего в ней в годы революции) как неотъемлемой части этого “материка” и его истории:
В этом фрагменте важно прежде всего уловить мысль о человеческом начале как одной из составляющих единой книги, представленной в первой главе, как мы помним, лишь образами природы. Возвращаясь здесь к опорному образу моря — воплощению пушкинской „свободной стихии” (росчерки пера морей), — Хлебников в «Азии» не ограничивается им, изображая уже иное, народное “море” гнева, отчаяния и восставшего бешенства масс как ту социально-историческую силу, которой и предстоит не просто “перелистать”, но по сути создать единую книгу бытия — новую природу человека и человечества.
Образ исторического времени, возникая в начале главы как настоящее, обозначенное через точную дату (расстрел царя, июль 1918 г.), движется в сознании художника к будущему через всю воскресающую в его памяти тысячелетнюю историю Азии, воспринимаемой как исток рода человеческого, который предстает здесь в роли не столько читателя, сколько героя книги, взятого в его древнейшей, восточной ветви:
Прежде чем показать, как этот “свиток” развернут в главе «Азия», воплощенный в целом калейдоскопе апокрифических фигур Востока, вернемся к образу времени, помогающему постигнуть причины хлебниковского восприятия именно материка Азии как начала грядущих исторических перемен.
Как ты стара! Пять тысяч лет — в этом обращении к Азии и указании на ее “возраст” образ времени возникает, так сказать, “впрямую”, уходя в домифологическую историю бытия, в дочеловеческое, “обезьянье” время, своеобычно переданное поэтом (Ты разрешила обезьянам // Иметь правительства и королей ‹...›) (468).
Мысль о древности Азии — самого раннего читателя и одновременно творца единой книги — находит и косвенное выражение в цитированном выше отрывке, где образ исторического времени художественно органично соотносится с бушующим океаном народной стихии. Разветвленная система тропов хлебниковского “синтаксиса” завершается уподоблением толпы — многоточия, вслед за которым возникает новый, кажущийся странным в контексте последнего стиха “знак”: И трещины столетий — скобкой. Практика показывает, что подобные “странные” образные ряды Хлебникова требуют не “дешифровки”, а лишь внимательного чтения.
Ассоциация толпы — многоточия уловлена острым взором художника, брошенным как бы сверху, с птичьего полета, когда множество фигурок кажется скоплением точек. Чуть большего напряжения стоит осмысление скобки как одного из знаков, напоминающего по своей конфигурации цифру ‘100’ в римском числовом ряду (графическое изображение сотни здесь — ‘С’, сходное с округлым синтаксическим знаком — скобкой — в пунктуации многих народов). Отсюда — Трещины столетий — скобкой.
Так передано соответствие множеств, корреляция много-точия людских толп и многовековой истории Азии, выражающей у Хлебникова вечное пересечение человека и времени как сущностный фактор содержания единой книги, иллюстрируемый именами борцов за свободу Азии, полководцев, царей, ученых — и связанных с их деяниями исторических событий, достойных, по мнению Хлебникова, страниц единой книги бытия, знаменующей Путь к свободе духа.
История Азии в одноименной главе поэмы «Азы из Узы» — не бесстрастная летопись. Скорее, это кровавый мартиролог, где время движется отнюдь не в хронологической последовательности, а некими импульсивными толчками, которые восходят к внезапно возникающим в сознании художника именам, картинам, эпизодам перманентной жизни духа народов Востока. Эта панорама-жизнь постоянно взрывается прозрениями, открытиями, подвигами, обрывается насильственными смертями героев, но она есть История и потому длится тысячелетия, будучи, по сути, нетленной и бессмертной.
Архитектоника главы, воплощая излюбленный хлебниковский композиционный принцип “нанизывания”, позволяет художнику создать полотно, состоящее из ближних и дальних планов, где какие-то события и фигуры отодвинуты и прочерчены контуром — двумя-тремя стихами, — а иные выдвинуты вперед, названы по именам, и целые фрагменты текста передают ту или иную грань их биографии и того трагического, героического, драматического в ней, что привлекло к ним внимание Хлебникова.
История Востока не представлена здесь наиболее известными именами. Но в общем своем движении набросанные поэтом абрисы фигур восточного Пантеона, зачастую мало известных или не известных широкому читателю, все же передают хлебниковскую концепцию истории Азии как вечного противостояния свободного духа — духу несвободному, опирающемуся на стремление заменить мысль властительной догмой с помощью всепобеждающего насилия. Это относится у Хлебникова не только к сфере непосредственно социальной борьбы, но и к миру религии, философии, науки, чьи представители вне временной последовательности, а лишь следуя причудливому лёту художественной фантазии автора, возникают перед нами.
Выбор героев «Азии», осуществляемый Хлебниковым, может показаться произвольным и даже случайным. Но в нем есть своя эстетическая логика.
Среди введенных в главу фигур есть и правители, и поэты, и ученые. Но все они не значатся в “обоймах” наиболее знаменитых исторических лиц. На наш взгляд, это объясняется общим движением идеи Хлебникова в поэме, всем ее контекстом, внутренней связью глав произведения.
Известный герой истории существует в летописи, апокрифе или предании как бы независимо от Природы, он “отделен” от нее своей мифологизированной и потому всепостоянной легендарностью, поднятый мифом над Временем, над жизнью и смертью.
Неизвестный, непрославленный представляет собой словно частицу самой Природы, явленной в нем своей главной, ни от чего не зависящей гранью, восходящей к духу, идущей “от Бога”.
Поэтому Герои «Азии», чьи имена зачастую не раскрыты даже в комментариях, — девушка с мечом, повитуха мятежей — старуха, сын царя, прославивший нищету, иранская поэтесса и воительница Гурриэт эль-Айн, некие мудрецы, которые живьем закопаны, царь, бросившийся в море с младенцем на руках и утонувший, китайские астрономы Хо и Хи (названные Хлебниковым в ином контексте мучениками науки),57![]()
Принадлежность к естественному миру Природы делает органичным все, что свершают герои «Азии». Поэтому у Хлебникова нет упора на героическое начало в характерологии главы: персонажи ее даны со своими слабостями и в чисто человеческом облике. Таковы, например, два портрета: Гурриэт эль-Айн и китайских астрономов. Хлебников как бы оставляет за читателем право узнавать больше сказанного им о нарисованных в поэме героях, останавливаясь в поэме на тех чертах, которые приближают их к обыкновенным людям; идея, героика, трагическое начало кроются уже в самих фигурах, избранных поэтом и представляющихся ему эмблематическими в своих деяниях, оставшихся “за кадром”. Поэтому лишь последний стих в обоих “портретах” касается мученического конца персонажей, причем он вовсе не педалируется: гибель необыкновенных людей обыкновенна, она предрешена их собственным выбором — выбором Пути борьбы за идею.
Гурриэт эль-Айн у Хлебникова здесь несколько экзотична, прелестна, таинственна и женственна; Хо и Хи — легкомысленны, грешны, веселы, безмятежны. Она прекрасна, они малопривлекательны; но в них во всех живет рельефно и тонко выраженное всей системой точно и щедро подобранных тропов личностно-человеческое своеобразие, резко оборванное ударом топора или сожженное в пламени костра. Это человеческое начало, как показывает текст, важно для Хлебникова. Но еще более значительно для него то, что скрыто “за текстом” и что привело этих людей к казни. Создается парадоксальный, но психологически необходимый контраст между всем текстом приведенных отрывков и последним стихом каждого из них, — по сути, между внешним и внутренним миром героев, причем второй, скрытый, угадывается лишь в трагическом контексте исхода, и он и является главным для Хлебникова. Такой прием внезапно оборванного “портрета” заостряет внимание читателя на “затекстовом” содержании, образа, дает возможность ощутить сверхзадачу главы «Азия», доминанту концепции смерти и бессмертия: и прекрасное, и безобразное просто существует и просто исчезает; гибель мученика за идею остается в веках и составляет духовную субстанцию истории.
Чтобы ощутить, сколько внутреннего напряжения вкладывал Хлебников в “затекстовый” смысл используемого им восточного имени, вспомним, что такое имя обычно возникало в его творчестве неоднократно, закрепляясь в сознании читателя как некий опорный, эмблематический образ, несущий в себе самом гораздо более масштабное значение, чем простой “знак” Востока. Поэт возвращается к нему, непрерывно расширяя его художественное содержание, и нередко отдельные “канонизированные” самим Хлебниковым фигуры уже не нуждались в ономастическом обозначении, угадываемые в чертах, штрихах и деталях хлебниковского восточного “традиционного” образа, гораздо более емкого, чем давшее ему жизнь реальное историческое имя.
Так, многократно обращался Хлебников к имени и подвигу Гурриэт эль-Айн, ощущая в ней почти идеальную фигуру своей концепции Героя — Поэта, мученика, распятого за свои убеждения, поборника свободы, выступающего против догм с проповедью независимого духа; помимо этого, в Гурриэт Хлебников ощущал воплощение гордости, презрения к смерти, чистоты (“непорочности”), — всего, что, по его мнению, необходимо было рабыне Азии, чтобы вырваться из уз и прийти к единству с миром Природы и человечества. Поэтому имя Гурриэт эль-Айн или, как увидим, штрихи и детали ее образа, уже закрепленные в нашем сознании в связи с этим именем, возникают в тех или иных ракурсах у Хлебникова всякий раз, когда речь идет об Азии. По сути, эти образы в его стихах, заметках, эссе и даже письмах попросту отождествлены.
Азия всегда возникает у Хлебникова как девушка с распущенными по плечам волосами, которые символизируют и множество, и красоту, и вольность, и уподобляется то рекам, то языкам костра — образам, так метафорически тонко воплощающим в поэме «Азы из Узы» эмблематику единства различного и возможной гибели в борьбе за это единство. Вспомним синие реки планеты, текущие по плечам земного шара, костер, на котором была, сожжена Гурриэт. Образы эти сливаются, обретают сквозную символику и узнаваемость, становятся как бы взаимозаменяемыми и вместе с тем взаимосвязанными. Еще в стихотворении 1916 года Азия возникает именно в этих внутренних связях и переплетениях:
Развитие образа Азии в том же ключе наблюдается в поэме «Азы из Узы» в главке, о которой речь еще впереди:
Связь с именем Гурриэт эль-Айн возникает не из параллельного прочтения этого отрывка и «Азии», а из соотнесения деталей образа восточной девы-Азии и соратницы знаменитого Баба, запечатленных в других произведениях Хлебникова. В стихотворении «Видите, персы, вот я иду...», где речь ведется от имени “пророка”, воплотившего в себе прошлое и будущее, новая Азия, уже освобожденная от уз, обращается к старым символам героики и духовной силы, как к святыням, которыми клянутся. И клятва эта звучит так:
В еще большей степени соотносится имя Гурриэт с образом девы-Азии в пересказанном Дм. Петровским хлебниковском повествовании «Октябрь на Неве», включенном в его воспоминания о поэте: И не новым ли черноокая Гуриэт Эль Айн посвящает свои шелковистые чудные волосы, тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие?59![]()
Несколько забегая вперед, чтобы не возвращаться потом к имени Гурриэт эль-Айн, отметим, что и в дальнейшем оно непрерывно коррелируется в восприятии хлебниковского читателя с темой освобождения, обретенного любой ценой, даже ценой смерти. Азия может обрести свободу (или бессмертие) только идя таким путем — через муки и гибель лучших, почти святых. Но это путь не только Азии. Истоки образа глубже.
Называя иную версию смерти Гурриэт (и называя ее разными именами),60![]()
В «Досках судьбы» значение этой коллизии существенно расширено и приближено к тому концептуальному плану, какой диктовал поэту замысел образа Гурриэт (и девушки с мечом, и девы-Азии) в поэме «Азы из Узы». В одном из набросков «Досок...» Хлебников писал: Разве Тахаре, или Хурриэт Эль Айн, не напоминает Магдалину, когда она затягивала на своей шее веревку?61![]()
Это, конечно, важно с точки зрения идеи мученической гибели за свободу духа, идеи, которая спонтанно рождает внутреннее соотнесение Гурриэт с образом не только Магдалины, но и распятого Христа. Но не менее важно, что высший, общий смысл хлебниковского уподобления знаменательно связывает трагические фигуры истории двух ветвей рода человеческого — мусульманской и христианской. Подобная связь, возникающая в контексте множества пересечений всего творчества Хлебникова с поэмой «Азы из Узы», поднимает тему единства как равенства в смерти на уровень библейского, мифологического символа.
Вместе с тем, в отличие от мифологических представлений о Пути Духа, Хлебников знает, что путь к единству лежит через борьбу. В главе «Азия» эта мысль выражена на всех уровнях текста. Тема “народного гнева”, возникшая в зачине, обретает завершение в уже цитированном последнем стихе главы: А здесь единство Азии куют умы — сюжетно-композиционная связь возникает именно как Путь, “фабулой” которого служит повествование о непрерывных подвигах и казнях смельчаков. Лексика главы максимально “воинственна” и семантически привязана к теме битвы, боя, восстания, оружия, рода смерти, типа действия (вернее — противодействия) героев: То девушка с мечом, противишься зачатью — образ восточной Жанны д’Арк; повитуха мятежей; не замечая в войске убыли; над письменами войн; победа войск; костром окончив ‹...›; вы казнены ‹...›; Мукден кровавила година; страна костров, и лобных мест и пыток; его судов Цусимою разгром; войска в песках уснули. Тема постоянной борьбы, противоборства, противостояния “верха” и “низа”, контраста богатства и нищеты пронизывает всю металогическую структуру главы, звуча даже в стихах, казалось бы, не имеющих отношения к социальности: У горных ласточек здесь гнезда отнимают пашни; пепел девушек несут небес старшинам, // Доверив прах пустым кувшинам; Здесь сын царя прославил нищету. И более обнаженно: Престолы здесь бросаешь ниц; Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди.
Это вечное противостояние множеств в истории общества превосходно оттенено в «Азии» соответствующим непрерывным движением в природе, где также сталкиваются, умирают и возрождаются, вздымаются и падают земля, вода, флора и фауна: курганы, как волны на волне ‹...› — былые богдыханы умерших табунов; вот множество слонов // Свои вонзают бивни ‹...›, несутся с пеньем ливни ‹...› // Лавинами воды // То водопадами, что взвились на дыбы, // Конями синевы на зелени травы // И в кольца свертнутыми гадами (468).
В «Единой книге» образ моря воплощал могущество и размах, покой и величие Природы; в сложной системе тропов «Азии» образы воды, соотнесенные с темой “народного гнева” и волнения, трансформируются в “волны”, “ливни”, “лавины”, “водопады”, похожие на взвившихся на дыбы коней, на могучих змей; но все это также цельный мир разбушевавшейся стихии, принимающей разные формы и облики, но единой в своей сути и в своей ни от чего не зависящей свободе.
За прозрачной символикой гиперболических метафор и уподоблений ясно ощущается поднятая “на дыбы” самой историей, движением Времени бушующая Азия, стоящая на краю гибели (Целуешь здесь края одежд чумы), но идущая через смерть и казни, к тому, что звучит сразу же вслед за мрачным стихом о чуме в заключительной строке главы: А здесь единство Азии куют умы (468). Конечно, и мятежный строй, и философский оптимизм «Азии» восходят прежде всего к общей концепции Хлебникова, воспринимавшего историю и современное состояние социально-духовной жизни народов Востока как “дрожжи” всемирно-исторического процесса движения человечества к единству. Но не забудем, что формировалась эта концепция отнюдь не безотносительно к конкретному и точно обозначенному историческому времени. С этой точки зрения весьма важно отметить, что «Азия», представлявшая собой вначале небольшое стихотворение из 12 стихов (зачин будущей главы), написанное в 1920 г., обрела в дальнейшем масштабность, историзм и социальную остроту в процессе работы над поэмой в конце 1921 и начале 1922 года, когда Хлебников писал «Зангези», куда намеревался включить и «Азию» (695). Другими словами, главу «Азия» писал уже автор «Кавэ-куэнеца», «Новруза труда», «Трубы Гуль-муллы», своими глазами увидевший восставших потомков Гурриэт эль-Айн и ростки новой духовности в человеке свободной Азии. Отсюда особая социальная и философская актуализация темы Востока, определяющая то важнейшее место, которое занимает «Азия» в поэме «Азы из Узы».
Это подчеркнуто возвращением к теме и “героине” — Азии в главе, следующей за «Современностью», и отрывком «Это было в месяц Ай...». По сути, речь идет о своеобразном продолжении «Азии», ее социально-духовных, философских, исторических пересечений с миром поэта. Вновь Азия представлена здесь в образе девушки с распущенными волосами, вновь возникают имена исторических лиц, так или иначе влиявших на судьбы людей планеты, вновь появляется проблема Пути к свободе и единству:
Хлебников не случайно избирает здесь форму, близкую к жанру любовной лирики, хотя первые же слова обращения к деве («О, Азия!...») дают понять, что речь пойдет не о любви к женщине.
Итак, с одной стороны, “героиней” становится некая пространственно-временная, социально-историческая, национальная субстанция; с другой, уже в лирическом зачине, в его нежных эпитетах, в предметных детализированных штрихах “портрета”, передающих земную, реально зримую девичью красоту, явно воплощен облик и смысл человеческий. Эта амбивалентность восприятия и художественного изображения Азии достигает точности эстетической формулы в стихе Вселенной смутная душа, где образ и выведен почти за пределы рода человеческого во вселенскую беспредельность и в то же время с помощью единственной не имеющей аналогов и синонимов лексемы ‘душа’ введен в систему личностных реальностей бытия, касающихся именно человека.
С точки зрения идейно-художественного замысла поэмы подобная кажущаяся парадоксальной связь “Вселенной” и “души” как целого и части вполне мотивированна. Азия для Хлебникова, как мы помним, есть тот остров (или материк) мира, с которым ассоциируется понятие свободы. Вселенная свободна в своей беспредельности пространства и времени. Душа человеческая свободна в своем выборе Пути, жизни и смерти. Финал главы, два заключительных ее стиха, с исключительной емкостью концентрируют в себе все, эти сложные сцепления опорных образов Хлебникова, здесь нет ни одной случайной или “служебной” лексемы, все слова художественно функциональны. Образы времени (будем) и пространства (путей), выбора (искать) и свободы (свободней) цементируются все той же идеей единства (мы, сообща) девы и Учителя, души и Вселенной, Азии и мира:
Общеизвестен поэтический афоризм Тютчева: „Умом Россию не понять”. По сути, Хлебников применяет эту мысль по отношению к Азии (в которую, мы помним, он включал и Россию). Не случаен эпитет смутная, сопровождающий слово душа: он дополнительно усложняет попытку логического, рационального объяснения понятия “Азия”. Лишь чувство, вбирающее в себя и сохраняющее в сердце не событийную, а духовную энергию Азии, чувство, соприродное страстям и страданиям тех, кто, как и Гурриэт, проповедовал равенство и боролся за духовную свободу, может дать возможность постигнуть эту “Вселенную”, стать “современником” ее истории и движения к будущему (И вновь прошли бы в сердце чувства, // Вдруг зажигая в сердце бой ‹...›).
Через чьи чувства может раскрыться духовный потенциал Азии? Хлебников называет имена трех великих мудрецов Востока, вновь избирая героев трудной и страдальческой судьбы, чья жизнь была борьбой за духовную независимость: индийского философа Махавиры — вероучителя джайнизма (‘Махавира’ в переводе с санскрита — “великий герой”); мифологическую фигуру Заратустры — пророка новой веры, а также новой общественной структуры; основателя государства маратхов, восставшего против коварного Ауренгзиппа (1, 89), — поэта Саваджи. Четвертым в этом ряду выступает лирический субъект главы: “я” Хлебникова вновь вводится в историческое пространство и время Азии, осуществляется художественный переброс его души в ту Вселенную, душой которой является она сама: И вновь прошли бы в сердце чувства, // Вдруг зажигая в сердце бой, // И Махавиры, и Заратустры, // И Саваджи, объятого борьбой. // Умерших снов я стал бы современник.
Вновь традиционная и символическая ономастика позволяет Хлебникову создать предельно концентрированную систему тех высоких человеческих ценностей, которые, выражая разновременные и разнонациональные явления восточной истории, вместе с тем воплощают идею духовности, борьбы за нее, страдания и вознесения, распятия и воскресения как общечеловеческий идеал и образец. Об этом говорят сложные и мученические судьбы людей (или мифологических героев), стоящих за названными поэтом именами. Но для нас важно и то, что их идеи и борьбу именно как идеал и образец воспринимает лирический субъект главы, как бы продолжая их борьбу и впитав в себя их мудрость и заветы. Оставаясь личностью XX века и человеком Запада, он удостоен обращения Азии со словом, с которым она всегда обращалась лишь к своим пророкам и поэтам: Учитель....
Таким образом, эстетическая структура главы, развивая идеи «Азии», несет в себе смысл более масштабный, во многом определяя связь и художественную целостность всех частей произведения и образуя своеобразную предфинальную “развязку” сюжета о движении человечества как поиска свободных путей к единству.
Образ времени возникает в поэме «Азы из Узы» в многочисленных ипостасях, в пересечениях исторических ретроспектив («Азии») и полетов фантазии («Единая книга»), мифологизированного Пантеона известных фигур (Туда, туда, где Изанаги ‹...›) и авторских заклинаний (Это было в месяц Ай ‹...›). Вместе с тем концепция поэмы не могла быть осуществлена во временных срезах лишь прошлого и будущего, истории, мифологии и фантазии: она рождалась не только в гуще социальных страстей революции, но и под ее непосредственным воздействием. Современность врывалась в поэму естественно и закономерно — как ее непосредственная тема и как ее повивальная бабка, как стержень идеи освобождения человека от рабства и как импульс художественного творения об этом. Именно поэтому Хлебников и делает композиционным центром поэмы главу с именно таким — абсолютно точным и целенаправленным — заголовком: «Современность».
Перед нами момент сегодняшней бурлящей и непрерывно взрывающейся истории мира, переживающего гигантский катаклизм. Вместе с поэтом мы вдруг ощущаем себя на этих серых площадях, у заборов с развешанными на них страшными объявлениями, из которых в художественный текст включены лишь главные слова: „Будут расстреляны на месте!”. Хлебников не приукрашивает революцию. Мы — среди насилия и смерти, летящих пуль и сверкающих ножей; через всю главу проходят, как отблеск времени, образы огня (Пылает пламя ненависти), железа (Во дни зачатия железных матерей; В подобном двум лучам железе; В железных берегах тех нитей ‹...›, В железном русле проводов ‹...›), оружия (убийцы нож, добычею ножам и даже: где серны рог блеснул ножом), разрухи (А паровозы в лоск разбили // Своих зрачков набатных хлевы ‹...›)...
Как же сообразуется весь этот хаос — время сумасшедших социальных потрясений, век, кажется, сплошной гибели живого и разумного, неслыханной дешевизны человеческой жизни (И на устах глухонемого // Всего одно лишь слово: „К стенке!”), век насилия — со светлыми идеями «Единой книги» и «Азии»?
Да, Хлебников не живописует революцию в розовых красках. Как и Блок в «Двенадцати», Маяковский в соответствующих главах поэмы «Хорошо!», он видит ее во всей развороченной кровавой яви современного бытия, что подчеркнуто перекличками этой части поэмы со многими строками «Ночного обыска», «Переворота во Владивостоке» и других произведений Хлебникова 1919–1921 гг. о революции. Но именно в главе «Современность» он называет тот же XX век столетием правительства ученых, как бы давая понять, что его вера в человеческий разум не погасла и не иссякла, несмотря на пылающее вокруг пламя ненависти. Он мечтает о победе добра и мира:
Высокий ломоносовский, державинский стиль подчеркивает здесь высоту мечты поэта, но, может быть, в той же степени — невозможность ее претворения в реальность, ее отторженность от сущего мира живой и грозной современности. И все-таки Хлебников верен себе и своей концепции единства людей планеты. Залогом этой веры для него является человеческая культура, которую нельзя ни расстрелять, ни заковать в железо. И об этом в главе говорится также высоким поэтическим слогом, но уже имеющим иную функционально-художественную нагрузку:
Как видим, для утверждения концепции разума как единственной альтернативы среди этого „безумного, безумного мира” Хлебников вновь избирает фигуры (на этот раз — современников), символизирующие, по его мнению, вершины духа Востока и Запада XX века. Имена индийского философа — провозвестника национальной и социальной свободы, борца с расовой дискриминацией — и знаменитого английского фантаста, с его глобальным восприятием человека во вселенной сквозь призму научных концепций времени и близким Хлебникову пониманием могущества разума, способного преодолеть социальный хаос, — эти имена, по-видимому, выбраны из огромного Пантеона великих фигур XX века отнюдь не случайно. Они вновь воплощают тему западно-восточного единства как знака онтологической неразделенности мира вообще — тему, подхваченную в главе о русской революции образными рядами инонационального, разнонационального наполнения, казалось бы, не имеющими отношения к изображаемым Хлебниковым событиям 1917–1919 гг. и возникающими здесь по странной прихоти художника:
Этот фрагмент составляет “сердцевинную” часть главы «Современность» — и в архитектоническом, и в семантическом плане. “Китайские”, “индийские”, “африканские”, “американские” мотивы, возникающие рядом со страшными реалиями эпохи страны морозов, возвращают нас к глобальному смыслу и идее переворота, совершающегося в конкретное время и в конкретной стране. Хронотопические парадигмы, сдвигаемые поэтом в обычные для него неожиданные пересечения разнонациональных образов мира, полностью выражают тот главный доминантный пласт поэмы, который напоминает нам, что современность — лишь часть человеческой истории, а Россия — лишь часть мирового сообщества людей; что русская революция, какими бы тяжкими и сложными путями она ни шла, есть также часть Пути — движения аз из уз, к свободе человеческого духа и единству людей на Земле. В этом смысл главы, где даже витающая над людьми смерть не может убить гуманистического оптимизма художника, сегодня прозревающего Над черепами городов // Века таинственных зачатий.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 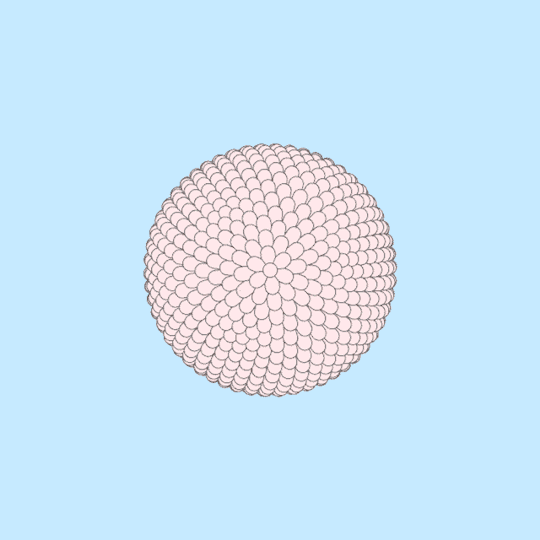 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||