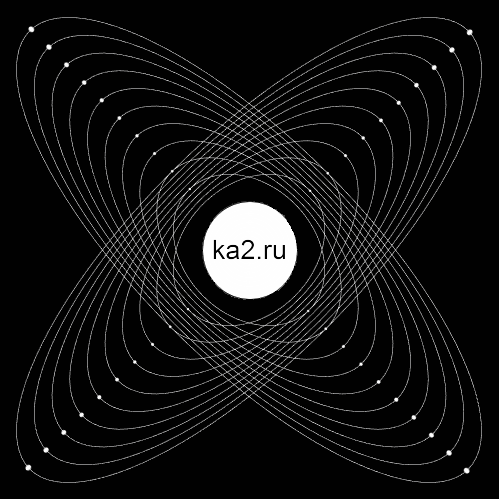Иванов Вяч.Вс.
Приветствие и доклад на конференции
«Велимир Хлебников в новом тысячелетии» (9–11 ноября 2010)
Сопроводительная записка В. Молотилова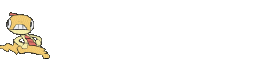
Не имея возможности лично присутствовать на конференции, я хотел бы воспользоваться случаем и не только приветствовать всех её участников и пожелать им успешной работы, но и рассказать им немного о значении Хлебникова для тех старших поколений мастеров русской культуры, от имени которых мне в какой-то мере позволяет говорить мой жизненный опыт.
Ранним знакомством с литературным и научным творчеством Хлебникова я обязан моему отцу — замечательному и, как я вместе со многими ценителями полагаю, недооткрытому русскому писателю Всеволоду Иванову. Ещё на рубеже 1920-х и 1930-х годов Иванов писал о том, что ему больше всего близка проза Хлебникова. Я хорошо помню день 70 лет назад. Мы сидим вдвоём с отцом за столом в нашей квартире в писательском доме на Лаврушинском переулке. Только что вышел том неизданного Хлебникова. Отец получил его и жадно набросился на неизвестные для него тексты. Он обращается ко мне со словами: „Такие строки у него самые лучшие” — и цитирует из «Где, как волосы девицыны...» (стихи о Хлебникове в армии во время первой мировой войны):
В пеший полк девяноста третий
Я погиб, как гибнут дети.
Отец получил от Кручёных, непрерывно занимавшегося Хлебниковым и его наследием, многие рукописи Хлебникова. По дороге в эвакуацию в начале войны мне при пересадках, в то время бурных и опасных, поручили беречь сокровище — свёрток, где были завёрнуты наибольшие отцовские ценности: от руки написанные (и тогда ещё даже не перепечатанные на машинке) тексты двух неизданных романов отца «Кремль» и «У» (они были впервые изданы после его смерти) и хлебниковские тетради и листы с вычислениями. Когда в 1942-ом году мы жили в Ташкенте, там в эвакуации оказался вместе с нами химик Шемякин. Ему отец дал почитать некоторые из хлебниковских сочинений о ритмах истории, и я присутствовал при их разговоре, в котором писатель был более склонен к математическому подходу к прошлому, чем учёный. Н.И. Харджиев — в то время один из лучших знатоков Хлебникова — мне говорил, что он планировал издание его сочинений, в редколлегию которого вошёл бы мой отец и, как и он, высоко ценивший Хлебникова С.Я. Маршак (тот больше всего любил Мне мало надо: краюху хлеба / Да каплю молока).
Когда к самому концу войны Заболоцкий был освобождён и после тюрьмы и лагеря вернулся, ему (старому ленинградцу) в Москве негде было жить. Его приютил на время Ираклий Андроников в своей однокомнатной квартире на Собачьей Площадке, где умещалась вся его семья — жена, две дочери и нянька. В этой тесноте устроили вечерний приём и позвали на него Пастернака (с Заболоцким они с той поры и подружились, Пастернак про него говорил: „интересный, закавыристый”). Весь вечер они спорили о Хлебникове. Он оставался для Заболоцкого в той же мере главным поэтом, каким был для всех обериутов в их творческие годы. Пастернак, в 1914 г. испытавший сильнейшее влияние Хлебникова и написавший в его духе несколько стихотворений о Москве и её истории, потом отошёл от Хлебникова, считая его взгляды на историю утопическими. Заболоцкий его опровергал. Возражая, Пастернак на память приводил много цитат из Хлебникова. Заболоцкий ловил его на этом: „Вы же сами столько из него помните!”
Поэты послевоенного поколения, с которыми я дружил — Самойлов и Слуцкий — в начале стихописательства увлекались Хлебниковым. Слуцкий произнёс о нём речь на церемонии переноса праха Хлебникова на Новодевичье кладбище (так вышло, что его могила расположена близко к той, где стоит камень с факсимильной росписью моего отца). Я запомнил тот день и написал о нём:
С ним с детства говорили птицы,
Не верил он своим глазам.
В кого он перевоплотится,
Он не догадывался сам.
Ему казалось — „Вишну новым”
Его проносят циклы лет.
Он жил одним числом и словом —
Числяр, юродивый, поэт.
Не в сумраке потустороннем
Всё Хлебникова существо,
И мы не перезахороним,
— К себе в Москву вернём его.
С середины 1950-х годов в Москву стал часто наезжать Роман Осипович Якобсон, начавший свои научные разыскания с книжки о Хлебникове, которого он хорошо знал лично (и даже познакомил с открытой Блоком заумью русалок, позднее вставленной Хлебниковым в его собственный текст). Якобсон подражал необычной манере Хлебникова тихо читать стихи (запись такого подражательного чтения Якобсоном хлебниковского «Кузнечика» была сделана в Музее Маяковского). Для него, как и для его старых друзей (в том числе Виктора Борисовича Шкловского, которого я с детства знал близко как товарища и соавтора моего отца) Хлебников был основным поэтом всего столетия.
Возвращение к Хлебникову стало очевидным в дни его юбилея 25 лет назад. Одну из многих лекций о нём, произнесенных в те дни, я читал в клубе завода недалеко от Марьиной рощи. Зал был полон. Я полагался на свою память, потому что с юности знал наизусть многое из им написанного. Но в нескольких местах запинался или путался. Мне приходили на помощь и меня поправляли многие из сидевших в зале совсем молодых людей. Меня поразило, как досканально страна уже тогда страна знала Хлебникова. Это подтвердили и тиражи многих тогда — после большого перерыва — вышедших изданий его сочинений.
Один из последних содержательных поэтических разговоров о Хлебникове был у меня с Иосифом Бродским в Нью-Йорке в канун получения им Нобелевской премии. О Хлебникове мы с ним говорили не раз. Совсем ещё молодой начинающий поэт был увлечён статьей Тынянова о Хлебникове. В те годы я нахожу у Бродского прямое воздействие Хлебникова в стихотворении о любви и разлуке, где Бродский начинает говорить голосами птиц — как Хлебников в «Мудрости в силке». А в Америке, увидев меня спустя 15 лет впервые после дня, когда он приезжал проститься со мной перед отъездом, Бродский заговорил о моей большой работе о Хлебникове и науке — она ему попалась в переводе, печатавшемся из номера в номер в сербской авангардной газете. Хлебников — при его любви к взаимообогащению славянских языков и литератур — был бы рад тому, что сербский текст связал двух русских, не перестававших о нём думать на разных континентах.
Я и сейчас, как во время занятий в архиве Хлебникова в РГАЛИ (старое ЦГАЛИ) — когда я нашёл у Хлебникова предсказание взрыва атомной бомбы и намёк на понимание солнечной энергии как происходящей от термоядерного взрыва! — думаю, что Хлебникова, автора «Досок судьбы» и других стихов из чисел (его собственное выражение), посвящённых истории, ещё откроют в будущем. Наступивший экономический кризис заставил вспомнить о предсказаниях, содержавшихся в математических уравнениях истории, выведенных вскоре после смерти Хлебникова Н.С. Кондратьевым. Но повторяемость событий, которые касаются отнюдь не только экономики, явно подтверждает основные наблюдения Хлебникова. Кажется вероятным, что его мысли найдут продолжение не только в литературе, но и в науке.
ХЛЕБНИКОВ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
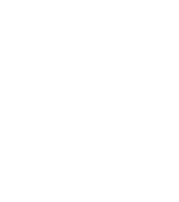
з многих вопросов, касающихся научных занятий и открытий Хлебникова, я коснусь двух: его отношения ко времени и истории (главным образом в «Досках судьбы» и примыкающих к ним текстах) и его специальных занятий Египтом и его древней историей.
Возможны разные подходы к «Доскам судьбы». Один из них — чисто эстетический: можно заниматься их (особым) местом в поэтике Хлебникова.1 Как и близкое по времени написания (в канун предчувствовавшейся поэтом и — судя по не вполне ясным его записям, им предсказанной — смерти) «Зангези»,2
Как и близкое по времени написания (в канун предчувствовавшейся поэтом и — судя по не вполне ясным его записям, им предсказанной — смерти) «Зангези»,2 это — сверхповесть. Этим последним термином Хлебников называл открытый им способ композиции большого произведения, которое включает фрагменты, написанные разными стилями и на разных языках, но группирующиеся вокруг некоторых определённых тем и персонажей, например, Зангези (условное имя, соотносимое с автором). Как объясняет сам Хлебников в «Зангези»,
это — сверхповесть. Этим последним термином Хлебников называл открытый им способ композиции большого произведения, которое включает фрагменты, написанные разными стилями и на разных языках, но группирующиеся вокруг некоторых определённых тем и персонажей, например, Зангези (условное имя, соотносимое с автором). Как объясняет сам Хлебников в «Зангези»,
Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.
(Х 1986, с. 473)
Наиболее близкую анaлогию в литературе того времени, испытавшей воздействие воззрений на искусство футуристов,3 я нахожу в романах Джойса — «Улиссе» и «Поминальном бдении по Финнегану» («Finnegans Wake»). При таком анализе «Досок судьбы», который на первое место выдвинет их структуру как литературного целого, включённые в него ряды чисел, соответствующие хронологические таблицы и уравнения должны читаться как элементы этой структуры.
я нахожу в романах Джойса — «Улиссе» и «Поминальном бдении по Финнегану» («Finnegans Wake»). При таком анализе «Досок судьбы», который на первое место выдвинет их структуру как литературного целого, включённые в него ряды чисел, соответствующие хронологические таблицы и уравнения должны читаться как элементы этой структуры.  Ново по сравнению с другими сверхповестями Хлебникова то, что в «Досках судьбы» используются не только словесные тексты, но и числовые, которые иногда (в некоторых Листах — частях) приобретают особую значимость. В этом смысле Хлебников — изобретатель жанра семиотического текста сверхповести, состоящего из ряда словесных и числовых текстов. С чисто эстетической точки зрения не очень важно, в какой мере хронология верна. В том, что относится к древности, не нужно быть последователем гиперкритицизма Фоменко, чтобы убедиться в том, что большинство цифр условно или фантастично; даже и теперь при всех радиоуглеродных и дендрологических методах хронология Древнего Востока существует в нескольких альтернативных вариантах. Значительно больший интерес может представить научная фантастика предлагаемых Хлебниковым предсказаний. Его прогнозы строились на основе попыток проверить и уточнить построенную им теорию циклической смены противоположных событий через определённые интервалы времени. Подбирая материал для проверки гипотезы, Хлебников пришёл к практическому выводу, что наиболее проверяемые выводы относятся к новейшей истории, поскольку хронология современных событий общеизвестна, легко может быть уточнена, и прогнозы на будущее могут быть соотнесены с текущими событиями. Напомним, что в зародыше те приёмы, которые он пытался разработать, содержались уже в традиционных способах измерения расстояния между событиями противоположного характера (например, возвращение Наполеона к военной и политической активности — полное поражение Наполеона). В повторяемых исторических описаниях расстояние мерили в днях (например, 100 дней в приведённом примере). Хлебников занимался определённым историческим или географическим и культурным объектом (например, Египтом или советской властью в России и в мире) и пробовал определить соответствующие числовые характеристики, используя свои уравнения как вспомогательный материал, украшение или орудие вычисления. Подход оставался художественным или интуитивным в той мере, в какой требовался поиск некоторых основных признаков (степень свободы Египта от Англии; границы советской власти и расширение географической сферы её влияния в мире). Полученные результаты (в обоих приведённых случаях, подтверждаемые последующими событиями) могут истолковываться как верные предсказания (Хлебников сам склонен был на этом настаивать). Некоторые (далеко не все) из сделанных им прогнозов будущих событий оправдались. Самым ярким примером остается повторяющееся в его бумагах и в них выделенное предсказание, касающееся советской власти и расширения сферы её влияния.
Ново по сравнению с другими сверхповестями Хлебникова то, что в «Досках судьбы» используются не только словесные тексты, но и числовые, которые иногда (в некоторых Листах — частях) приобретают особую значимость. В этом смысле Хлебников — изобретатель жанра семиотического текста сверхповести, состоящего из ряда словесных и числовых текстов. С чисто эстетической точки зрения не очень важно, в какой мере хронология верна. В том, что относится к древности, не нужно быть последователем гиперкритицизма Фоменко, чтобы убедиться в том, что большинство цифр условно или фантастично; даже и теперь при всех радиоуглеродных и дендрологических методах хронология Древнего Востока существует в нескольких альтернативных вариантах. Значительно больший интерес может представить научная фантастика предлагаемых Хлебниковым предсказаний. Его прогнозы строились на основе попыток проверить и уточнить построенную им теорию циклической смены противоположных событий через определённые интервалы времени. Подбирая материал для проверки гипотезы, Хлебников пришёл к практическому выводу, что наиболее проверяемые выводы относятся к новейшей истории, поскольку хронология современных событий общеизвестна, легко может быть уточнена, и прогнозы на будущее могут быть соотнесены с текущими событиями. Напомним, что в зародыше те приёмы, которые он пытался разработать, содержались уже в традиционных способах измерения расстояния между событиями противоположного характера (например, возвращение Наполеона к военной и политической активности — полное поражение Наполеона). В повторяемых исторических описаниях расстояние мерили в днях (например, 100 дней в приведённом примере). Хлебников занимался определённым историческим или географическим и культурным объектом (например, Египтом или советской властью в России и в мире) и пробовал определить соответствующие числовые характеристики, используя свои уравнения как вспомогательный материал, украшение или орудие вычисления. Подход оставался художественным или интуитивным в той мере, в какой требовался поиск некоторых основных признаков (степень свободы Египта от Англии; границы советской власти и расширение географической сферы её влияния в мире). Полученные результаты (в обоих приведённых случаях, подтверждаемые последующими событиями) могут истолковываться как верные предсказания (Хлебников сам склонен был на этом настаивать). Некоторые (далеко не все) из сделанных им прогнозов будущих событий оправдались. Самым ярким примером остается повторяющееся в его бумагах и в них выделенное предсказание, касающееся советской власти и расширения сферы её влияния.
От первых черновых заметок о повторяемости одинаковых и противоположных событий Хлебников приходит к выведению уравнений времени, приобретающих вполне точный характер. По словам Хлебникова, всё свелось к степеням двух и трёх, наименьших простых чисел. Важны те числа и константы, которую Хлебников предположил в качестве основной составной части этих уравнений. Чтобы в этом разобраться, нужно представить себе роль чисел в натурфилософии и философии истории Хлебникова. В связи с этим понадобится рассмотреть константы природы и большие числа в его понимании. Подход Хлебникова к проблемам нумерологии был связан с его пониманием констант структуры и эволюции природы и общества.4 Хлебников был одним из тех многочисленных авторов первой четверти ХХ в., которые обратили внимание на неизученность проблем времени и необходимость нового к нему подхода (ср. Иванов 2007). В его понимании времени была черта, отделяющая его от многих писателей и учёных, почти одновременно с ним или несколько позднее писавших на эту тему. Время занимало его прежде всего в связи с регулярной повторяемостью событий. Он сам по этому поводу говорил о сходстве понимания цикличности времени у него и в таких восточных представлениях, как буддийские. В этом отношении наиболее близким оказывается сопоставление его работ, прежде всего стихов и прозы «Досок судьбы» (1920–1922), с написанными почти тогда же (1917–1925) главами прозаической книги «Vision» («Видение») великого англо-ирландского поэта Йейтса.5
Хлебников был одним из тех многочисленных авторов первой четверти ХХ в., которые обратили внимание на неизученность проблем времени и необходимость нового к нему подхода (ср. Иванов 2007). В его понимании времени была черта, отделяющая его от многих писателей и учёных, почти одновременно с ним или несколько позднее писавших на эту тему. Время занимало его прежде всего в связи с регулярной повторяемостью событий. Он сам по этому поводу говорил о сходстве понимания цикличности времени у него и в таких восточных представлениях, как буддийские. В этом отношении наиболее близким оказывается сопоставление его работ, прежде всего стихов и прозы «Досок судьбы» (1920–1922), с написанными почти тогда же (1917–1925) главами прозаической книги «Vision» («Видение») великого англо-ирландского поэта Йейтса.5 Как и Хлебников, Йейтс думает о противоположности (у Хлебникова символизируемой математическим знаком) двух начал — по Йейтсу, Согласия (Concord) и Разногласия (Discord). Но при этом Хлебников целиком в сфере математических вычислений (ДС, л.1).
Как и Хлебников, Йейтс думает о противоположности (у Хлебникова символизируемой математическим знаком) двух начал — по Йейтсу, Согласия (Concord) и Разногласия (Discord). Но при этом Хлебников целиком в сфере математических вычислений (ДС, л.1).
Для Хлебникова, вместе с тем, существует личная сторона этой проблемы, неожиданно приближающая его к некоторым традиционным формам мистики. В прозаической повести «Ка» Хлебникова занимает движение во времени, которое может совершать его двойник, подобный древнеегипетскому. Именно это, с одной стороны, позволяет говорить о возможной интуитивной составляющей этих построений, с другой, делает его взгляды на время созвучными той концепции вращательной Вселенной, которую разработал великий логик Гёдель, развивший уравнения теории относительности своего близкого друга Эйнштейна. По поводу времени в этой Вселенной и подобных ей мирах он писал:
Совершив путешествие в оба конца на ракетном корабле по достаточно широкой кривой, можно в этих мирах приезжать в любую область прошлого, настоящего и будущего, точно так же, как в других мирах можно приезжать в отдалённые области пространства.
6
Если предположить вытекающее из идеи Гёделя отсутствие глобального (общемирового) времени (при наличии локального времени в каждом отдельном случае), то дальше мы оказываемся в мирах Хлебникова с возможными передвижениями вроде тех, которые описаны в его «Ка».
В этой связи стоит вернуться к вопросу о соотношении циклического понимания времени в духе Хлебникова с теми радикальными преобразованиями наших исторических представлений, которые предложены Фоменко и его соавторами. Если допустить вместе с ними, что два ряда хронологических чисел (например, описывающих становление, расцвет и распад двух империй — Римской и Хеттской) совпадают, то из этого могут следовать по меньшей мере два совершенно разных толкования этого события. Первое состоит в том понимании истории, которое предлагал Хлебников. С его точки зрения, эти две империи различны, но даты их появления и упадка представляют собой два проявления одной и той же исторической тенденции. Второе возможное толкование: Фоменко (как до него Морозов в книге о Христе) предполагает тождество этих явлений, которых позднейшие историки ошибочно принимают за одно. Во вращательной Вселенной Гёделя мы бы считали, что путешествие во времени оказалось возможным и из позднейшего состояния Римской Империи можно было отправиться к прошлому, называемому нами Империей Хеттской. 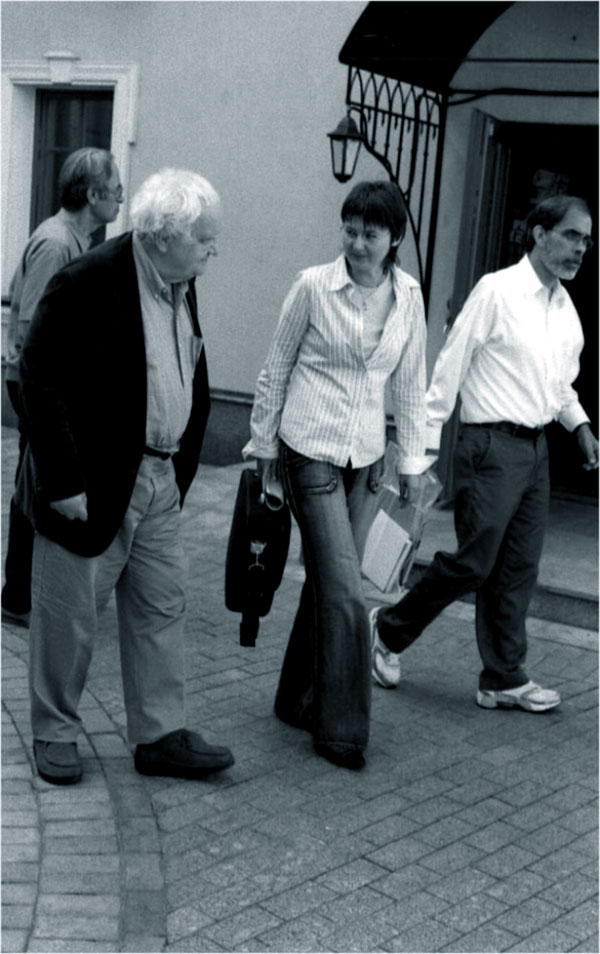 Но само это переименование может говорить о наличии путешественника, отличного от тех, кого он посещает. Когда Ка Хлебникова (символический двойник его души) в повести «Ка» приходит в древнеиндийскому царю Ашоке, сохраняется различие между ними. В локальном времени самого Хлебникова это посещение отлично от предыдущих и последующих его перемещений во времени. Всякий раз новыми именами и соответствующими обозначениями обстоятельств характеризуется новое путешествие во времени. Цикличность не предполагает тождества в локальном времени, но отсутствие глобального времени может привести к вероятному предельному сходству внутри повторяемых событий. В глобальной перспективе они одинаковы. Хлебников, которого в стихотворении «Меня проносят на слоновых...» индийские молодые женщины, сплетась в подобие слона, несут на себе, оказывается Новым Вишну. По традиционному индийскому учению, которое здесь (и в соответствующих прозаических набросках) имеет в виду Хлебников, предполагается, что аватары (новые воплошения Вишну) в определённом смысле тождественны сами себе и ему — Вишну, объединяющему собой все свои аватары (Иванов 1967). Учение о цикличности времени оказывается прямо связано с идеей перевоплощения. В обоих случаях можно говорить и о повторяемости одинаковых или противоположных явлений, событий и личностей, и об их тождестве друг другу в определённых заданных границах. Когда Хлебников называет Пифагора своим последователем, он имеет виду отсутствие времени в том мире, который Поппер обозначил как третью Вселенную. В этом мире нет границ прошлого, настоящего и будущего. Следуя Попперу, с этим можно соотнести то, что к нему принадлежат ненаписанные романы и симфонии и недоказанные теоремы (на правах “гостей из будущего”). В написанной в то же время, что и разбираемые сочинения Хлебникова и Йейтса, книге стихов молодого Пастернака «Сестра моя жизнь», посвящённой Лермонтову (как живому собеседнику), курение автора вместе с Байроном и распивание вина с Эдгаром По становится в один ряд с этими же общениями в глобальной Вселенной, где нет времени.
Но само это переименование может говорить о наличии путешественника, отличного от тех, кого он посещает. Когда Ка Хлебникова (символический двойник его души) в повести «Ка» приходит в древнеиндийскому царю Ашоке, сохраняется различие между ними. В локальном времени самого Хлебникова это посещение отлично от предыдущих и последующих его перемещений во времени. Всякий раз новыми именами и соответствующими обозначениями обстоятельств характеризуется новое путешествие во времени. Цикличность не предполагает тождества в локальном времени, но отсутствие глобального времени может привести к вероятному предельному сходству внутри повторяемых событий. В глобальной перспективе они одинаковы. Хлебников, которого в стихотворении «Меня проносят на слоновых...» индийские молодые женщины, сплетась в подобие слона, несут на себе, оказывается Новым Вишну. По традиционному индийскому учению, которое здесь (и в соответствующих прозаических набросках) имеет в виду Хлебников, предполагается, что аватары (новые воплошения Вишну) в определённом смысле тождественны сами себе и ему — Вишну, объединяющему собой все свои аватары (Иванов 1967). Учение о цикличности времени оказывается прямо связано с идеей перевоплощения. В обоих случаях можно говорить и о повторяемости одинаковых или противоположных явлений, событий и личностей, и об их тождестве друг другу в определённых заданных границах. Когда Хлебников называет Пифагора своим последователем, он имеет виду отсутствие времени в том мире, который Поппер обозначил как третью Вселенную. В этом мире нет границ прошлого, настоящего и будущего. Следуя Попперу, с этим можно соотнести то, что к нему принадлежат ненаписанные романы и симфонии и недоказанные теоремы (на правах “гостей из будущего”). В написанной в то же время, что и разбираемые сочинения Хлебникова и Йейтса, книге стихов молодого Пастернака «Сестра моя жизнь», посвящённой Лермонтову (как живому собеседнику), курение автора вместе с Байроном и распивание вина с Эдгаром По становится в один ряд с этими же общениями в глобальной Вселенной, где нет времени.
При предсказании будущих событий Хлебников обычно сопоставляет явления внутри одного ряда (в определённом смысле локального или принадлежащего к одному семантическому полю, например, морских сражений — одной из особых сфер интересов Хлебникова, и в этом созвучного Йейтсу). Уже приходилось рассматривать это на примере занятий Хлебникова независимостью Египта, после которых он стал обдумывать возможное время всеафриканского единства (Иванов 2000: т. II, с. 390–392). Для оценки тех уравнений времени, которые Хлебников предлагает в своих работах, особое значение имела введённая им константа 317, связанная с календарным числом дней в году 365 соотношением 365±48. В хлебниковском понимании числа 317 было несколько составляющих.
Во-первых, это число (как и лежащее в его основе календарное число 365) занимало его с точки зрения теории чисел, всегда его волновавшей (с университетских лет и буквально до последних дней, когда он перечитывал две посвящённые ей книги своего казанского профессора математики Васильева). Его интересовало построение этого числа, соотношение с другими числами. Красота календарного числа, которой он не перестает любоваться (в том числе и в тексте «Досок судьбы»), открывается в виде изящного нисходящего ряда степеней трех: 35 + 34 + 33 + 32 + 31 + 30 +1 = 243 + 81 + 27 + 9 + 3 + 1 + 1=365. Такого рода подход к константам с точки зрения их эстетической красоты может найти интересную параллель у такого характерного представителя современной нумерологии , как Эддингтон. Он описывал константу тонкой структуры a = 137 = (162+16) +16 + 1 как чисто математическое число в симметричной матрице в пространстве 16 измерений,7 где 16 = 4 × 4 (4 — число измерений в мире Минковского, который многократно упоминается Хлебниковым). Соотношение этой константы тонкой структуры α = 137, принимавшейся Эддингтоном, но не многими другими занимавшимися очень большими числами, и хлебниковского как бы сходного (по составным элементам, но не по их порядку) числа 317 (а также других на него похожих, в частности, 173, также упоминающегося Хлебниковым), не поддается сколько-нибудь надежной интерпретации.
где 16 = 4 × 4 (4 — число измерений в мире Минковского, который многократно упоминается Хлебниковым). Соотношение этой константы тонкой структуры α = 137, принимавшейся Эддингтоном, но не многими другими занимавшимися очень большими числами, и хлебниковского как бы сходного (по составным элементам, но не по их порядку) числа 317 (а также других на него похожих, в частности, 173, также упоминающегося Хлебниковым), не поддается сколько-нибудь надежной интерпретации.
Во-вторых, и это было главным, Хлебников находил важным возможное наличие этой константы в выводимых им уравнениях времени. Эта сторона его исследований может вызвать критику в зависимости от достоверности используемых им хронологических таблиц и дат (ненадежны данные, относящиеся к Древнему миру и Востоку) и правдоподобности умозаключений об одинаковости, сходстве или противоположности сопоставляемых и противопоставляемых лиц и явлений.
В-третьих, Хлебникова занимало то, что предположенная им константа времени может быть связана с другими характеристиками проявлений знаковой деятельности человека (в частности, с экспериментально-фонетическими характеристиками фонем языка, особенно гласных, о которых он судил по акустическим исследованиям Щербы8 ). Акустические соотношения гласных, соответствующих друг другу по законам сравнительного языкознания, он пробует соотнести с устанавливаемыми им уравнениями времени, касающимися повторяемости событий в истории народов и в биографиях отдельных людей. Вероятно, Хлебникова, при его стремлении ввести в круг законов о циклическом изменении в истории народов и в природе также и языковые закономерности, должны были бы заинтересовать и позднейшие открытия глоттохронологии, установившие существование лексикостатистической константы, определяющей изменение основного словаря языка.9
). Акустические соотношения гласных, соответствующих друг другу по законам сравнительного языкознания, он пробует соотнести с устанавливаемыми им уравнениями времени, касающимися повторяемости событий в истории народов и в биографиях отдельных людей. Вероятно, Хлебникова, при его стремлении ввести в круг законов о циклическом изменении в истории народов и в природе также и языковые закономерности, должны были бы заинтересовать и позднейшие открытия глоттохронологии, установившие существование лексикостатистической константы, определяющей изменение основного словаря языка.9 Вычисляя в своём духе демографические соотношения в современном ему мире, Хлебников пытается соотнести число говорящих со средней длиной слов языка:
Вычисляя в своём духе демографические соотношения в современном ему мире, Хлебников пытается соотнести число говорящих со средней длиной слов языка:
Язык Англии считают родным около 318/2 человек. Или, при населении народа, равном 18-й степени трёх, языки становятся краткими и упрощёнными. Длинные слова русского языка говорились 16-й степенью трёх; здесь степень построена на двойке.
(ДС, л. 4)
Вместе с тем, Хлебников обращается и к достаточно традиционной проблематике уравнений движений планет. Ему хотелось выявить параметры, объединяющие разные области мироздания:
Чистые законы времени одни и те же у всех вещей, звёзд и людей (ДС, л. 3). Часть приводимых статистических данных (скажем, о городах России) может показаться случайно подобранной. Но вся концепция в целом пережила испытание временем.
10
Среди последних, ещё не изданных, записей Хлебникова, касающихся этих его интересов, обращают на себя внимание его заметки об очень больших и очень малых числах. Ему должны были быть известны в пересказе в одной из обзорных работ первые относящиеся к этому наблюдения Планка, хотя позднейшие статьи конца 1910-х годов (в частности, две основополагающие заметки Вейля11 ) едва ли могли в это время быть замечены (даже если соответствующие журналы и приходили в библиотеки — у нас нет точных сведений, с кем из учёных Хлебников мог обсуждать эти вопросы, но книги, в которых излагались новости астрофизики, в последние месяцы жизни были у него с собой).
) едва ли могли в это время быть замечены (даже если соответствующие журналы и приходили в библиотеки — у нас нет точных сведений, с кем из учёных Хлебников мог обсуждать эти вопросы, но книги, в которых излагались новости астрофизики, в последние месяцы жизни были у него с собой).
При всей краткости сделанных Хлебниковым записей несомненно, что он размышлял о существовании очень больших чисел в макромире и в микромире. Его весьма немногословные замечания по этому поводу позволяют предположить, что он шёл по пути, который в 1930-е годы привёл Эддингтона и Дирака к формулировке гипотезы больших чисел. Пифагорейство Эддингтона и его стремление выдвинуть на первый план в изложении проблемы константы 137 не вызывает сочувствия у большинства писавших эту тему.12 Для последующих разысканий были значительно более сушественны идеи Дирака. Хотя в том виде, как гипотезу больших чисел сформулировал в 1938 г. Дирак допускал на ее основании изменение гравитационной постоянной G со временем), эта гипотеза остаётся недоказанной, тем не менее, само это направление ныне получает всё большее значение, в особенности в связи с обнаружением (сначала Пенроузом, потом в серии новейших работ Фанкхаузера13
Для последующих разысканий были значительно более сушественны идеи Дирака. Хотя в том виде, как гипотезу больших чисел сформулировал в 1938 г. Дирак допускал на ее основании изменение гравитационной постоянной G со временем), эта гипотеза остаётся недоказанной, тем не менее, само это направление ныне получает всё большее значение, в особенности в связи с обнаружением (сначала Пенроузом, потом в серии новейших работ Фанкхаузера13 ) наряду с константой типа 1040, выявленной вслед за Дираком рядом учёных, также „нелепо огромной” константы 10122. В этой связи не лишней кажется цитата из «Досок судьбы»:
) наряду с константой типа 1040, выявленной вслед за Дираком рядом учёных, также „нелепо огромной” константы 10122. В этой связи не лишней кажется цитата из «Досок судьбы»:
если сутки солнц по отношению к суткам света порядка 341, то сутки вселенной будут 3122 , а сутки какой-нибудь сверх-вселенной = 3365 ударов волны света, помня, что 41 = 33 + 32 + 31 + 30 + 1, 122 = 34 + 41, 365 = 35 + 122.
(ДС, л. 3)
Уже в замечательной заметке Г. Гамова (Gamov 1968), редко упоминаемой в обзорах, при обсуждении всех основных констант природы содержалась идея соотнесения их с теми основными закономерностями, которые соединяют макромир и микромир (часть больших чисел возникает именно при их соотнесении — радиуса электрона и радиуса Вселенной и т.п.). Основное направление исследований ведёт сейчас к тому, чтобы (отчасти в соответствии с мыслями, высказанными еще в 1968 г. акад. Я.Б. Зельдовичем) установить взаимосвязь тех физических величин, в отношении которых обнаруживаются большие и сверхбольшие числа в качестве констант. Наиболее привлекательным для многих астрофизиков и космологов оказывается при этом предположение о действии антропного принципа. Согласно ему, параметры Вселенной (в частности, те, которые характеризуются этими большими числами) соответствуют антропному принципу. Они делают нашу Вселенную (в отличие от других вероятных или существующих вне нашего восприятия) пригодной для возникновения и развития разумной жизни.14
При этом высказываются и соображения о возможном соотнесении с цикличностью в процессах, изучаемых гуманитарными науками,15 что снова заставляет вспомнить о мыслях Хлебникова.
что снова заставляет вспомнить о мыслях Хлебникова.
В современных работах предпринимались уже сопоставления предположенных Хлебниковым больших временных циклов c теми более короткими, которые выведены Н.Д. Кондратьевым16 на основе изучения стран развитого капитализма за три века. “Волны Кондратьева”, согласно его подсчётам, определяли не только время циклического экономического спада, но и оптимальное время войн и революций, приходящихся на период спада. Таким образом, по сути сам этот циклический процесс сопоставим с периодами войн, интересовавшими Хлебникова. Кондратьев полагал, что наряду с им установленными должны иметь место и более длинные циклы.
на основе изучения стран развитого капитализма за три века. “Волны Кондратьева”, согласно его подсчётам, определяли не только время циклического экономического спада, но и оптимальное время войн и революций, приходящихся на период спада. Таким образом, по сути сам этот циклический процесс сопоставим с периодами войн, интересовавшими Хлебникова. Кондратьев полагал, что наряду с им установленными должны иметь место и более длинные циклы.
Хлебников понимал, что по мере продвижения исследования времени окажется необходимым уточнение используемой системы обозначений:
Существующий язык знаков алгебры непригоден для перевода на него и передачи на нём многих явлений мира времени, часто самых нелепых движений, и поэтому до переработки этих знаков от многих обобщений приходится отказаться. Кажется, знакотворчество будет верным спутником учения о времени.
(ДС, л. 5)
Можно думать, что по мере развития современных научных представлений о времени будет выработан тот новый язык описания, о котором мечтал Хлебников.
Его и здесь с полным основанием можно считать одним из первых, кто прокладывал дорогу в будущее не только словесного искусства, но и науки.
Из специальных вопросов истории, рассмотренных Хлебниковым и претворённых в его художественном творчестве. Остановлюсь коротко на Египте.
Занимаясь в его архиве в РГАЛИ, я нашёл подряд несколько его предсказаний по поводу времени, когда Египет получит независимость. Первое из них сделано ещё в 1908 г., второе — в 1920 г. (см. Иванов 1998: второй том , с. 390–391).
В отношении Хлебникова устный источник египтологических знаний открыт благодаря выявлению роли его знакомого Ф.В. Баллода.17
Хлебников во многом по-своему реконструировал недостававшие ему элементы дренеегипетской культуры, создавая на свой лад законченную её картину. Отдельными своими чертами она скорее напоминает взгляды современных учёных, располагающих несравненно бóльшим и лучше организованным материалом, чем те, чьи работы Хлебников мог использовать. Вместе с тем стоит заметить, что в оригинальных русских сочинениях по египотологии, которыми он мог пользоваться, ставились вопросы, для того времени новые: Ф.В. Баллод одним из первых рассмотрел проблему двух разных типов — реалистического и идеализированного — портретов умершего в одной и той же египетской гробнице в контексте теории изменения облика Ка и в целом „представлений о потустороннем бытии”,18 а акад. Б.А. Тураев первым наметил общекультурное значение культа Тота,19
а акад. Б.А. Тураев первым наметил общекультурное значение культа Тота,19 с которым в последнее время в ряде своих выступлений связываел проблему исключительно высокого развития математических знаний в Египте недавно от нас ушедший акад. В.И. Арнольд (подробнее об этом я пишу в недавно изданных лекциях об истории науки, см.: Иванов, 2010). Чтобы доказать этот общий тезис Арнольда, важный для понимания роли Древнего Египта и современными учёными, и их предшественниками в науке и культуре прошлого века, первостепенное значение имеет опубликованная Б.А. Тураевым в 1917 г. 14-ая задача Московского папируса, в которой говорится о вычислении объёма усечённой пирамиды.20
с которым в последнее время в ряде своих выступлений связываел проблему исключительно высокого развития математических знаний в Египте недавно от нас ушедший акад. В.И. Арнольд (подробнее об этом я пишу в недавно изданных лекциях об истории науки, см.: Иванов, 2010). Чтобы доказать этот общий тезис Арнольда, важный для понимания роли Древнего Египта и современными учёными, и их предшественниками в науке и культуре прошлого века, первостепенное значение имеет опубликованная Б.А. Тураевым в 1917 г. 14-ая задача Московского папируса, в которой говорится о вычислении объёма усечённой пирамиды.20 Вопреки неоднократно высказывавшимся возражениям и сомнениям21
Вопреки неоднократно высказывавшимся возражениям и сомнениям21 было показано, что составители задачи пользовались общими законами алгебраических тождественных преобразований.22
было показано, что составители задачи пользовались общими законами алгебраических тождественных преобразований.22 Тураев перед своей смертью (1920), по-видимому, завершил работу над своим переводом всего этого папируса, включающим и 10-ую задачу,23
Тураев перед своей смертью (1920), по-видимому, завершил работу над своим переводом всего этого папируса, включающим и 10-ую задачу,23 по одному из толкований которой египтяне правильно определяли площадь полушария, что — в согласии с нынешней гипотезой В. Арнольда — показывает очень высокий уровень их математических знаний. Эти выводы существенны потому, что для хлебниковской оценки Древнего Египта вообще и Эхнатона, в частности, математические достижения были на первом месте. Это видно и из стихотворения, где Эхнатон и Хлебников выступают как воплощения одной силы, по преимуществу математической или числовой:
по одному из толкований которой египтяне правильно определяли площадь полушария, что — в согласии с нынешней гипотезой В. Арнольда — показывает очень высокий уровень их математических знаний. Эти выводы существенны потому, что для хлебниковской оценки Древнего Египта вообще и Эхнатона, в частности, математические достижения были на первом месте. Это видно и из стихотворения, где Эхнатон и Хлебников выступают как воплощения одной силы, по преимуществу математической или числовой:
Я, Хлебников, 1885.
За (365+1) до меня
Шанкарья Ачарья творец Вед
В 788 году,
В 1400 Аменхотеп IV,
Вот почему я велик.
Я, бегающий по дереву чисел,
Делаясь то морем, то божеством,
То стеблем травы в устах мыши,
Аменхотеп IV – Евклид – Ачарья – Хлебников.24
Имя Евклида удостоверяет собственно математическую ориентированность этого ряда рождений.
Философско-математический или метафизический подход к Эхнатону обнаруживается и в прозаическом сочинении «Ка» Хлебникова, где его занятия Амарнской эпохой воплотились во вполне внушительном воспроизведении Эхнатона и его личности в разных её проявлениях (в том числе поэтическом), хотя оно и выражено в достаточно сложном контрапунктическом переплетении с современностью (Эхнатон — он же обезьяна, которую убивают в Абиссинии времени начала Первой мировой войны). В «Ка» Хлебникова автор с самого начала говорит о своем собственном двойнике — Ка как о способе преодоления времени (проблемой которого Хлебников интенсивно занимался всё последнее десятилетие своей жизни). Его
Ка — это тень души, её двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени: Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времён). В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной?
(«Ка», с. 122)
Эта особенность Ка мотивирует построение хлебниковского произведения, где Ка автора и он сам вместе перемещаются в пространстве-времени: из России времени начала Первой мировой войны в будущий 23-й век — в год 2222-й, в Древнюю и средневековую Индию и на Цейлон, в Древний Египет амарнского периода, в мусульманский рай, где участвует в беседе с Мухаммедом.
Из тех разных, но не противоречащих друг другу пониманий древнеегипетского Двойника, которые так и не были синтезированы в самой египтологии,25 для Хлебникова особенно важны два. Во-первых, Ка — это личность, вполне индивидуализированная. Во-вторых, с ним связана жизненная сила его хозяина (термин Хлебникова). Оба эти свойства справедливы с точки зрения египтологии (теперешней, а не хлебниковского времени), потому что речь идёт о Двойнике царственной или божественной личности.
для Хлебникова особенно важны два. Во-первых, Ка — это личность, вполне индивидуализированная. Во-вторых, с ним связана жизненная сила его хозяина (термин Хлебникова). Оба эти свойства справедливы с точки зрения египтологии (теперешней, а не хлебниковского времени), потому что речь идёт о Двойнике царственной или божественной личности.
Опережая учёных (Кееса и Френкфорта26 ), Хлебников настаивает на особости Ка фараона. Его занимает Ка Эхнатона, с которым, как и с Ка других царей (Индии — Ашоки и Акбара; Цейлона — Виджаи), может общаться его собственное, хлебниковское Ка. У Хлебникова он общается либо с Ка царей в потустороннем мире, либо со своими придворными в Египте его эпохи. Замкнутый круг великих деятелей, соответствующий и хлебниковским представлениям о самом себе и своем величии (как бы к ним ни относились будущие биографы и психиатры), и его мыслям о перевоплощении (скажем, Эхнатона в Хлебникова в упомянутом выше стихотворении), кажется принадлежностью эпохи, занятой Художником и Сверхчеловеком в его ницшеанском понимании (и в других близких к этому вариантах пред- и постсимволистского времени, например, у Владимира Соловьёва); не в этом ли и корни последующего понятия Председателя Земного Шара, введённого в 1917 г. Хлебниковым? У Хлебникова Ка царей общаются с другими Ка таких же персонажей и с мифопоэтическими женскими образами, подобными мусульманским гуриям и Лейли (героиня «Ка», которой посвящена и поэма «Лейли и Медлум», написанная в 1911 г.27
), Хлебников настаивает на особости Ка фараона. Его занимает Ка Эхнатона, с которым, как и с Ка других царей (Индии — Ашоки и Акбара; Цейлона — Виджаи), может общаться его собственное, хлебниковское Ка. У Хлебникова он общается либо с Ка царей в потустороннем мире, либо со своими придворными в Египте его эпохи. Замкнутый круг великих деятелей, соответствующий и хлебниковским представлениям о самом себе и своем величии (как бы к ним ни относились будущие биографы и психиатры), и его мыслям о перевоплощении (скажем, Эхнатона в Хлебникова в упомянутом выше стихотворении), кажется принадлежностью эпохи, занятой Художником и Сверхчеловеком в его ницшеанском понимании (и в других близких к этому вариантах пред- и постсимволистского времени, например, у Владимира Соловьёва); не в этом ли и корни последующего понятия Председателя Земного Шара, введённого в 1917 г. Хлебниковым? У Хлебникова Ка царей общаются с другими Ка таких же персонажей и с мифопоэтическими женскими образами, подобными мусульманским гуриям и Лейли (героиня «Ка», которой посвящена и поэма «Лейли и Медлум», написанная в 1911 г.27 ). При этом Хлебников задаёт вопрос, в разных ответах на который можно искать объяснение основным раличиям между его текстом и другими опытами движения во времени:
). При этом Хлебников задаёт вопрос, в разных ответах на который можно искать объяснение основным раличиям между его текстом и другими опытами движения во времени:
Случалось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иван Ивановичем, а с собирательным, хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома.
(«Ка», с. 128)
Ка был наперсником в этой забаве.
(«Ка», с. 129)
В отрывке «Сон», по времени написания близком к «Ка», упомянута аганкара — производное от “агам” сложение со значением “самосознание”: разговор коснулся аганкары человека и аганкары народа.28
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
ДC —
Велимiр Хлѣбников. Доски судьбы. Василий Бабков. Контексты Досок судьбы.
М.: Рубеж столетий. 2000.
МВХ — Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998) / Сост.: Вяч. Вс. Иванов, З.С. Паперный, А.Е. Парнис. (Язык. Семиотика. Культура).
М.: Языки русской культуры, 2000.
Х 1986 —
Хлебников, Велемир. Творения.
М.: Сов. Писатель.
Х ССС III —
Хлебников, В.В. Собрание сочинений III. Slawische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken, Bd. 37.
München: Wilhelm Fink Verlag. 1972.
 1
1 Ср. Лённквист 1999, с. 13–26; Hacker 2002, 2004; Obermayer 2005; Вестштейн 2007; Niederbudde 2008.
 2
2 Близость «Зангези» и «Досок судьбы» отмечал в своих последних работах и докладах о Хлебникове В.П. Григорьев.
 3
3 Мне представляется такая формулировка адекватной по отношению к Хлебникову, который в одной из автобиографических записей (РГАЛИ, архив Хлебникова) пишет, что ему нравятся такие художники, как Ботичелли, но в своей работе он примыкает к линии Пикассо.
 4
4 Григорьев 2000; 2006.
 5
5 Иванов 1998, т. I, с. 256. Подробное обсуждение сходств в циклическом понимании времени у Йейтса и Хлебникова составило тему одной из глав содержательной книги: Perloff 1990, pp. 71–98.
 6
6 By making a round trip on a rocket ship in a sufficiently wide curve, it is possible in these worlds to travel into any region of the past, present, and future, and back again, exactly as it is possible in other worlds to travel to distant parts of space (Gödel 2001). О возможном продолжении идеи Гёделя см. Modgil 2005; Yourgrau 2004. Критические замечания см. в рецензии на последнюю книгу Stachel 2007. Хлебникову это развитие идей Эйнштейна не могло быть известно, но основные принципы специальной и общей теории относительности он знал (Бёмиг 1996).
 7
7 Eddington 1929; 1948; ср. Gamov 1967, pp. 313–314. Могут представить интерес также недавние гипотезы о E8: Lisi 2007.
 8
8 В рукописи и в издании текста ДС (л. 7) Хлебникова неоговорённая ощибка —
Щербина вместо Щерба.
 9
9 См. подробно: Старостин 2007.
 10
10 Владимирский 2000.
 11
11 Подробный обзор истории вопроса с библиографией: Ray; Mukhopadhyay, Ghosh 2007.
 12
12 Мне представляется недооценённой роль Эддингтона как одного из первых, кто отчётливо положил понятие структуры в основу своего понимания устройства мира (структуру он понимал в математическом духе, как его современники — школа Бурбаки).
 13
13 Funkhouser 2008. Ср. обсуждение проблемы больших чисел в Funkhouser 2006; Barrow 2003; Blank 2004.
 14
14 Rees 2001; 2002.
 15
15 Modgil 2005.
 16
16 Кузьменко 2000.
 17
17 Баран 2002, с. 129–130, 160 (примеч.13 и 14), 168–169.
 18
18 Баллод 1917 (ссылка в книге Баран 2002 имеет в виду, скорее всего, отдельный оттиск), ср. Матье 1939, с. 103; Большаков 2001, с.150, прим.4. Здесь и далее принимаю условную передачу древнеегипетского имени “двойника” как Ка (другую условную транслитерацию проводит в своей книге Большаков 2001 passim; Ю.Я. Перепёлкин принимал транскрипцию [ko], основываясь на поздних коптских данных).
 19
19 Тураев 1898.
 20
20 Turayeff 1917. В западноевропейских и американских работах обычно ссылка даётся на последующее немецкое издание всего папируса: Struve 1930, S. 135.
 21
21 Нейгебауэр 1937, с. 144–146.
 22
22 Выгодский 1967; Ван дер Ванден 1959, с. 47 (там же на рис. 10 воспроизведение по изданию Струве иероглифической транскрипци молодого Ю.Я. Перепёлкина, показывающей, что в оформление итогов работы Б.А. Тураева были втянуты лучшие силы тогдашней ленинградской египтологии); ср. Лурье 1933; Cassina 1942; Раик 1958, 1967.
 23
23 Struve 1930, S. 157–169; ср. об альтернативных истолкованиях задачи (как относящейся не к полушарию, а к полуцилидру или куполообразному амбару): Нейгебауэр 1937, с. 146; 1968, с.90; Веселовский 1948; Ван дер Ванден 1959, с. 44–45; Выгодский 1967, с. 73–74. Работа над текстом, легшим в основу немецкого издания Московского папируса, была закончена к 1927 г. (Выгодский 1967, с. 11), поэтому её результаты могли быть тогда известны чинарям и их учёным знакомым.
 24
24 Отрывок издавался в статьях и книгах о Хлебникове не раз, ср. Баран 2002. с. 128.
 25
25 См. характеристику в конце историографической главы кн.: Большаков 2001, с. 30.
 20
20 О различении Ка фараона и простых его подданных у этих двух учёных ср. в историографическом обзоре: Большаков 2001, с. 30–32. О понимании Египта Френкфортом ср. также Иванов 1984.
 27
27 Подробный разбор её отношений к арабским (Куделин 1996) и персидским версиям легенды ещё предстоит; о соотношении с поэмой Низами см. (вне связи с «Ка») в кн.: Тартаковский 1986, с. 45–84. В более широком аспекте о Хлебникове и Востоке: Mirsky 1975; Иванов 1999, с. 193–196.
 28
28 Хлебников 2004, с. 120.
 29
29 Об обнаружении им этих тетрадей в конце 1935 г. он сообщает в письме другу Хлебнкова, Н.В. Николаевой (Новицкой): „Новость: в Центр‹альном› музее литературы я обнаружил самые ранние тетради Хлебникова — 1908 г.” (РО РНБ, ф. 1087, № 71, л. 18 об.).
 30
30 См.:
Успенский П. Из «Комментариев» к стихотворному циклу «Эсхил» Бенедикта Лившица: интерпретация и диалог // «Сохрани мою речь…» (записки Мандельштамовского общества). Вып. 4/2.
М. 2008. С. 626–652;
Успенский П. Стихотворный цикл «Эсхил» Бенедикта Лившица: попытка интерпретации // Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро.
М. 2008. С. 184–203.
 31 В. Хлебников
31 В. Хлебников. Творения.
М. 1986. С. 602.
 32
32 Там же. С. 537–541.
Литература Баллод 1917 — Реализм и идеализация в египетском искусстве как результат представлений о потустороннем бытии // Сб. в честь проф. В.К. Мальмберга.
М. 1917. С. 7–68.
Баран 2002 —
Хенрик Баран. Египет в творчестве Хлебникова //
Хенрик Баран. О Хлебникове: контексты, источники, мифы.
М. 2002.
Бёмиг 1996 —
Бёмиг М. Время в пространстве: Хлебников и “философия гиперпространства” // Вестник Общества Велимира Хлебникова, I.
М. 1996. С. 179–194.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Бурбаки 1965 —
Н. Бурбаки. Начала математики. 1 ч. Основные структуры анализа. Кн. 1. Теория множеств.
М.: Мир. 1965.
Ван дер Ванден 1959 —
Ван дер Ванден. Пробуждающаяся наука. Математика Древнего Египта, Вавилона и Греции / Пер. И.Н. Веселовского.
М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры. 1959.
Веселовский 1948 —
И.Н. Веселовский. Египетская наука и Греция // Труды Института истории естествознания, т. II. 1948. С. 426–498.
Вестштейн 2007 —
Вестштейн, Виллем. Законы числа у Хлебникова. На меже меж голосом и эхом // Сб. статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян / Сост. Л.О. Зайонц.
М.: Новое издательство. 2007. С. 180–187.
Владимирский 2000 —
Владимирский Б.М. “Числа” в творчестве Хлебникова: Проблема автоколебательных циклов в социальных системах // МВХ, с. 723–732.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Выгодский 1967 —
М.Я. Выгодский. Арифметика и алгебра в древнем мире.
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры. 1967. (2 испр. и доп. изд.).
Григорьев 2000 —
Григорьев, Виктор Петрович. Будетлянин.
М.: Яз. русск. культ. 2000. (Studia poetica).
Виктор Петрович Григорьев на ka2.ru Григорьев 2006 —
Григорьев, Виктор Петрович. Велимир Хлебников в четырёхмерном пространстве языка. Избранные работы. 1958—2000-е годы.
М.: Языки славянских культур. 2006.
Золотарев 1964 —
А.М. Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология.
М. 1964.
Иванов 1967 —
Иванов, Вячеслав Вс. Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» // Труды по знаковым системам 3.
Тарту. 1967. C. 156–171.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Иванов 1968 —
Вяч.Вс. Иванов. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний. Рец. на кн. Золотарев 1964 // Сов. Археология. 1968, №4, с. 274–287.
Иванов 1978 —
Вяч.Вс. Иванов. Близнечный культ и двоичная символическая классификация в Африке // Africana. Африканский этнографический сборник XI.
Л.: Наука. 1978. С. 214–246.
Иванов 1984 —
Вяч.Вс. Иванов. До — во время — после? (Вместо предисловия) //
Г. Франкфорт, Г.А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. В предверии философии. Духовные искания древнего человека.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит-ры. 1984. С. 3–21 и примеч.
Иванов 1998; 2000, 2004, 2010 —
Вяч.Вс. Иванов. Избр. тр. по семиотике и истории культуры. Т. I ; II.; VII (кн.1).
Языки славянской культуры. 1998; 2000; 2004.
Иванов 2005 —
Иванов, Вячеслав Вс. Стихи разных лет.
М. 2005.
Иванов 2007 —
Иванов, Вячеслав Вс. Категория времени в науке и искусстве ХХ-го века // Иванов 2007: т. IV.
Кузьменко 2000 —
Кузьменко. В.П. “Основной закон времени” Хлебникова в свете современных теорий коэволюции природы и общества // МВХ, с. 755–777.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Лённквист 1999 — Лённквист Б. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова / Пер. с англ. А. Кокотова (Совр. зап. русистика. Т. 25).
СПб.: Гуманитарное агенство «Академический проект». 1999.
электронная версия указанной работы на ka2.ru Лурье 1933 —
С.Я. Лурье. К вопросу о египетском влиянии на греческую геометрию // Архив Института науки и техники, 1. 1933. С. 45–70.
Матье 1939 —
М.Э. Матье. [Рец. на кн.]
В. Павлов. Скульптурный портрет в Древнем Египте // Вестник Древней Истории. 1939, №2, с. 101–104.
Нейгебауэр 1937 —
О. Нейгебауэр. Лекции по истории античных математических наук / Пер. и предисловие С.Я. Лурье. Т. I.
М.–Л. 1937.
Нейгебауэр 1968 —
О. Нейгебауэр. Точные науки в древности / Пер. Е.В. Гохман.
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры. 1968.
Перепёлкин 1984 —
Ю.Я. Перепёлкин. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 2.
М.: Наука. Гл. ред. вост.лит-ры. 1984.
Раик 1958 —
А.Е. Раик. Новые реконструкции некоторых задач из древнеегипетских и вавилонских текстов // Историко-математические исследования, вып. XI.
М. 1958. С. 171–184.
Раик 1967 —
А.Е. Раик. Очерки по истории математики в древности.
Воронеж. 1967.
Старостин 2007 —
Старостин, Сергей А. Труды по языкознанию.
М.: Языки русской культуры. 2007.
Тартаковский 1986 —
П. Тартаковский. Русские поэты и Восток. Бунин. Хлебников.Есенин.
Ташкент: Изд. лит-ры и искусства им. Гафура Гуляма. 1986.
Пётр Иосифович Тартаковский на ka2.ru Тураев 1898 —
Б.А. Тураев. Бог Тот. Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры.
Лейпциг. 1898.
Barrow 2003 —
Barrow, John D. The Constants of Nature.
Pantheon Books. 2003.
Blank, 2004 —
Blank, Brian E. The Constants of Nature and Just Six Numbers // Notices of the American Matematical Society (AMS), vol. 51, N 10, November 2004, pp. 1220–1225.
Cassina 1942 —
M. Cassina. Sulla geometria egiziana // Period. di Math. 4 Seria, 22, 1942, pp. 139.
Eddington 1929 —
Eddington, Arthur. The Nature of the Physical World. 1929.
Eddington 1948 —
Eddington, Sir Arthur. Fundamental Theory.
Cambridge: Cambridge University Press. 1948.
Funkhouser 2006 —
Funkhouser, Scott. The Large Number Coincidence, The Cosmic Coincidence and the Critical Acceleration. Proceedings of the Royal Society Lond. A 462 (2006), pp. 3657–3661.
Funkhouser 2008 —
Funkhouser, Scott. A New Large-Number Coincidence and a Scaling Law for the Cosmological Constant. Proceedings of the Royal Society Lond. A (2008) 464, pp. 1345–1353.
Gamow 1968 —
Gamow, George. Numerology of the Constants of Nature // Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, vol. 59 (2), 1968 February, pp. 313–318.
Grandet 1995 —
P. Grandet. Hymnes de la religion d’ Aton.
Paris: Éditions du Seuil. 1995.
Hacker 2002 —
Hacker, Andrea. Mathematical Poetics in Velimir Khlebnikov’s Doski Sud’by.
Вестник Общества Велимира Хлебникова / Сост. Е.Р. Арензон, Г.Г. Глинин. Вып. III.
М.: Пятая страна; Гилея. 2002. С. 127–132.
Hacker 2004 —
Hacker, Andrea. Novalis’ Fragments and Velimir Khlebnikov’s Doski sud’by // Russian Literature, Amsterdam, vol. 55, 2004, №1, pp. 217–227.
Lisi 2007 —
Lisi, A. Garrett. An exceptionally simple theory of everything // arXiv: 0711.0770v1[heph-th] 6 Nov 2007.
Maybury-Lewis 1992 —
D. Maybury-Lewis. In Quest of Harmony // The Attraction of Opposites. Thought and Society in the Dualistic Mode / ed. D. Maybury-Lewis and U. Almagore.
Ann Arbor: University of Michigan Press. 1992.
Mirsky 1975 —
S. Mirsky. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. Slavistische Beiträge, Bd.85.
München. 1975.
Саломон Мирский на ka2.ru Modgi 2005 —
Modgil, Moninder Singh. Epistemology in cyclic time // arXiv: physica/0501152vI [physics, gen-ph] 30 Jan 2005, pp.1–5.
Morenz 1957 —
S. Morenz. Rechts und Links im Totengericht // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 82, 1957.
Niederbudde 2008 —
Niederbudde, Anke. Mathematische Konzeptionen in der russischen Moderne. Florenskij–Chlebnikov–Charms.
München. 2008.
Obermayer 2008 —
Obermayer, B. Tod und Zahl. Transitive und intransitive Oprerationen bei V. Chlebnikov und D.A. Prigov.// Wiener slawistischer Almanach. 56.
Wien. 2005.
Perloff 1990 —
Perloff, Marjorie. Poetic Licence: Studies in Modernist and Postmodernist Lyric.
Evanston: Northwestern University Press. 1990.
Ray, Mukhopadhyay, Ghosh 2007 —
Ray, Saibal; Mukhopadhyay, Utpal, Ghosh, Partha Pratim. Large Number Hypothesis. A review.-arXiv: 1705.1836v1 [gr-qc] 13 May 2007.
Rees 2001- Rees, Martin. Just Six Numbers. Basic Books, 2001. Rees 2002 —
Rees, M. Other Universes — A scientific Perspective // God and Design: The Teleological Argument and Modern Science.
L. 2002. Pp. 211–220.
Stachel 2007 —
Stachel, John. Review of Yourgrau 2006 // Notices of the American Matematical Society (AMS), vol. 54, N 7, August 2007, pp. 861–868.
Struve 1930 —
W.W. Struve. Mathematischer Papyrus des Staatlichen Museums der Schönen Kunst in Moskau. Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik. A, 1.
Berlin. 1930.
Turayeff 1917 —
B.A. Turayeff. The Volume of the Truncated Pyramid in Egyptian Mathematics // Ancient Egypt, 1917, pp. 100–102.
Tyldesley 1999 —
J. Tyldesley. Nefertiti. Egypt’s Sun Queen.
New York: Viking/Penguin. 1999.
Yourgrau 2006 —
Yourgrau, Palle. A world without time. The forgotten legacy of Gödel and Einstein.
Perseus Publishing. 2006.
Воспроизведено по:
Велимир Хлебников в новом тысячелетии / Ответ. ред. В.Н. Терёхина. Москва: ИМЛИ. 2012. С. 5–22.
Изображение заимствовано:
Bill Woodrow (born in 1948 near Henley, Oxfordshire, UK. Lives and works in London).
Regardless of History. 2000. Bronze. 920×500×220 cm.
This is the full-sized version of sculpture that was installed
on the Fourth Plinth in Trafalgar Square from spring 2000 to the summer of 2001.
В оформлении страницы использованы снимки А.С. Павловского.
————————
Вопрос в пространство
Уважаемая Вера Николаевна, предварительно я обратился к сыну Вячеслава Всеволодовича Леониду (род. 1963, псвднм Дмитрий Смирнов):
о Вяч.Вс. Иванове
vaccinate@yandex.ru
10 июня 2025 в 3:35
hyewonhye@gmail.com
Уважаемый Леонид Вячеславович,
я не уверен, что стучусь в нужную дверь, но буду обращаться к Вам как сыну Вяч.Вс. Иванова (1929–2017).
Я представляю сайт «Хлебникова поле» (некомм., в Сети с 2004), обновляемый по первым числам месяца. 1 июля в свободный доступ идут две работы Вашего отца:
https://ka2.ru/nauka/ivanov_3.html
https://ka2.ru/nauka/ivanov_4.html
По Уставу сайта автор трёх и более работ имеет право на Персональную страницу, таковая будет обнародована тогда же, вот ссылка:
https://ka2.ru/reply/ivanov.html
Вопрос о статье (здесь файл_4) из сборника «Велимир Хлебников в новом тысячелетии».
Я обнаружил её в Сетевом дайджесте (книги у меня нет, но имеется у друзей, участников конференции 2010). В дайджесте 32 примечания, в бумажном сборнике 28. Стороннее вмешательство налицо: статья оборвана на полуслове, и речь, судя по примечанию 29, идёт о Н.И. Харджиеве. Подозреваю, что редактор вырезал концовку. Просьба сообщить, сумеете ли Вы внести ясность (сохранилась ли рукопись, запомнилась ли реакция отца). На успех не надеюсь, но душу очистил.
Лучшие пожелания.
Владимир Сергеевич Молотилов, Россия, Пермь, 1954 г.р.
Разумные сроки ожидания ответа из США прошли; статья идёт в свободный доступ 1 ноября. Просьба внести ясность.
* * *
...Оговорюсь, это не воспоминания, это попытка собрать самостоятельные куски, хотя именно с этим проблема: ЕГО совсем нельзя собрать, тем более предсказать из доходивших до нас кусков, как любого человека, но его особенно; можно ощупать только отдельные части слона, а целиком всё видно только из близкого ему космоса.
Отсюда — первое чувство: постоянный страх за него, потому что эти отдельные куски просто никак не должны были функционировать вместе, чисто физически; постоянные боли и опасные болезни, к которым он научил себя относиться вполне метафизически, считал, что это было необходимо для того, чтобы что-то понимать.
Отсюда — постоянная вострость уха, ожидание грохота, когда посыпятся с полок книги, переполнявшие его кабинет, в котором он знал расположение каждого оттиска, мастерски вытаскивал его из-под карточного домика, но иногда фокус не удавался, и начинался книгопад, книго-цунами, и надо было бежать разгребать последствия, спасать его, и потом аккуратно ставить книги обратно в строгом, одному ему понятном хаосе.

Хаос, понятный ему одному, — наверное, самое точное ему определение. Как иначе описать его совершенно анекдотическое непонимание деталей, при общем, невероятно глубоком понимании сути? Однажды, когда я не мог справиться с библиографией, он научил меня читать научные книги по диагонали; как научил, не знаю, просто сказал: „Смотри на каждую страницу и выхватывай суть”. Я спросил: „Это как?” Он сказал: „Попробуй, и у тебя получится”. Я попробовал, и получилось, я прибежал к нему в восторге, а он строго сказал: „Только запомни, стихи и прозу так читать нельзя”.
В этом указании была какая-то удивительная ответственность, не перед людьми, а перед чем-то ещё. Однажды, в бреду после тяжелого наркоза, он сказал: „На мне лежит вся Новая Зеландия”. Она действительно на нём лежала, с детства. Знаменитая история, как он ребёнком вёл записную книжку, по странице на каждую страну, и записывал туда факты, как учёный, формально, структурно; про СССР написал просто: „Сталин — диктатор, Калинин — фиктивный президент”. К сожалению, книжка не сохранилась, на дворе был 1937-й, взрослые её обнаружили и в панике сожгли.
Он явно чувствовал свою ответственность за состояние мира, но перед кем, мне до сих пор непонятно, потому что у него совсем не было понятия “мы”; когда он говорил „мы тогда занимались семиотикой”, в этом всегда слышалась какая-то горечь, какое-то глубокое, детское одиночество.
Отсутствие “мы” он пытался лечить своей особой формой изложения, в которой практически не было “я”; была длинная вереница имён, с каждым из которых у него были явно личные отношения; длинный список, вызывавший экзаменационный трепет; надо срочно прочесть, а то неудобно как-то; читаешь и понимаешь, что идея-то была не имярека, а ЕГО, просто ему надо было запрятать себя в несуществующее “мы”. И спросить нельзя, он от такого рода вопросов умело увиливал;
однажды я спросил его, какой, по его мнению, его главный научный результат; он хитро посмотрел в сторону, сказал: „У меня были разные удачные хеттские сравнения”; ответ был явно лукавый, потому что вопрос был некорректный (выделено мной. —
В.М.): вопрос был от “мы” и для “мы”, которых у него не было.
Понятия “мы” не было, зато было точное и чёткое понятие “они”. Однажды, в светлые времена стирания пыльных запретов, он читал замечательную лекцию об ещё подцензурном Гумилёве; была куча народа, были вопросы, один из них — провокационный: „Был ли Гумилёв членом антисоветской организации?” Он ответил: „Конечно, не был!” А когда мы выходили с лекции, я говорю: „Ты уверен, что не был?” Он, глядя куда-то вдаль, сказал: „Конечно, был — но ИМ я этого никогда не скажу”.
Он, безусловно, зависел от неба (за два дня перед дождем у него бывали дикие приступы), но при этом совершенно не был небожителем. Как-то меня в школе заставляли учить ужасные стихи Щипачёва. Он предложил мне, чтоб не тошнило, вместе написать на них пародию. Я начал: „Ах, Стёпа, какая ты всё-таки сука, / в стихах твоих страшная, смертная скука, / и, если я рано встаю поутру, / твоими стихами я жопу утру”. Он совершенно серьёзно сказал: „Хорошее начало, но жопа там лишняя и вид не совсем правильный. Лучше так: „…и, если я рано встаю поутру, твоими стихами я задницу тру”. Меня тогда поразило, насколько тщательно он относился к стихам, даже к глупой пародии.
Это, наверное, и был главный ключ к нему: он жил поэзией и был поэтом, и прежде всего — непризнанным. Как только он… не скажу “влюблялся”, но хотя бы начинал питать надежду на собеседника… нет, тут надо точнее… он скорее надеялся не на то, что собеседник что-то поймёт, а на то, что собеседник ему поверит, точнее, в него поверит; он часто говорил: „Даже Иисус не ходил в те города, в которых в Него не верили”…
…получив такой намёк на доверие, он спрашивал: „Чем вы сейчас занимаетесь?” Это было его любимое слово, он мне говорил: „Помнишь, как ты занимался индейцами?” Я ими “занимался” лет в 9, то есть носил лук и убор из перьев, для него это значило “заниматься” — от слова ‘занимательно’», оно занимало всю его жизнь…
…услышав, чем собеседник занимается, он тут же — с любого места, на любую тему — начинал читать стихи. Я их запоминал со слуха — Рильке, Бодлера, Киплинга… Вернее, стихи в его исполнении тогда забирали, утягивали меня в глубину, „La musique souvent me prend comme une mer!”. Я их запоминал, пробовал читать другим, и они тут же находили в его версиях кучу ошибок (мама постепенно обучила его над такими ошибками смеяться).
Впрочем, его такая неточность совершенно не волновала, он продолжал читать стихи километрами и перевирать километрами — слова, строки, целые строфы; бесконечно неправильные детали — и бесконечно правильная суть, которая и есть поэзия; не профессиональная, а служение, „когда переводишь с языка на язык или с диалекта обыкновенных вещей на знаки иной Вселенной, продолжающейся в поэзии и в мифах”.
Служение, но не профессия. Как-то, лет в 16, я сказал ему, что мечтаю стать поэтом; он кричал на меня: „Поэтом стать нельзя, надо просто писать!” Кричал, я сейчас думаю, не на меня, а на себя, на свои недовоплощённые мечты.
Во всём этом, конечно, была бешеная, точнее, башенная слоновость, но странным образом не было никакой академичности. Я, помню, как-то пришёл в полном счастье от ночного разговора с Пятигорскими, рассказывал ему запойно, а он сказал: „Саша? Да, он отличный парень!” Меня этот „парень” поразил, они с Пятигорским были столпами и утверждениями, были глыбами, из-под которых не хотелось выбираться, были вечными, то есть бесконечно старыми (я в детстве интересовался, помнит ли он Николая II), а тут „парень” и вообще никакой элитарности; вместо нее — огромная любовь к земной жизни; вы бы видели, как он губы в вермут окунал! Как светился, поедая мороженое!
От старших ему осталась необузданная, как сейчас пошлят, энергия, ничем — ни настроением, ни болезнями — не остановимая жажда жизни. Моё поколение хворало, уставало, легко впадало в тяжёлую депрессию от двух-трёх неореалистических кадров, а он мог смотреть по пять-шесть фильмов в день во время фестиваля и потом ещё тащиться в булочную с заехавшей в довесок к фильмам итальянкой. ‹...›
При всём этом проецировании и непонимании, он вполне мог принять во внимание других людей, во всяком случае меня. Помню, лет в 15 я позвал весь класс на день рождения и с утра был в мучениях, что никто не придёт, им будет скучно, а он сказал: „Ну хочешь, я им лекцию прочту?” У меня это тогда вплелось в подростковый бред (какая на фиг лекция, я и без лекции для них странный), а это было искреннее желание помочь, по-своему, из какого-то своего мира, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны.
Со стороны казалось, что его мир сильно зависит от нашего: от лекарств, больниц, быта, еды, надежд и востребованностей; от того, что он по-английски называл fascination, не знаю, как это перевести — увлеченность, что ли (помню строчку из его английского стиха: „To me, without this fascination, all things in life will have no sense”)?
Кстати об английском: преподавая в Америке, он часто начинал лекцию словами „As you know, I am lame”, что должно было означать „Как вы знаете, я хромаю”; студенты ржали, потому что на сленге ‘lame’ значит ‘дурацкий’.
Физически, он, понятно, и был lame, и зависел от нашего мира, особенно под конец, когда он почти не мог дышать и ходить… Почти не мог ходить, но мог летать; сейчас оказалось, что всё было наоборот: это внешний мир не может зашнуровать себе ботинки без его помощи ‹...›
Леонид В. Иванов. Бремя Новой Зеландии // Звезда, №2 (2024)
Относительно выделенной выше якобы шутливой самооценки: лично я именно так и считаю, только так. Ибо в пору занятий древностями Кавказа с жадностью выискивал статьи Вяч.Вс. Иванова по мёртвым языкам Передней Азии; в одной из них нашёл замечательное сближение:
Прошлое Кубани занимало меня в ту пору ничуть не меньше будущего Велимира Хлебникова.
Родное пепелище и любовь к нему — вот и весь сказ.
Подозреваю, что в Перми я так и остался единственным читателем выпущенной в 1958 году Краснодарским издательством книжки местного археолога.
Во всяком случае, единственным пристрастным читателем. ‹...›
Пристрастность заключалась в несогласии с преувеличением т.н. низовых (не горских) подразделений адыгов и замалчиванием абхазо-адыгского языкового единства.
Впрочем, последнее обвинение — мимо: протоабхазо-адыгский язык трудами лингвистов восстановлен много позже выхода в свет «Из прошлого Кубани».
Есть мнение, что протоязык Северо-Западного Кавказа близок языку хатти, древних насельников Передней Азии. Их поглотила волна пришлых индоевропейцев, причём новосёлы присвоили имя туземцев. Напрашивается предположение о переселении части уцелевших и вольнолюбивых на Кавказ.
Беглецы унесли с собой высокие по тем временам понятия и познания: хатти имели развитую письменность и считаются изобретателями сыродутного способа выплавки железа.
Язык хатти — отдохновение от индоевропейских этимологий для Вяч.Вс. Иванова. Учёный решительно сближает хаттский и древнеадыгский языки, поэтому я постоянно натыкался на его имя в трудах кавказоведов, после чего искал указанные ими работы.
Далековатое сближение это по ряду причин до сих пор меня греет.
представляет интерес наличие среди современных адыгейских этнонимов одного, внешне совпадающего с хеттско-хаттским hatti ‘хеттский’. Показательны и обще-абхазо-адыгские предания о том, что предки носителей западнокавказских языков несколько тысячелетий назад пришли с юга, из Передней Азии.
Вяч.Вс. Иванов. Об отношении хаттского языка к северозападнокавказским //
Древняя Анатолия / Под ред. Б.Б. Пиотровского, В.В. Иванова, В.Г. Ардзинбы. М. 1985. С. 51–52.
Только я вбил в строку поиска ключевое слово “хатти”, как с лёгкостью необыкновенной обрёл ещё более определённое суждение Иванова:
В хаттских обрядовых текстах сохранились целые сочетания слов, находящие точное соответствие в кабардинском и адыгейском фольклоре, где отражена древняя адыгская традиция, особенно близкая к хаттской. В частности, хаттское išta-razzil (‘тёмная земля’) имеет точное соответствие в аналогичном словосочетании в кабардинских фольклорных текстах архаического содержания. Обрядовые формулы в хаттских текстах, содержащих заклятие против зла (хаттское уае, кабардинское е, черкесское I эй — ‘зло, злое, дурное’), практически буквально совпадают в хаттском и адыгском языках. Таким образом, исследование хаттского языка и поэзии открывает широчайшие возможности для изучения исторической поэтики фольклора северо-кавказских народов.
Иванов В.В. Хеттская и хурритская литература // История всемирной литературы. Т.1. М. 1983.
Зихи, изучаемые Н.В. Анфимовым, мало занимали просветителя адыгов Шору Ногмова (1794–1844). Анты — вот его любимый конёк. Антов Ногмов считал имядателями адыгов.
Особо оговаривая, что не втирает при этом себя и свой народ в родственники славян.
Любопытная оговорка, не так ли. Вот что сообщает Прокопий Кесарийский в «Войне с готами»:
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всём остальном у обоих этих варварских племён вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу; избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им, и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идёт на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни хитонов, ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у других один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем чёрный, но все они темнокрасные. Образ жизни у них как у массагетов, грубый без всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но, по существу, они не плохие и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти племени называли σποράς (рассеянными), думаю, потому, что они жили, занимая страну σποράδην
(разбросанно, в разных местах, там и сям), отдельными посёлками. Поэтому-то им и земли надо много. Они живут, занимая большую часть берега Истра, по ту сторону реки.
‹...› страна называется Эвлисия; прибрежную её часть, как и внутренюю, занимают варвары вплоть до так называемого Меотийского Болота и до реки Танаиса (Дона), который впадает в Болото. Само это Болото вливается в Эвксинский Понт. Народы, которые тут живут, в древности назывались киммерийцами, теперь же зовутся утигурами. Дальше, на север от них занимают земли бесчисленные племена антов.
Прокопий из Кесарии. Война с готами. Книги V–VIII / пер. С.П. Кондратьева.
М.: Изд-во АН СССР. 1950. С. 296–297, 384.
Антов, живущих к северу от Приазовья, и полагает Шора Ногмов имядателями адыгов:
Но настоящее родовое названiе нашего народа есть то, которое уцѣлѣло в поэзiи и въ преданiяхъ, т.е. Антъ, изменившееся съ теченiем времени въ Адыге или Адыхе, причемъ, по свойству языка буква т изменилась въ ди, съ прибавленiемъ слога хе, служащаго въ именах наращенiемъ множественнаго числа. Есть въ Кабардѣ старцы, которые выговаривают это слово сходно съ прежнимъ его произношенiем — Антихе; в некоторыхъ-же дiалектахъ говорят просто Атихе. Чтобы еще болѣе подкрѣпить мое мнѣнiе, я приведу свидѣтельство древней поэзiи нашей, в которой народъ всегда называется Антъ, напримѣръ: Антынокопьешъ — антскiй княжескiй сынъ, Антигишао — антскiй юноша, Антигiуоркъ — антскiй дворянинъ, Антигишу — антскiй всадникъ.
Исторiя Адыхейскаго Народа, составленная по преданiямъ кабардинцевъ Шора-Бекмурзинъ-Ногмовымъ,
дополненная Предисловiемъ и исправленная сыномъ его Ерустаномъ-Шора-Бекмурзинъ-Ногмовымъ.
Изданiе 3-е, съ изд. 1861 г. Пятигорскъ. С. 18.
Этими примерами Шора Ногмов не ограничивает обоснование своего воззрения. Но тщетно: современное кавказоведение к нему равнодушно.
Анты-адыги считаются бреднями Ногмова ‹...›
Итак, Вяч.Вс. Иванов сближает хаттский и северокавказские языки, а Шора Бекмурзин Ногмов считает антов имядателями адыгов.
В Переднеазиатском сборнике III.
М. 1979, на стр. 102–103 находим хеттское antuhšaš ‘человек’ и хаттское an-tu-uh-ša-aš ‘человек’. Из отрывка древнего сообщения, воспроизведённого Вяч.Вс. Ивановым, не ясно, что это за ‘человек’. Есть подозрение, что человек молодой, поскольку был покаран за то, что “посмотрел на женщину”.
Вспоминаем.
Антигишао, ‘антского юношу’ Ногмова.
В. Молотилов Первый велимировед


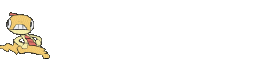
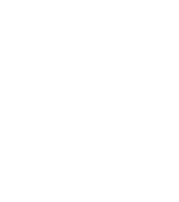 з многих вопросов, касающихся научных занятий и открытий Хлебникова, я коснусь двух: его отношения ко времени и истории (главным образом в «Досках судьбы» и примыкающих к ним текстах) и его специальных занятий Египтом и его древней историей.
з многих вопросов, касающихся научных занятий и открытий Хлебникова, я коснусь двух: его отношения ко времени и истории (главным образом в «Досках судьбы» и примыкающих к ним текстах) и его специальных занятий Египтом и его древней историей.![]()
![]()
![]()
 Ново по сравнению с другими сверхповестями Хлебникова то, что в «Досках судьбы» используются не только словесные тексты, но и числовые, которые иногда (в некоторых Листах — частях) приобретают особую значимость. В этом смысле Хлебников — изобретатель жанра семиотического текста сверхповести, состоящего из ряда словесных и числовых текстов. С чисто эстетической точки зрения не очень важно, в какой мере хронология верна. В том, что относится к древности, не нужно быть последователем гиперкритицизма Фоменко, чтобы убедиться в том, что большинство цифр условно или фантастично; даже и теперь при всех радиоуглеродных и дендрологических методах хронология Древнего Востока существует в нескольких альтернативных вариантах. Значительно больший интерес может представить научная фантастика предлагаемых Хлебниковым предсказаний. Его прогнозы строились на основе попыток проверить и уточнить построенную им теорию циклической смены противоположных событий через определённые интервалы времени. Подбирая материал для проверки гипотезы, Хлебников пришёл к практическому выводу, что наиболее проверяемые выводы относятся к новейшей истории, поскольку хронология современных событий общеизвестна, легко может быть уточнена, и прогнозы на будущее могут быть соотнесены с текущими событиями. Напомним, что в зародыше те приёмы, которые он пытался разработать, содержались уже в традиционных способах измерения расстояния между событиями противоположного характера (например, возвращение Наполеона к военной и политической активности — полное поражение Наполеона). В повторяемых исторических описаниях расстояние мерили в днях (например, 100 дней в приведённом примере). Хлебников занимался определённым историческим или географическим и культурным объектом (например, Египтом или советской властью в России и в мире) и пробовал определить соответствующие числовые характеристики, используя свои уравнения как вспомогательный материал, украшение или орудие вычисления. Подход оставался художественным или интуитивным в той мере, в какой требовался поиск некоторых основных признаков (степень свободы Египта от Англии; границы советской власти и расширение географической сферы её влияния в мире). Полученные результаты (в обоих приведённых случаях, подтверждаемые последующими событиями) могут истолковываться как верные предсказания (Хлебников сам склонен был на этом настаивать). Некоторые (далеко не все) из сделанных им прогнозов будущих событий оправдались. Самым ярким примером остается повторяющееся в его бумагах и в них выделенное предсказание, касающееся советской власти и расширения сферы её влияния.
Ново по сравнению с другими сверхповестями Хлебникова то, что в «Досках судьбы» используются не только словесные тексты, но и числовые, которые иногда (в некоторых Листах — частях) приобретают особую значимость. В этом смысле Хлебников — изобретатель жанра семиотического текста сверхповести, состоящего из ряда словесных и числовых текстов. С чисто эстетической точки зрения не очень важно, в какой мере хронология верна. В том, что относится к древности, не нужно быть последователем гиперкритицизма Фоменко, чтобы убедиться в том, что большинство цифр условно или фантастично; даже и теперь при всех радиоуглеродных и дендрологических методах хронология Древнего Востока существует в нескольких альтернативных вариантах. Значительно больший интерес может представить научная фантастика предлагаемых Хлебниковым предсказаний. Его прогнозы строились на основе попыток проверить и уточнить построенную им теорию циклической смены противоположных событий через определённые интервалы времени. Подбирая материал для проверки гипотезы, Хлебников пришёл к практическому выводу, что наиболее проверяемые выводы относятся к новейшей истории, поскольку хронология современных событий общеизвестна, легко может быть уточнена, и прогнозы на будущее могут быть соотнесены с текущими событиями. Напомним, что в зародыше те приёмы, которые он пытался разработать, содержались уже в традиционных способах измерения расстояния между событиями противоположного характера (например, возвращение Наполеона к военной и политической активности — полное поражение Наполеона). В повторяемых исторических описаниях расстояние мерили в днях (например, 100 дней в приведённом примере). Хлебников занимался определённым историческим или географическим и культурным объектом (например, Египтом или советской властью в России и в мире) и пробовал определить соответствующие числовые характеристики, используя свои уравнения как вспомогательный материал, украшение или орудие вычисления. Подход оставался художественным или интуитивным в той мере, в какой требовался поиск некоторых основных признаков (степень свободы Египта от Англии; границы советской власти и расширение географической сферы её влияния в мире). Полученные результаты (в обоих приведённых случаях, подтверждаемые последующими событиями) могут истолковываться как верные предсказания (Хлебников сам склонен был на этом настаивать). Некоторые (далеко не все) из сделанных им прогнозов будущих событий оправдались. Самым ярким примером остается повторяющееся в его бумагах и в них выделенное предсказание, касающееся советской власти и расширения сферы её влияния.![]()
![]()
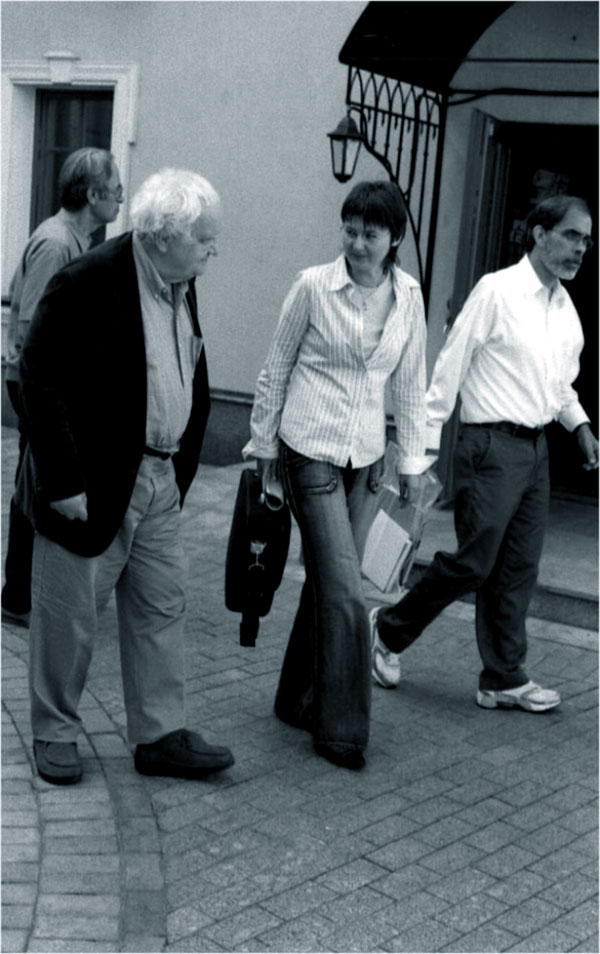 Но само это переименование может говорить о наличии путешественника, отличного от тех, кого он посещает. Когда Ка Хлебникова (символический двойник его души) в повести «Ка» приходит в древнеиндийскому царю Ашоке, сохраняется различие между ними. В локальном времени самого Хлебникова это посещение отлично от предыдущих и последующих его перемещений во времени. Всякий раз новыми именами и соответствующими обозначениями обстоятельств характеризуется новое путешествие во времени. Цикличность не предполагает тождества в локальном времени, но отсутствие глобального времени может привести к вероятному предельному сходству внутри повторяемых событий. В глобальной перспективе они одинаковы. Хлебников, которого в стихотворении «Меня проносят на слоновых...» индийские молодые женщины, сплетась в подобие слона, несут на себе, оказывается Новым Вишну. По традиционному индийскому учению, которое здесь (и в соответствующих прозаических набросках) имеет в виду Хлебников, предполагается, что аватары (новые воплошения Вишну) в определённом смысле тождественны сами себе и ему — Вишну, объединяющему собой все свои аватары (Иванов 1967). Учение о цикличности времени оказывается прямо связано с идеей перевоплощения. В обоих случаях можно говорить и о повторяемости одинаковых или противоположных явлений, событий и личностей, и об их тождестве друг другу в определённых заданных границах. Когда Хлебников называет Пифагора своим последователем, он имеет виду отсутствие времени в том мире, который Поппер обозначил как третью Вселенную. В этом мире нет границ прошлого, настоящего и будущего. Следуя Попперу, с этим можно соотнести то, что к нему принадлежат ненаписанные романы и симфонии и недоказанные теоремы (на правах “гостей из будущего”). В написанной в то же время, что и разбираемые сочинения Хлебникова и Йейтса, книге стихов молодого Пастернака «Сестра моя жизнь», посвящённой Лермонтову (как живому собеседнику), курение автора вместе с Байроном и распивание вина с Эдгаром По становится в один ряд с этими же общениями в глобальной Вселенной, где нет времени.
Но само это переименование может говорить о наличии путешественника, отличного от тех, кого он посещает. Когда Ка Хлебникова (символический двойник его души) в повести «Ка» приходит в древнеиндийскому царю Ашоке, сохраняется различие между ними. В локальном времени самого Хлебникова это посещение отлично от предыдущих и последующих его перемещений во времени. Всякий раз новыми именами и соответствующими обозначениями обстоятельств характеризуется новое путешествие во времени. Цикличность не предполагает тождества в локальном времени, но отсутствие глобального времени может привести к вероятному предельному сходству внутри повторяемых событий. В глобальной перспективе они одинаковы. Хлебников, которого в стихотворении «Меня проносят на слоновых...» индийские молодые женщины, сплетась в подобие слона, несут на себе, оказывается Новым Вишну. По традиционному индийскому учению, которое здесь (и в соответствующих прозаических набросках) имеет в виду Хлебников, предполагается, что аватары (новые воплошения Вишну) в определённом смысле тождественны сами себе и ему — Вишну, объединяющему собой все свои аватары (Иванов 1967). Учение о цикличности времени оказывается прямо связано с идеей перевоплощения. В обоих случаях можно говорить и о повторяемости одинаковых или противоположных явлений, событий и личностей, и об их тождестве друг другу в определённых заданных границах. Когда Хлебников называет Пифагора своим последователем, он имеет виду отсутствие времени в том мире, который Поппер обозначил как третью Вселенную. В этом мире нет границ прошлого, настоящего и будущего. Следуя Попперу, с этим можно соотнести то, что к нему принадлежат ненаписанные романы и симфонии и недоказанные теоремы (на правах “гостей из будущего”). В написанной в то же время, что и разбираемые сочинения Хлебникова и Йейтса, книге стихов молодого Пастернака «Сестра моя жизнь», посвящённой Лермонтову (как живому собеседнику), курение автора вместе с Байроном и распивание вина с Эдгаром По становится в один ряд с этими же общениями в глобальной Вселенной, где нет времени.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Хаос, понятный ему одному, — наверное, самое точное ему определение. Как иначе описать его совершенно анекдотическое непонимание деталей, при общем, невероятно глубоком понимании сути? Однажды, когда я не мог справиться с библиографией, он научил меня читать научные книги по диагонали; как научил, не знаю, просто сказал: „Смотри на каждую страницу и выхватывай суть”. Я спросил: „Это как?” Он сказал: „Попробуй, и у тебя получится”. Я попробовал, и получилось, я прибежал к нему в восторге, а он строго сказал: „Только запомни, стихи и прозу так читать нельзя”.
Хаос, понятный ему одному, — наверное, самое точное ему определение. Как иначе описать его совершенно анекдотическое непонимание деталей, при общем, невероятно глубоком понимании сути? Однажды, когда я не мог справиться с библиографией, он научил меня читать научные книги по диагонали; как научил, не знаю, просто сказал: „Смотри на каждую страницу и выхватывай суть”. Я спросил: „Это как?” Он сказал: „Попробуй, и у тебя получится”. Я попробовал, и получилось, я прибежал к нему в восторге, а он строго сказал: „Только запомни, стихи и прозу так читать нельзя”.