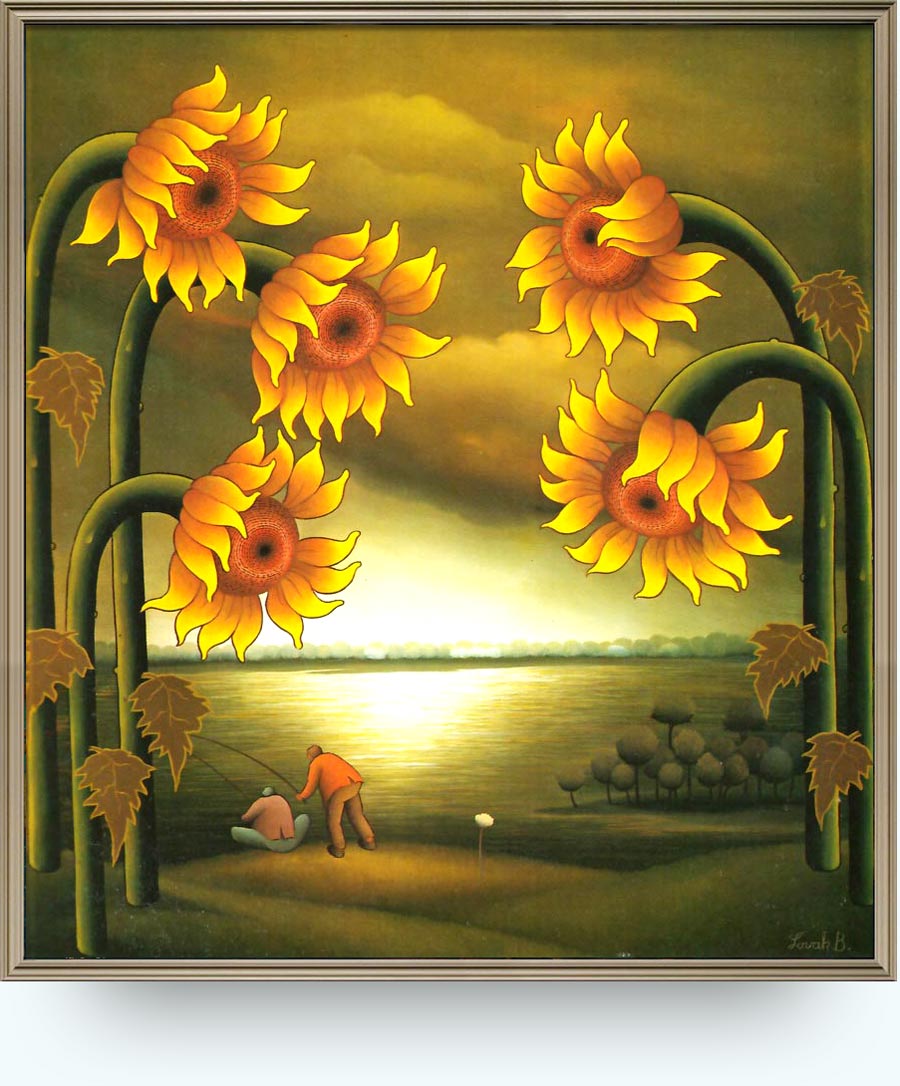
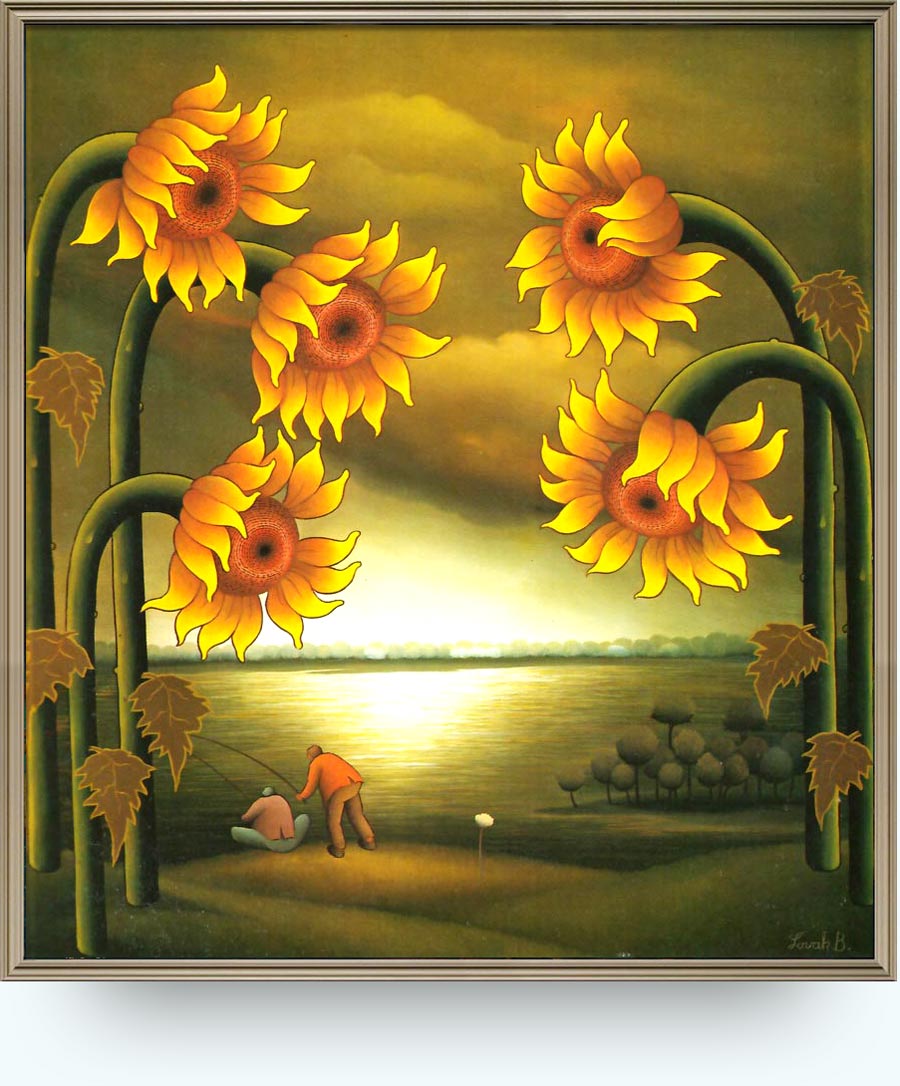

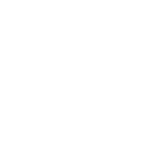 оложение дел с текстами требует краткого пояснения.
оложение дел с текстами требует краткого пояснения.В середине 1920-х годов Алексей Кручёных в одиночку приступил к обнародованию хлебниковских рукописей из своего собрания. Этот самиздат (размноженные на гектографе брошюры) — исключительная редкость в наше время.1![]()
Впоследствии молодому ленинградскому филологу Николаю Степанову было поручено подготовить к печати Собрание произведений Хлебникова, отвечающее научным стандартам. Учитывая неразборчивость рукописей и трудность доступа (особенно после 1916 года, когда Хлебников печатался крайне мало) к разрозненным изданиям поэта, задача казалась невыполнимой.
Первый том степановского (под общей редакцией Юрия Тынянова) издания вышел в 1928 году. За годы кропотливой работы учёный собрал и упорядочил все доступные рукописи и брошюры.2![]()
Было справедливо отмечено, что, помимо большого количества опечаток (не обязательно по вине редактора), Степанов без видимых причин опустил ряд важных произведений, произвольно объединял небольшие стихотворения (!) и просто неправильно вычитывал рукописи.
В подробном критическом анализе Тренин и Харджиев приводят, среди прочего, примеры выстраивания Степановым цепочек невнятных неологизмов, которые при правильном прочтении рукописи оказываются совершенно “нормальными” русскими предложениями.3![]()
Степановские датировки зачастую ничем не обоснованы, а иногда просто неверны.4![]()
![]()
Впрочем, поэт Николай Асеев, лично знавший Хлебникова, также не скрывал своего разочарования: „Часто встречаешь одно стихотворение, склеенное механически с концом другого. Часто поэма оказывается всего-навсего циклом свёрстанных воедино, в разное время и по разным поводам написанных стихов”.6![]()
Из оставшегося вне поля зрения Степанова собрания рукописей и писем Харджиев и Т. Гриц впоследствии составили гораздо более тщательно выверенный — хотя, как указывает критик Вольпе,7![]()
В 1972 году Владимир Марков завершил работу над сборником «Несобранные произведения», где, наконец, обнародовал историко-философские труды Хлебникова и предоставил важные библиографические сведения, изданные как заключительный том факсимиле «Собрания произведений» и «Неизданных произведений». Тем не менее, значительная часть хранящегося в ЦГАЛИ поэтического наследия Хлебникова ещё ждёт печатного станка.
После того как в 1960 году (в «Малой серии» «Библиотеки поэта») была переиздана весьма незначительная часть произведений Хлебникова, в юбилейном 1985 году вышло несколько небольших сборников,8![]()
![]()
![]()
Судите сами: прошло ровно два десятилетия с тех пор, как Пауль Целан сотоварищи впервые представили Хлебникова немецкому читателю в 1967 году в престижном «Kursbuch».11![]()
В 1972 году в серии «Новая книга» вышел двухтомник его произведений под редакцией Петера Урбана с поучительным послесловием, встреченный критиками почти с энтузиазмом.12![]()
Урбану удалось привлечь к своему проекту ряд известных поэтов (Целана, Энценсбергера, Яндля, Мона, Небеля и других) и первоклассных знатоков русского футуризма (Маркова, Розмари Циглер и других), обеспечив, тем самым, в равной степени высокий художественный и филологический уровень. Представление нескольких вариантов перевода отдельных стихотворений свидетельствует о том, что редактор действительно стоял на высоте задачи.13![]()
Единственный недостаток издания, на мой взгляд, заключается в том, что подборка текстов, в значительной степени сосредоточенная на авангардной поэтической практике и теории Хлебникова, показывает поэта несколько однобоко.
Даже незначительные огрехи в целом превосходных переводов14![]()
В 1976 году почти одновременно в ФРГ и ГДР были опубликованы два небольших сборника.15![]()
В конце 1984 года Марга Эрб опубликовала в Восточном Берлине расширенное — и весьма качественное — собрание переводов Хлебникова, включая уже изданные Урбаном.16![]()
Переиздание многих текстов на языке подлинника позволяет составить более полное впечатление о поэте, а подборка их выглядит убедительной и масштабной. Переиздание поэмы «Ночной обыск», где матросы-коммунисты расстреливают молодого человека, подозреваемого в принадлежности к белой гвардии, на глазах у его матери и сестры, а затем устраивают в их квартире попойку — настоящий подвиг: этот текст в Советском Союзе ни разу с 1928 года не был напечатан.
В ходу диаметрально противоположные воззрения на то, что именно стоит за этим понятием,17![]()
‘Миф’ обычно используется как антоним слова ‘логос’. У Гомера и в более ранней литературе оба употребления в наши дни соответствуют понятию ‘слово’. Единство такого рода свойственно сознанию, ещё не различающему слово „с субъективной стороны мыслителя и произносителя как обдуманное и рассчитанное”18![]()
Тем не менее, уже Гомер проводит различие между мифом и логосом, что весьма показательно в нашем случае. Миф, как показывают его сочинения, — это не только более древнее выражение в лингвистических терминах и, следовательно, более архаичное понимание сущности языка, но и ‘слово’ как прямое свидетельство вечности, того, что было, есть и будет. По мнению В.Ф. Отто, налицо „самораскрытие бытия в исконно освящённом смысле, не различающем слово и бытие”.19![]()
Подход Гомера закладывает основу для дальнейшего разграничения этих двух понятий, наблюдаемого с античной философии20![]()
![]()
Постепенное освобождение человеческого духа в постгомеровское время приводит к медленному, но верному подавлению мифического, которое сохраняется лишь отвлечённых формах. Высшей точкой этого развития, уже у греков, становится почитание логоса как выражения способности познания разумной основы бытия, дарованной человеку богами, разумной силы, управляющей первозданным хаосом. То, что христианство, с неизменным упорством проводившее демифологизацию в первые века нашей эры, отнюдь не порывает с наследием греческой мысли, очевидно, например, из терминологии Евангелия от Иоанна, где ‘Иисус Христос’ и ‘Логос’ — синонимы. Разумеется, стремление христианства к демифологизации, понимаемой как борьба с опасными пережитками язычества, поощрялось лишь до определённой степени, поскольку каждая, в конечном счёте, религия должна опираться на мифические предпосылки.
Только благодаря последовательному, начиная с эпохи Просвещения, обмирщению изначально божественно данного Логоса, миф был полностью разрушен. Независимо от какой-либо метафизики, Логос служит духу Просвещения как аналитический, главным образом, принцип. На пике духоподъёмной веры в силу человеческого разума мифическое мышление в качестве средства познания отбрасывается. Гегель отстаивает именно такую точку зрения, подчёркивая, что сущность вещей раскрывается лишь в их превращении в слово как Логос. Ибо
Полный отказ от мифа в эпоху Просвещения — характерное явление в истории мысли — привёл к доселе невиданному в науке пристрастию к нему, которое сохраняется и в наши дни. Основами современной мифологии (Крейцер, Клейкер, Фосс и другие) мы обязаны второй половине XVIII века.
С появлением романтизма началось движение вспять, последствия которого ощущаются и поныне. Особое значение в нашем случае имеет шеллингово понимание поэзии как мифотворчества:24![]()
Как и многое в его философии, отношение Ницше к мифу неоднозначно. Само слово ‘миф’ он использует преимущественно в «Рождении трагедии» — именно том произведении, которое в России было принято “на ура”.
Здесь Ницше освобождает миф от его укорененности в античности и возводит его в ранг современного конструкта. Таким образом, мифическое сознание позволяет не только освободиться от якобы лживой и враждебной жизни системы ценностей (христианство), но и заложить основу для более жизнеспособной культуры. Таким образом, Ницше, даже более последовательно, чем романтики, обновил миф, освободив его от соотносимости с преданием.25![]()
На примере Гегеля мы уже показали, в какой степени миф и мифическое мышление в рамках некоторых идеологических систем не только негативно заряжены, но и низводятся до уровня пережитков первобытного сознания, от которых следует освободиться. В особенности это свойственно марксизму.
Поэтому неудивительно, что советские мифологи (Фрейденберг, Лосев, Мелетинский и др.) в целом трактуют миф как исторически завершившийся этап человеческого миропонимания. В этом они принципиально расходятся с диалектической концепцией неомарксистских философов (Хоркхаймер, Адорно). Исключение составляют известные труды Бахтина, а также Голосовкера, чья главная работа «Логика античного Мифа», где он пытается осмыслить миф как онтологическую константу, до сих пор не опубликована,26![]()
Решающий вклад в концепцию жёсткого мифа внесли Хоркхаймер и Адорно в ставшей классической работе «Диалектика Просвещения» (1947), где предъявлена обоснованная, воистину современная модель взаимосвязи мифа и Просвещения, синтетического мышления и аналитического логоса в самом широком смысле.
„Миф сам по себе есть Просвещение, и: Просвещение отражается в мифологии”27![]()
![]()
Воззрения Хоркхаймера и Адорно подводят к выводу о том, что даже “насквозь прагматичный” мир демифологизирован только внешне. Стремление к овладению силами природы посредством науки приводит к цивилизации самопожирания. Породив миф о технике, человек подчиняется тем же, бессознательным по сути, механизмам, которые формировали мировоззрение Одиссея. И не только потому, например, что мифологизация техники проявляется в творчестве Хлебникова в различных формах; такой подход помогает правильно оценить значение мифического мышления в нашем столетии; диалектическая модель мышления — именно такая приемлема для целей, преследуемых в данной работе29![]()
Остаётся лишь сблизить две переменные: язык и миф.
Й.К. Амманн подтверждает, насколько мало даже стоящий на высоте современного просвещения человек может (или хочет) избежать этой объединяющей силы:
Подчёркивая образность мифического мышления, Амманн в своей попытке дать ему определение выявляет особенность, чрезвычайно полезную для изучения “неомифологической” поэзии Хлебникова и его продолжателей.
Связь мифа с уровнем чувственного восприятия подчиняет даже абстрактные метафизические размышления образности, столь свойственной поэзии: это одна из непосредственных точек соприкосновения мифа и поэтического языка, мифа и искусства в целом.
В своём капитальном труде «Философия символических форм» (1923–1929) Эрнст Кассирер предпринял попытку осмысления мифа в многообразии его исторических и региональных проявлений как универсальной категории человеческого миропонимания.33![]()
Существенным для нашей работы оказывается положение Кассирера о том, что мифическое мышление направлено на феноменальное; иными словами, вымысел мифического повествования переживается как реальность. Эстетический разрыв между современным читателем и (например) текстом Гомера не существует для мифического сознания в его неспособности строго разделить субъект и объект: миф и мир сливаются в единое целое, подобно тому, как искусство и мир сливаются в поэтической ведаве Хлебникова (Мир как стихотворение34![]()
Это имеет важные последствия для языка — первоначальной среды проявления мифа и религии как символических форм. Кассирер пишет:
Очевидно, при таком подходе язык не только является средством познания, но и сам эпистемологически нагружен.
Только благодаря тесному слиянию с мифом язык обрёл своё нынешнее могущество:
Для нас важно, что Кассирер предвидит автономию языка и мифа по отношению к чувственно воспринимаемому миру объектов, описывая их функции как „не имитации этой реальности, а её органы”.37![]()
Это имеет значение только в том случае, если мифическое сознание не признаёт различия между знаком и денотатом — факт, который Кассирер устанавливает в тесной связи с историей языка:
На это волшебное единство означающего и означаемого Хлебников и опирается в своей попытке обновления русского языка, итогом которой стала утопия всеобщей системы коммуникации (см. гл. 4.2). Конечно, аналогии с мифом не ограничиваются этой фундаментальной общностью, но мне кажется разумным опираться на более конкретные выводы из мифологии лишь в непосредственном контексте анализа отдельных текстов. Этих соображений, пожалуй, пока достаточно в качестве общей теоретической основы.
До самой смерти, несмотря на громогласные заявления, Хлебников оставался поклонником именно этих двух писателей, которых он, как и многих ведущих символистов, знал лично, хотя их школа в 1908 году, когда Хлебников приехал в Санкт-Петербург, выказывала явные признаки распада. С возникновением острой социальной напряжённости (включая печально известное «Кровавое воскресенье» 22 января 1905 года) и сокрушительным поражением царской империи в войне с Японией в 1904–1905 годах мистический взгляд символистов на историю сместился в сторону апокалипсиса. Валерий Брюсов (1873–1924), например, в своих рассказах «Республика Южного Креста» (1905) и «Последние мученики» (1906) проявил себя как искусный заклинатель Судного дня. В своих ранних работах Хлебников также обращается — в духе декаданса — к теме упадка значительных цивилизаций (см., например, его поэму «Гибель Атлантиды» 1909–1910).
Акмеизм, провозглашённый Сергеем Городецким (1884–1967), с которым Хлебников, по-видимому, долгие годы поддерживал отношения,39![]()
Первоначально действовавший с оглядкой на символизм журнал «Аполлон» стал органом этой группы, и Хлебников регулярно посещал её редакционные заседания в 1909–1910 годах. В 1910 г. «Аполлон», всё более заметно ориентируясь на неоклассические тенденции, печатает манифест Михаила Кузьмина «Кларизм», который тоже оказал — по крайней мере на некоторое время — влияние на Хлебникова. Я подмастерье и мой учитель — Кузмин,40![]()
Хотя кларизм, в отличие от акмеизма, оказался весьма недолговечным явлением, он, тем не менее, способствовал распаду символизма, о чём свидетельствуют продолжающиеся споры внутри кружка.
Примерно в то же время Хлебников окончательно порвал с символизмом как с теорией искусства, не отказавшись, однако, полностью от личных отношений. В 1912 году он всё ещё переписывался с Вячеславом Ивановым и в середине года написал Андрею Белому: «Серебряный голубь» покоряет меня, и я посылаю вам дар своей земли. Из стана осады в стан осаждаемых летают не только отравленные стрелы, но и вести дружбы и уважения.41![]()
![]()
![]()
Его постулат о том, что знание не может и не должно выходить за пределы возможного опыта, оказался неприемлемым для поколения, которое после “богоубийства” Ницше обнаружило себя в метафизическом тупике. Позитивистско-материалистическая теория науки не могла заменить русским их „жажду верить” (Достоевский).
Работы философа Н.Ф. Фёдорова (1828–1903), вновь открытые всего несколько лет назад сначала в Западной Европе, а затем и в Советском Союзе, своим полемическим запалом это вполне подтверждают. Во втором томе его главного труда «Философия общего дела» под заголовком «Кантизм как сущность германизма» о кенигсбергском философе сказано: „Крайний догматик в проведении границ, фанатик узости, доведённой до пошлости, он связывает человека по рукам и ногам”.44![]()
Канта неоднократно поносили как воплощение обмирщённого и строго систематического (= немецкого) мышления, он служил — особенно для славянофилов наподобие Фёдорова — отправной точкой воинствующей германофобии, которая очевидна у Вячеслава Иванова и молодого Хлебникова.
Поучительно наблюдать, как молодое поколение поэтов-символистов, эстетически оглядывающихся на Запад, порой либо следует Фёдорову до мельчайших подробностей, либо настолько ему обязано в умственном отношении, что вторит друг другу. Фёдоровскую игру слов, например, “кантизм — контизм” (отсылка к Канту и противоположному ему позитивисту Огюсту Конту) подхватывает и Хлебников, и Белый.
В драматическом гротеске Хлебникова «Чортик», язвящем петербургский кружок “аполлоновцев”, Чорт после пылкой декламации написанных в эпигонально-символической манере неназванной дамой стихов, диву даётся попавшей ему на глаза библиотеке:
Белый в романе «Петербург», иронизируя над символическими топосами (следовательно, и частицей своего личного прошлого), сочиняет, среди прочего, диалог между Аполлоном Аполлоновичем (!) и его сыном:
Именно в отношении к Канту видна многообразная зависимость раннего творчества Хлебникова — пусть даже направленного против декаданса — от символизма и философских течений, связанных с этим направлением, до принятия некоторых его положений целиком.
Приведём высказывание Фёдорова: „Вот уже сто лет (1804–1904), как Германия силится переступить пределы, поставленные немецкому разуму Кантом, но безуспешно”.47![]()
![]()
А.А. Фет (1820–1892) в 1881 году перевёл на русский язык его главный труд «Мир как воля и представление»; дальнейшие издания последовали в 1888 и 1892 годах; год спустя вышел перевод Н.М. Соколова.
Пристрастие Л.Н. Толстого к философии Шопенгауэра хорошо известно, и большинство русских символистов, особенно Ф. Сологуб (1863–1927), которым Хлебников восхищался, были в той или иной степени обязаны великому антиподу Гегеля.
Шопенгауэр, который уже в веймарские годы через Фридриха Майера соприкоснулся с индийской философией — вероятно, самое важное событие в его жизни — начинал как адепт Канта. Даже в предисловии к первому изданию «Мира как воли и представления» он назвал учение кёнигсбергского философа „важнейшим явлением, возникшим в философии за два тысячелетия”.49![]()
Это свойство человеческого сознания определять отношения предметного мира — основа основ мифопоэтики Хлебникова, а также его работ по философии истории, которые до сих пор остаются в значительной степени недооценёнными. Воображение в его случае способно воздействовать на окружающее: время — а значит, и история, — таким образом, отменяются как линейные величины: сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной.51![]()
![]()
Хотя Шопенгауэр не отрицает существования категориальной реальности, она — именно здесь он следует за Кантом — малодоступна человеку с его скудными возможностями познания. Сквозь фильтр субъективного восприятия окружающее остаётся погружённым в рассеянный свет: „‹...› так же верно, как субъективное лежит к нам ближе объективного, чьё воздействие, какова бы ни была его природа, всегда опосредовано первым и потому не более чем вторично”.53![]()
Этот кризис познания с подачи древнеиндийской философии очевиден у Хлебникова:
С нынешней точки зрения удивительна последовательность, с которой Шопенгауэр ещё в 1820 году в третьей части своих берлинских лекций «Вся философия» отстаивает зависимость любого знания от отношений пространства, времени и причинности, и из предполагаемого упразднения этих констант делает вывод об относительности объектных отношений:
В символизме критика познания и отказ от реализма как формы искусства уже неразрывно связаны с революционными нововведениями в естественных науках, которые в начале XX века в значительной степени перевернули ньютоновское мировоззрение: квантовая теория Планка в 1900 году (а также толкование сновидений Фрейдом), специальная теория относительности Эйнштейна в 1905 году и математическая формулировка пространственно-временнóго измерения Минковским в 1908 году — все эти открытия Хлебников, несомненно, знал.56![]()
Для Шопенгауэра поэт — не в последнюю очередь под впечатлением разносторонней личности Гёте — наделён способностью воссоздавать разрозненный мир отдельных явлений: „Поэт ‹...› несёт в себе всё человечество”.58![]()
Хлебников предъявляет это требование к писателю даже более отчётливо, как показывает его оценка Уолта Уитмена, названного медиумом эпохи, который как радиоприёмник принимает и отображает идеи, чувства, волевые волны человечества.59![]()
Для Хлебникова истинной основой возвеличивания художника как высшего судии ценностей оказался опыт разобожествления мира — недаром он называет XX век век-безбожник.60![]()
![]()
![]()
![]()
Главному литературному наставнику Хлебникова, Вячеславу Иванову, принадлежит в этом смысле особая роль.
Иванов первым подвёл целостную теоретическую базу под тезис Шеллинга о поэзии как мифотворчестве. Расплывчато, мистически религиозный Иванов придерживался мировоззрения, во многом напоминающего учение Платона. Согласно его представлению, за миром осязаемых явлений находится второй, важнейший мир, который он называл сущностью. Искусство — и в этом он следует Владимиру Соловьёву — должно быть направлено на то, чтобы этот сущностный мир узреть.
Ивановский подход к Ницше, изложенный им в нескольких эссе,64![]()
Впоследствии Иванов счёл книгу Ницше недвусмысленным призывом к возрождению древних культов. Проще всего это сделать в театре: именно здесь возможно напрямую обратиться к зрителю и вовлечь его в “культовое” действо. Фантастический проект Иванова „театр будущего”, призванный обратить вспять господствующее — по крайней мере, со времён Шекспира — обмирщение актёрского искусства, задуман как богослужение, в котором поэту отведена, по выражению Иванова, роль “теурга”: поэзия заменяет религию.
Соответственно возвышаются и задачи писателя. Наиболее лаконично Иванов определил их в своём эссе «Заветы символизма»: „‹...› быть религиозным устроителем жизни, истолкователем и укрепителем божественной связи сущего, теургом”.65![]()
Даже в столь упрощённом изложении последовательно мистический настрой этой поэтики очевиден. Он коренится в глубоком убеждении, что человечество не может существовать без мифического мировоззрения, хотя Иванов оставляет без внимания тот факт, что Ницше пытался преодолеть эту слабость в своих поздних работах.66![]()
Для Иванова миф — и в этом заключается новаторство его эстетики — более не имеет значения, выходящего за пределы самого себя в метафизическую точку отсчёта, но сам становится высшей истиной.
В творчестве Хлебникова можно выявить самые разные отголоски Ницше, включая его представление о дионисийском начале в искусстве. Идея опьянения, в форме поэзии призванного разрушить „лживый лоск мнимого существования культурного человека”,67![]()
![]()
![]()
В образ опьянения вписывается и то, что Хлебников — возможно, вслед за эссе Александра Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906, 1922)70![]()
![]()
Хотя подобные течения, нередко с самого их зарождения, находились под влиянием нескольких харизматичных фигур, вроде Маринетти в Италии или Бретона и Супо во Франции, русский футуризм представляет собой плавильный котел множества конкурирующих и существенно различающихся эстетическими устремлениями группировок. Соответственно, его сложно вписать в строго определённые временны́е и тематической рамки.
В этот кружок входили, среди прочих, Елена Гуро (1877–1913), которая проявила себя и как поэт; её муж — художник, композитор и теоретик искусства Михаил Матюшин (1861–1934); Николай Кульбин (1866–1917), врач, живописец и график; Михаил Ларионов (1881–1964), учившийся живописи, графике и театральному оформительству у И. Левитана и В. Серова. Позже к ним присоединились братья Давид (1882–1967) и Николай (1890—?) Бурлюки.
Они устроили несколько выставок в 1909–1910 годах, а в 1910 году выпустили альманах «Студия импрессионистов»,72![]()
![]()
Крупным литературным событием явилось основание в Чернянке (Херсонская губерния), на родине братьев Бурлюков, писательской группы «Гилея» (1911). Помимо Хлебникова, в неё вошёл молодой юрист Бенедикт Лившиц (1886–1939), которого Давид Бурлюк прочил в теоретики группы. В конце года к «Гилее» присоединились Владимир Маяковский, приятель Давида Бурлюка по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, и Алексей Кручёных.
Позже Маяковский назовёт конец 1911 года „подлинным рождением русского футуризма”, что не было преувеличением, поскольку именно «Гилея» породила кубофутуризм, важнейшее течение русского футуризма.
Само название этих новаторов показывает, насколько далеки они были от взглядов основателя итальянского футуризма Филиппо Т. Маринетти („Рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее Ники Самофракийской”74![]()
![]()
Разумеется, эти примитивистские устремения окажутся своеобразным выражением и отличительной чертой современности, если вспомнить, например, неизгладимое впечатление, которое скульптуры коренных народов, впервые показанные в Европе несколькими годами ранее, произвели на Матисса и Пикассо.76![]()
Итальянский и русский футуризм единит на этом этапе анархистское восстание против культуры прошлого, но под совершенно разными предлогами. Я тоскую по большому костру из книг,77![]()
![]()
![]()
Термин ‘футуризм’, ставший известным в России благодаря статье Кузмина в «Аполлоне», первоначально использовался нимало не похожей на «Гилею» группой, дочерней символизму. Несколько откровенных ничтожеств, называвших себя эгофутуристами, объединились вокруг петербуржца Игоря Северянина (1887–1942). Северянин, единственный заметный представитель этой группы, ненадолго присоединился к «Гилее» в 1912 году, но вскоре с ней порвал. Его наиболее влиятельные соратники быстро потерпели фиаско: Константин Олимпов (1890–1940) покинул Петербург в 1912 году и на некоторое время совершенно исчез из виду. Иван Игнатьев, пытавшийся сохранить группу после разрыва с Северяниным, покончил жизнь самоубийством в январе 1914 года, спустя два дня после свадьбы и неудачного покушения на жизнь молодой жены.
В декабре 1912 года «Гилея» обнародовала антологию «Пощёчина общественному вкусу. В защиту свободы искусства». Её сопровождал одноименный манифест, вероятно, самый известный документ русского футуризма на сегодняшний день. Полемика и сознательная провокация („Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с Парохода (sic!) современности...”) вызвали, наконец, долгожданный отклик у одураченных современников. Давид Бурлюк, Василий Каменский и Маяковский совершили поездку по 17 городам России с целью пропаганды своего подхода к искусству.
Это стало знамением времени: изящная словесность уже не роскошествовала в благоговейной атмосфере элитных салонов, она вышла за рамки частной жизни, предпочитая роскошным коллекционным изданиям эстраду или многотиражную ежедневную прессу (здесь Маринетти был выдающимся образцом для подражания). Параллели с впечатляющими сценическими выступлениями Маринетти в Париже и Милане, беспорядками в дадаистском «Кабаре Вольтер» в Цюрихе и бальными баталиями в Берлине80![]()
С «Пощёчиной» русский авангард вступил в новую фазу. Давид Бурлюк только что вернулся из Германии, где представлял молодое поколение русских художников на выставках «Синего всадника» в Мюнхене и в берлинской галерее «Der Sturm» вместе со своим братом Николаем, М. Ларионовым и его женой Натальей Гончаровой (1881–1962).
В Мюнхене Д. Бурлюк установил связи с Кандинским, чья основополагающая работа «О духовном в искусстве» только что вышла в свет. Для «Синего всадника» Бурлюк написал статью о “дикарях” России,81![]()
![]()
В Берлине они познакомились с Гервартом Вальденом, страстным сторонником Маринетти и апологетом так называемого „нового словесного искусства”, виднейшим представителем которого был Август Штрамм (умер в России в 1914 году83![]()
К началу Первой мировой войны русский футуризм пышно расцвёл. В 1913 году в Москве образовалась секция футуристов, в которую вошли Сергей Бобров (1899–1971), Николай Асеев (1898–1963) и Борис Пастернак (1890–1960). Под названием «Центрифуга» группа просуществовала примерно до 1917 года; образцами для подражания были Рембо и Рильке, что уже само по себе показывало её значительно более склонной к традиции, нежели петербургская фракция. В последующие годы футуристские группы появились на Украине (ничевоки, «Лирень»), в Тбилиси («41°») и Владивостоке. Их влияние на развитие русского модернизма незначительно. Некоторые вскоре отошли от футуризма (Пастернак), а Мировая и гражданская войны литературную деятельность свели почти к нулю. Не в последнюю очередь именно эти невзгоды способствовали наведению мостов, но два сборника, составленных совместно символистами и футуристами в 1915–1916 годах, остались практически незамеченными.84![]()
1913–1914 годы — пик влияния «Гилеи». Особым в истории русской литературы того времени случаем было то, что разношёрстная кучка провинциалов осмелилась не только покуситься на лидерство художественных кругов Санкт-Петербурга и Москвы, но и притязать на него: Маяковский вырос в имерийском винодельческом селе Багдади (Грузия, ныне Маяковский), Бурлюки и Кручёных родом из-под Херсона (Украина), Хлебников — из Астраханской губернии, Каменский — пермяк. Судя по их социальной принадлежности, “гилейцы” были воистину разночинцами XX века.
Возможно, именно этим и объясняется та неистовая горячность, с которой футуристы требовали возвращения к подлинно национальной литературе. Это программное требование, кстати, разделяли сподвижники Маринетти:85![]()
![]()
В 1912 году Хлебников уже называет Ремизова насекомое, некогда почитаемого Сологуба — гробокопателем и саркастически вопрошает глашатаев безысходности Арцыбашева, Сологуба и Андреева: Наука располагает обширными средствами для самоубийств; слушайте наших советов: жизнь не стоит, чтоб жить. Почему “искатели” не показывают примера? Это было бы любопытное зрелище.88![]()
![]()
Влияние художников группы «Союз молодёжи», на свой лад перекроивших мотивы и приёмы отечественного фольклора, отчётливо проявилось в склонности Хлебникова к народному и самобытному. Например, в 1913 году Михаил Ларионов устроил первую и по сей день единственную выставку народных лубков; Николай Кульбин и Кандинский вели переписку об этих издавна презираемых творениях воображения “низов”,90![]()
В 1913 году в сборнике «Дохлая луна» группа впервые назвала себя футуристами. Вскоре после этого онипоименовались кубофутуристами, не отказываясь от прежнего названия «Гилея».
Хотя уже давно замечено, что лирика Хлебникова сродни живописи кубистов,91![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
В 1913 году Александр Шевченко издал свою книгу «Принципы кубизма»; в том же году одновременно в Санкт-Петербурге и Москве вышли два перевода книги Глеза и Метценже «О кубизме». С 1909 года выставки современной (включая работы Матисса и Брака) западноевропейской живописи проходили в Одессе, Киеве и Санкт-Петербурге.
Термин ‘кубофутуризм’ примечателен, прежде всего, попыткой слияния двух диаметрально противоположных течений модернизма.96![]()
![]()
![]()
Религиозный мистицизм Кандинского или — в музыке — Шёнберга был не просто чужд итальянским футуристам, но вызывал у них яростный отпор. Например, в «Манифесте художников-футуристов» говорится:
На мой взгляд, явная несовместимость подходов объясняет некоторые стороны русского футуризма, делающие его столь неуловимым как историко-литературное явление, проясняет в корне противоречащие друг другу оценки цивилизации и позволяет понять, почему социалист Маяковский мог приветствовать начало Первой мировой войны,100![]()
![]()
Конечно, столь непрочная связь не могла быть длительной. Когда Маринетти посетил Россию (начало 1914) с циклом лекций, тайное стало явным. Маринетти тотчас навлёк на себя недовольство своих якобы сторонников, когда в первом же интервью назвал Толстого „лицемером”, а Достоевского „истериком” — бросаться подобными словами было позволительно русскому человека, но не заезжему декаденту. Такого рода отклик — очередное доказательство того, что провокационный задор «Пощёчины» многие её подписанты поддержали по тактическим соображениям.
Визит Маринетти привёл к разрыву между Бурлюками и Хлебниковым, который пишет Николаю (2 февраля 1914): Нам незачем было прививаться извне, так ‹как› мы бросились в будущее от 1905 г. ‹...› С членами «Гилеи» я отныне не имею ничего общего.102![]()
Хлебников, должно быть, счёл личным оскорблением то, что и в футуризме проявилось холопское низкопоклонство перед Западом, которое так претило ему в символизме.103![]()
![]()
Маяковский взял на себя роль посредника, но примирить стороны не смог, а вскоре грянула война, положившая конец всем спорам. Маяковского и Лившица призвали в армию, подобная участь ждала и Хлебникова (1916). Разумеется, при таком раскладе о дальнейших выступлениях не приходилось и мечтать.
Помимо Лифшица, сторонниками этой точки зрения оказываются преимущественно марксистские авторы, вынужденные из опасения бросить тень на культовую фигуру Маяковского отрицать существование “буржуазного” футуризма после Октябрьской революции. Это воззрение отчасти применимо и к Хлебникову, который после 1916 года вплоть до своей смерти пересекался с авангардными литературными кругами крайне редко. Его непосредственно футуристский этап де-факто завершилась роспуском «Гилеи». Однако в 1983 году была предана огласке записка Хлебникова от 1915 года из личного архива Корнея Чуковского; оказывается, разрыв с футуризмом произошёл годом ранее: Заявляю, что я больше к так называемым футуристам не принадлежу. В. Хлебников.106![]()
Уже по одному этому пространные рассуждения вроде „Постреволюционный футуризм — да или нет?” лишены для нас всякого смысла. Тем не менее, представляется целесообразным вкратце проследить путь кубофутуризма до самого финала, поскольку его история отражает крупные изменения в культурном ландшафте, затронувшие как самого Хлебникова, так и восприятие его творчества.
Лишь немногие известные писатели откликнулись на призыв к сотрудничеству, с которым обратился нарком просвещения А.В. Луначарский в начале 1918 года. Правда, некоторая часть интеллигенции ещё до революции поддерживала ленинцев, но в широких её кругах большевистский режим считался нежизнеспособным.
‘Футуристы’ — к тому времени под этим термином стали объединять всех новаторов — были одними из первых, кто безоговорочно поддержал новую власть. Для них, долгое время внедрявших в умы передовое искусство и эстетику, теперь, казалось, появилась долгожданная возможность оказать самое действенное влияние на построение общества, где будут пересмотрены все сферы повседневной жизни.
Поздней осенью 1917 года три старинных футуриста — Маяковский, Каменский и Давид Бурлюк — встретились в московском «Кафе поэтов», выступили с новыми стихами и в марте 1918 года выпустили первый номер «Газеты футуристов», изданный другом Маяковского Львом Гринкругом. «Манифест летучей федерации футуристов», датируемый этим временем, своими отчасти анархическими и всецело демократическими требованиями показывает, что революционный пыл футуристов уживался с их воззрением на правящую партию отнюдь не снизу вверх.107![]()
В определённом смысле отношения футуристов с властью о ту пору можно назвать браком по расчёту, симбиозом, в котором авангардисты взяли на себя роль допустимого, но подозрительного “enfant terrible”, дабы способствовать пропаганде коммунистической политики, одновременно находя в этой роли законный выход для своей ненависти к буржуазии и дворянству. Умелое использование прежних идей в агитационных целях показывает, например, дизайн “под лубок” знаменитых революционных речёвок Маяковского в «Окнах РОСТА».
Сближение сторон во многом обусловлено осмотрительной и либеральной (до 1922 года) политикой Луначарского. Вопреки вкусам В.И. Ленина, замшелого старовера в художественных вопросах, все усилия по созданию революционной культуры он направил на так называемых попутчиков, ибо партийных поэтов ещё не было, а буржуазно-аристократические в большинстве своём держались особняком. В любом случае, кроме идеологически не бесспорных представителей Пролеткульта, никто другой с той же страстью не взялся за новаторскую литературную работу.
Ленин оставался противником футуристов до конца своих дней, его стычки с Луначарским на сей счёт общеизвестны. Изменения в поэтической стратегии футуристов были неизбежны, если они хотели выжить как самостоятельное направление.
Надежды футуристов на широчайшую автономию искусства оказались несовместимы с марксистской эстетикой, а их мнение о том, что оглядка на буржуазное искусство равнозначна застою и ограничению художественного творчества, противоречила официальной партийной доктрине, которую Ленин предельно чётко изложил в статье «Лучше меньше, да лучше»:
Луначарский, хотел он того или нет, всё больше проникался “передовым опытом” классиков XIX века; об этом свидетельствуют некоторые его работы тех лет.109![]()
Настойчивое требование безоглядного новаторства в искусстве, отчасти пересмотренное позже, в период так называемого ЛЕФа, вызывало постоянные трения авангарда с официальной культурной политикой РКП(б) и явилось одной из причин окончательного провала движения, на первых порах — благодаря умелому продвижению своих членов на влиятельные посты в Наркомпросе — многообещающего.
Более того, требование разрыва с культурным наследием противоречило личным пристрастиям Луначарского, которые нельзя недооценивать.
Хотя поначалу нарком, возможно, и надеялся на “перевоспитание” футуристов, он был вынужден признать, что его затея провалилась. Оглядываясь назад, Луначарский признал изъяны своей политики соглашательства:
Усиление ортодоксальных марксистских групп вроде «Октября» и неуклонное возвращение в культурную жизнь художественно одарённого поколения “попутчиков” усилиями либерала А. Воронского и журнала «Красная новь» подрывали престиж футуристов в глазах культурной элиты.
Создание ЛЕФа было, помимо прочего, попыткой предотвратить надвигающееся угасание футуризма посредством создания жёсткой организационной структуры с целостной программой. Тем не менее, влияние футуризма неуклонно падало, и история его завершилась прекращением выпуска одноимённого журнала (не позднее 1925 года), хотя А. Кручёных открыто праздновал 15-летие движения в 1927 году,111![]()
![]()
Важнейшее авангардное литературное движение в России иссякло, его рупоры умолкли.
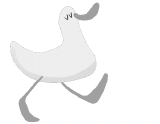
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 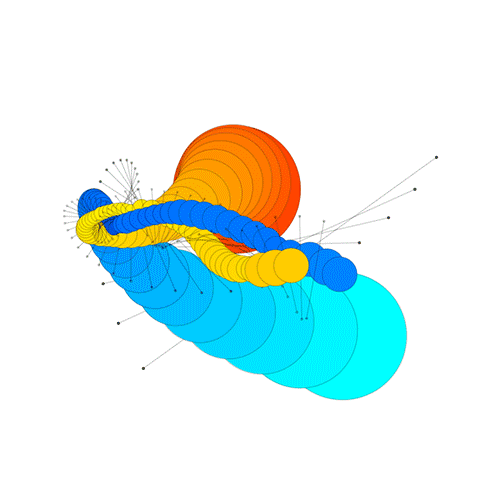 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||